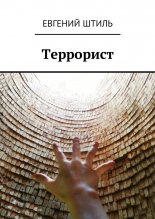Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов Фалин Валентин

Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© В. М. Фалин, 2016
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016
© Художественное оформление, 2016
Пролог
К познанию через сомнение
«Война Черчилля» – объемистый труд под этим заголовком издал в 1987 году Дэвид Ирвинг.
Нет, пожар запалил не Черчилль, утверждает Эрнст Топич. «Война Сталина: 1937–1945» – так назвал он свою книгу, выпущенную в 1990 году. Германия и Япония были, на взгляд Топича, всего лишь «инструментами» Сталина в его стратегии противоборства с более опасными «империалистами, прежде всего англосаксонскими».
Достоверность гипотез как Ирвинга, так и Топича подвергает сомнению Дирк Бавендамм. Это была «война Рузвельта», заявляет он и даже датирует момент ее развязывания американцами: 1937 год[1].
Впрочем, в почти неодолимой чащобе публикаций на темы Второй мировой войны вариантов не занимать. Вот Дэвид Л. Хогган. Он упрямо и многословно – на 931 странице – отстаивает версию, что в крушении мира повинны в первую очередь британский лорд Галифакс и министр иностранных дел Польши полковник Ю. Бек[2]. Не без соучастников, понятно.
Если так дальше пойдет, то, глядишь, на долю «величайшего революционера двадцатого столетия»[3] почти ничего не достанется. Холокост, может быть, и пара других «шалостей».
Муссолини. Дуче покидает чистилище отмытым едва ли не добела. Недавно всплывшие его дневники (британские эксперты не склонны выдавать их за очередное творение фальсификатора Кияу) запечатлели душевные терзания автора при принятии роковых решений. А сыщутся невзначай оригиналы адресованных ему писем У. Черчилля и некоторых других западных политиков, что не забывали привечать своим вниманием Муссолини в предвоенное время и после начала войны, – и публике откроется: итальянский диктатор терзался не один[4].
Букет японских милитаристов тоже заметно слинял на фоне «разоблачений» последних десятилетий. В новейших писаниях они чаще походят на политических простаков, которых коварные недруги завлекли в ловушку и затем распяли.
В общем, чем дальше в лес… Но как бы ни был сомнителен исторический жанр, присягающий идеологическим догмам и расхожей моде, некую положительную функцию он все-таки выполняет. Вольно или невольно подтверждается древняя пропись – «односторонность есть пагуба мысли». Любая односторонность, в том числе прилаживающая победителям ангельские крылья. Уводя в сторону от истины, отгораживая общественность от нее наращиваемым вширь и ввысь частоколом, последняя также поит и кормит исторический экстремизм.
Политиков различного склада наличие подобного частокола устраивало и устраивает. Здесь, наверное, объяснение тому, что ключевые и незаменимые документы, в том числе трофейные, и поныне остаются для исследователей недоступными. «Кто контролирует прошлое, тот программирует будущее» – это, похоже, не профессорский афоризм, но твердая идейная установка. Насколько она диссонирует с императивами третьего тысячелетия, его новыми вызовами и испытаниями, – другой вопрос, консенсуса по которому нет и не предвидится.
По этой и многим иным причинам возвращение к проблематике Второй мировой войны не просто оправданно. Оно необходимо и закономерно. С учетом масштабов совершавшихся в 30-40-х годах событий и глубины их воздействия – прямого и опосредованного – на структуру современного мирового сообщества. Принимая во внимание, что к той эпохе восходят многие из концепций и доктрин, по сию пору играющих совсем не второстепенную роль. Имея в виду, что при огромном количестве публикаций и исследований генезис величайшей из человеческих трагедий, ее развертывание и развязка остаются непроясненными, а где-то намеренно закованными в скобки.
Даже, казалось бы, солидные монографии, вобравшие обширный документальный материал, порождают подчас больше вопросов, чем дают убедительных ответов. Почему столь внешне нелогичными были поступки государств и их экспонентов во многих критических ситуациях? Отчего в самых что ни на есть очевидных обстоятельствах политиков влекли кружные и скользкие тропы? Как получалось, что здравый смысл пасовал почти всякий раз, когда идеология и реальность приходили в столкновение?[5]
С изъянами прослежены и вскрыты причинные взаимосвязи различных явлений и процессов в тогдашнем мировом развитии. Национализм и гипертрофированный эгоизм повсюду алкали свою корысть, смешивая друзей и врагов. Но только ли характерами и спецификой режимов обусловливались, к примеру, фарисейство и фабианство, обрекшие на погибель несметное число жизней?
При квалификации имевшего место быть важный симптом – мотивы поступков или бездействия. Именно тут особенно охотно хватаются за спасительные соломинки, когда в свете вскрытых фактов от ответственности за, скажем, саботаж коллективных усилий по возведению барьера на пути агрессий или за выбор оптимальных способов борьбы с ними, когда худшее становилось явью, невозможно увернуться. Ведь невольные заблуждения и несчастливые совпадения легче извиняются, чем завзятое вероломство и верхоглядство. А в какие непроницаемые закоулки прячут свидетельства двурушничества и подсидок, что, как доказывает опыт, обездвиживают и выхолащивают союзничество!
Короче, объективная истина обнаружила себя пока лишь избирательно и подцензурно. И не похоже, чтобы пробелы в исторической летописи скоро восполнились. Британское правительство объявило о намерении держать под спудом важнейшие предвоенные и военные документы по меньшей мере до 2017 года. Не говорит ли это само за себя? Спрашивается, чего таиться, если бы в материалах и документах, широким кругам неведомых, не содержалось ничего приметного?
С вашингтонскими секретами еще сложнее. Ф. Рузвельт держался обычая беседовать с глазу на глаз, распоряжения отдавать устно, не оставлять пометок на телеграммах и записках, которые докладывались ему министрами, генералами, послами и личными советниками. Как и И. Сталин, он не поощрял записей на проводившихся под его началом совещаниях. Вроде бы и обнародовать особенно нечего. Кроме…
Кроме документов Ф. Рузвельта, не вошедших в трехтомник У. Кимбелла «Полная переписка премьер-министра и президента»[6]. Берем том 1. Он охватывает период с октября 1933 по ноябрь 1942 года. Листаем страницы за июнь, июль, август 1941 года[7]. Ни слова о совершенном нападении нацистской Германии на Советский Союз.
Первое упоминание об этом встречается в послании Черчилля Рузвельту от 1 сентября 1941 года в контексте планов Лондона на Ближнем Востоке.
Кимбелл пересказывает мнение, будто советско-германская война была предметом устных переговоров глав двух правительств по трансатлантическому телефонному кабелю (с. 211). Весьма сомнительно, чтобы издатель сборника сам верил воспроизводимой им легенде.
Если копнуть на полный заступ, обнажатся небезынтересные пласты, освещающие «миссию мира» американского дипломата Самнера Уэллеса (весна 1940 года), вашингтонские прикидки на случай поражения Советского Союза в 1941 и 1942 годах, дискуссии политических и военных руководителей США и Англии касательно модальностей дальнейшего ведения войны в 1943 году. Пока тут на поверхность поднялись крохи[8].
Далее, правительство США завладело после оккупации Германии обширными документальными фондами нацистского рейха. Ценные материалы были изъяты, в частности, из вчерне сооруженной последней ставки Гитлера[9] и тайников, оборудованных нацистами на территории Чехословакии, Австрии и самого Третьего рейха. Американские службы интересовала не столько документация по планированию и осуществлению конкретных операций. Особо ценились данные о каналах нацистского проникновения в страны Старого и Нового Света, о поставленной на консервацию финансово-экономической базе в ожидании наследниками фюрера следующего часа x. Микрофильмы и картотеки, полученные Вашингтоном от генерала Гелена и его сотрудников, а также от Хёттля, – лишь капля в той «специальной» информации, которой предстояло сыграть не последнюю роль в «холодной войне».
Среди трофеев были, например, данные высотной авиаразведки территории СССР, проводившейся в канун нацистской агрессии специально оборудованными самолетами люфтваффе[10]. К 1945 году материалы не утратили практического значения.
Администрация США, насколько можно судить, не проявила чрезмерного усердия, чтобы документы из специальных нацистских фондов попали в распоряжение Нюрнбергского трибунала при разборе дел главных нацистских военных преступников. Не сыскались, среди прочего, «зеленая папка» Гиммлера, текст преступного приказа об уничтожении вермахтом в случае пленения советских военных и «гражданских» комиссаров (разослан по штабам вплоть до дивизий в 340 экземплярах), другие документы генштаба, служб безопасности, личного архива Гитлера. Еще бы – они могли обременить назревавшее привлечение нацистского генералитета на службу «демократиям»[11].
Что до Японии, американцы оказались, по сути, безраздельными хозяевами ее государственных бумаг. Как Вашингтон этой привилегией распорядился, иллюстрирует пример «отряда 731» генерала Исии, занимавшегося разработкой бактериологического оружия и методики его применения в экспериментах на людях, а также в диверсионных операциях против Китая и потенциального противника – СССР. Помимо этого, отряд опробовал пригодность при ведении военных действий инсектицидов и медикаментов различного профиля.
Исия и американские официальные лица вошли в сделку: Соединенным Штатам передавались восемь тысяч слайдов, запечатлевших опыты над животными и людьми, и другие материалы «отряда 731», а Пентагон и госдепартамент в свою очередь обязались позаботиться о том, чтобы ни один сотрудник отряда не предстал перед судом за участие в подготовке (и ведении) бактериологической войны. Соответственно правительству СССР отказали в передаче ему материалов об «отряде 731» с ссылкой на то, что «для обвинений в преступных действиях японской армии в отношении китайского народа (с использованием бактериологического оружия) нет оснований достаточных, чтобы квалифицировать их как военные преступления».
Между тем власти США владели точными сведениями о времени и обстоятельствах применения бактериологического оружия не только против Китая, но и Советского Союза. Летом 1942 года в ходе операции под кодовым названием «Летние маневры» в реку Дэрбул при ее впадении в Аргунь было внесено 12 килограммов бактерий сапа. Подобные диверсии совершались японцами вдоль маньчжурско-советской границы многократно[12].
Пустым и недостойным занятием было бы прихорашивать советскую, а также нынешнюю российскую практику обращения с архивными материалами – собственными и трофейными. Хотя Советский Союз не декларировал вслед за США, что за свою внешнюю политику не извиняется, но и без громких слов он старался и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А это предполагало сокрытие и препарирование правды, усечение всего негабаритного и обоюдоострого, создание тенденциозных композиций. Как и в других странах, документы перед публикацией часто подвергались в СССР «стилистической правке» и купюрам.
Странное дело – среди прочего обрекались на безмолвие документы, способные без долгих слов и доказательно найти – на пользу самому СССР – искомую истину. Но… При Сталине попало под запрет все, что хотя бы отдаленно походило на комплименты в адрес его соперников и жертв или давало повод усомниться в безгрешности и сверхпрозорливости вождя. После Сталина запрет лег на трехмерное освещение уже его собственной деятельности. Изгнали Хрущева, и на четверть века он оказался персоной нон грата. Тот же удел постиг постхум Брежнева.
Имелись препоны и иного свойства. М. М. Литвинову не нравился Г. В. Чичерин, первый советский министр иностранных дел. Литвинов не был в чести у В. М. Молотова и еще меньше вызывал симпатий у А. А. Громыко[13].
Последний не благоволил, кроме того, И. Майскому, причем настолько, что его, ветерана дипломатии, не удостоили в 1967 году приглашения на торжества, где отмечался юбилей советской дипломатической службы. Майскому годами отказывали в доступе к собственным дневниковым записям и другим материалам, изъятым у него при аресте в 1952 году и переданным «на хранение» в МИД.
Рестриктивная практика, донельзя сузившая даже высшему звену МИД СССР возможность обращения к архивам, вредила повседневной деятельности министерства, ибо вне поля зрения оставались первичная информация и прецеденты, столь важные в обычном международном праве. В этом смысле историко-дипломатическое управление МИД с годами стало напоминать Общий отдел ЦК КПСС, сидевший на горах информации, как собака на сене, послушная воле исключительно Генерального секретаря.
Трофейные архивы оценивались в СССР, если совсем сжато, под углом зрения выгод или невыгод раскрытия того, что конкретно оказалось в советских руках, степени проработки материалов архивариусами, возможностей использования соответствующих документов в специальной работе, рассекречивания считавшегося тайным в самом Советском Союзе. Приведем примеры. При фотокопировании оригиналов дневников Геббельса (всего 13 блокнотов) скрупулезно опускалось все, что наводило на мысль: секретные протоколы к советско-германским договорам 1939 года существовали. В одном из хранилищ, помимо документов, освещавших деятельность гестапо и контрразведывательных институтов рейха, содержались материалы, конфискованные нацистами у бывшего рейхсканцлера Й. Вирта и других лиц, которых гитлеровский режим полагал своими оппонентами. Никто не мог внятно объяснить, почему эту часть архива не возвратили бывшим владельцам или хотя бы не отдали в распоряжение ученых.
Особую разновидность советских фондов составляли «трофейные трофеи» – материалы, захваченные нацистами в Париже и некоторых других столицах. Весьма содержательными оказались документы французской разведки. В них прослеживалась, в частности, активность Германии, Англии и Франции по периферии России от Прибалтики до Кавказа с 1917 по 1939 год. Попытки рассекретить хотя бы сведения политического характера не встретили понимания в 1954–1955 годах у В. М. Молотова, а в 80-х годах – у М. С. Горбачева, А. Н. Яковлева и В. А. Медведева.
Целиной, в свое время едва тронутой и с годами в значительной мере утраченной для правосудия и науки, являлись документы штабов армий, корпусов и дивизий вермахта, карательных войск и нацистских комендатур всех видов, рассеянных по временно оккупированной советской территории. Даже для беглого ознакомления с преимущественно рукописными записями не было, особенно на местах, средств, штатов и элементарных условий.
С изложенными и неназванными оговорками можно, таким образом, рассчитывать на открытие в историческом океане неизведанных островов и целых архипелагов. Это вдохновляет. Скверно, однако, когда мощение путей к познанию на одних направлениях сопровождается подкопом под правду на других, нетерпимостью к мнению, которое не приемлет идейной монокультуры.
Если насилование истории не прекратится, Вторая мировой война из символа империалистического, расистского в полном смысле слова вырождения, из злодейства, которому нет и не может быть оправдания, превратится всего лишь в «ситуацию», вышедшую по вине некоих персоналий из-под контроля. В одну из тех, что случались несчетное число раз в прошлом и без драматизма должны восприниматься в будущем как непротивоестественное выражение будто бы внутренних потребностей развития систем и государств.
Вдумаемся всерьез. Не отзвуки ли это откровений сенатора Р. Тафта и других видных деятелей Запада, ратовавших в 1941–1942 годах за умиротворение Германии? Нацизм выступал, в их представлении, как другая форма правления, а не чуждая демократиям система. До определенного момента, так считалось, конкурировали различно выражавшиеся, но генетически не исключавшие один другого интересы, присягавшие силе и возводившие в норму гегемонизм более могущественного. Сложно, понятно, ставить под сомнение конструктивный опыт былого советско-американского сотрудничества, не размежевываясь с собственным прошлым, с политикой США военной поры.
Чего ждать от будущего? Перенятия эстафеты обиженного маккартизма в политологии и историографии? Атаки на деятельность Ф. Рузвельта реакция повела уже в 1945 году, когда она пускалась во все тяжкие, чтобы сбить высокий престиж Советского Союза, убедить общественность Запада в невозможности и недопустимости продолжения сотрудничества с Москвой. Такие авторы, как Ч. Беард, Г. Барнес, Дж. Бернхэм, У. Чемберлин, Ч. Тэнсилл, не приписывали Рузвельту вину за развязывание войны. Покойного президента осуждали за «некомпетентность», «распродажу американских интересов», «измену американскому образу жизни», ибо в войне его занесло не на ту сторону. Даже трумэновское «сдерживание» являлось в глазах реакционеров боязливо-оборонительной стратегией, несоразмерной «советскому вызову» и, что еще важнее, тогдашнему американскому потенциалу, позволявшему, как полагали, стереть «коммунистическую опасность» с лица Земли.
Что впереди – утихомиривание страстей и адаптация к качественно новой обстановке, сложившейся в мире в преддверии ХХI века? Ведь дело сделано. Так или иначе, Советский Союз канул в Лету. Является ли его крушение запоздалой местью Гитлера, победа над которым далась закритичным перенапряжением наших сил? Или это конечный итог холодной войны, результат в корне порочной стратегии в ней, выбранной Москвой и загодя обрекавшей страну на поражение? На вопросы подобного порядка сейчас, наверное, не сыщется категорических ответов. Связь времен, однако, не дано отменить: ее закономерности есть величина объективно заданная. От политиков, правда, в известной степени зависит, как, где и когда она себя проявит.
Пока ясно одно: черта под прошлым не подведена. И в нынешних, изменившихся условиях будет продолжаться с переменным итогом борьба между максималистами, выводящими свое право и свою мораль единственно из силы, и фракциями, не склонными обозревать новый мир сквозь старые очки.
На уровне современных знаний едва ли мыслимо проставить точки над «i» по большинству из рассматриваемых ниже вопросов. Если не впадать в амбициозность, придется, видимо, удовольствоваться в основном обозначением темы. Где-то, отталкиваясь от выверенных данных, можно вступить в диспут с устоявшимися или, вернее, стандартными мнениями, предложить альтернативное прочтение вроде бы давно известного. Опять-таки не оригинальности ради.
Взглянем на задачу проще: любой прогресс открывается ересью. Она не совсем уж недостойный проступок, если не объявлять греховодной мысль Альберта Эйнштейна: каждая новая эпоха вооружает нас новыми глазами.
Глава 1
Версаль – политический пустоцвет
Версальский мирный договор, под которым 28 июня 1919 года Германию понудили поставить свою подпись, победители тут же восславили как рубеж, разграничивавший нескончаемое насилие и вечный мир. Верили архитекторы Версаля в совершенство и несокрушимость того, что сотворили?
Допустим, текст гигантского юридического построения свелся бы к первым 26 статьям. В таком случае у нас поныне имелся бы повод сказать: попытка заново организовать всемирное сообщество, оснастив его международной конституцией, парламентом и правительством в виде Лиги Наций, не удалась, но она все-таки была предпринята в убеждении – будущим конфликтам путь преградит не победа, а согласие, не разделение наций и континентов на отверженных и элитарных, но их единение на принципах равноправия.
Победители искали, однако, компромиссы не с вчерашними противниками, а между собой. Немецкий историк А. Хилльгрубер справедливо замечает, что мировой порядок 1919–1920 годов возводился на сбалансировании интересов Англии, Франции и США[14]. Проигравшие войну обрекались неопределенно долго нести ярмо париев.
Пойди развитие по версальской схеме, немцам пришлось бы выплачивать репарации – 132 миллиарда золотых марок! – до 1938 года[15]. Советской России, которую числили тоже по разряду потерпевших поражение, уготовили нечто худшее. В наказание за разрыв с Антантой и своевольный выход из войны с Германией в ноябре 1917 – марте 1918 года ее вообще вытолкнули за борт, поставили вне закона. России, являвшейся на протяжении веков субъектом права и одним из столпов европейского и мирового порядка, назначили стать объектом, поделенным бывшими союзными и противными державами на «сферы действия» (У. Черчилль).
Не велика была беда остаться вне Лиги Наций, тем более что США – инициатор создания «универсального союза»[16], – отказавшись ратифицировать Версальский договор, исключили сами себя из его состава еще до того, как представители 45 европейских и внеевропейских государств сошлись 20 января 1920 года на первую сессию. Не станем, однако, спешить с заключениями.
Изоляционизм, лишивший Лигу отцовского благословения, не означал схода Соединенных Штатов с мировой арены. В 1919–1920 годах он не удержал Вашингтон от вмешательства в дела Советской России на стороне противников Ленина. Это была идеологически обусловленная и политически выверенная вооруженная интервенция, если не агрессия. Примем к сведению, что, в отличие от других интервентов, США до 1923 года официально держались принципа «целостности территории русского народа»[17] и на этом основании не признавали самостоятельности Литвы, Латвии и Эстонии как образований, отторгнутых от России кайзеровской Германией. Вместе с тем Вашингтон, насколько известно, не возражал, в изъятие из перемирия 1918 года и общего версальского урегулирования 1919-го, против «временного» оставления германских войск в Прибалтийских государствах, тогда как со всех остальных оккупированных территорий немецкий военный персонал подлежал немедленному удалению. Лигу Наций этот реликт Первой мировой войны тоже не лишил сна.
Больше того, до начала 30-х годов англичане и некоторые их попутчики смотрели на Лигу не столько как на организацию по поддержанию мира, сколько как на инструмент для координации действий враждебного Советскому Союзу свойства. С этих позиций Лондон предпринимал попытки оживить интерес США к Лиге Наций, впрочем безуспешно.
В целом о Версале как системе «стабилизации европейского мира» можно говорить лишь условно или с отрицательным подтекстом. Почему? Договор 1919 года педантично прочертил новые границы на западе и в центре Европы, не забыв про гарантии, казавшиеся, по крайней мере на словах, внушительными. Польско-германскую границу тоже обозначили, хотя и не слишком чеканным слогом. Но ведь этим территориальное многообразие в Европе не исчерпывалось.
У той же Польши, помимо западной и южной, имелись северо-восточные и восточные границы. Запамятовали или проигнорировали необходимость их фиксирования, которая громко давала знать о себе? А может быть, заранее связывали кое-какие расчеты с тем, что Пилсудский еще до простановки подписей под Версальским договором провокационно заявлял: рекомендации Верховного совета союзных держав от 8 декабря 1918 года насчет этнографического принципа при территориальном переустройстве (линия Керзона) и установления, вырисовывавшиеся на мирной конференции 1919 года, ему не указ. Ввиду неуемного экстремизма польского предводителя и его попыток противопоставить свое соглашение с немцами от 10 ноября 1918 года[18] перемирию между западными державами и Германией Пилсудского в Версаль не пустили как «нежелательное лицо», но и только.
O прекраснодушии или альтруизме применительно к Англии и Франции, к Ллойд Джорджу и Клемансо можно вещать не иначе как с изрядной долей сарказма. Асимметрии в международной безопасности являлись неотрывной составной политической философии демократов и демократий.
Стрельба на Западе кончилась – стало быть, долгожданный мир уже не журавль в небе, а реальность. Не важно, что на Востоке война, меняя личину, продолжалась. Это где-то там далеко, в тридевятом царстве, и не стоит того, чтобы сбиваться на минор в салонах Парижа, Лондона или Рима.
Не смущало, что правители возрождавшейся Польши не колеблясь хватались за оружие: в ноябре 1918 года Рыдз-Смиглы взял Львов, в декабре того же года, рассчитывая поставить мирную конференцию перед совершившимся фактом, польские национал-демократы созвали конгресс своих сторонников из Силезии, Западной Пруссии, Познани и устроили настоящую баталию с местной немецкой милицией. 19 апреля 1919 года настал черед Вильнюса: он был отторгнут от Литвы. К 17 июля 1919 года, уже после подписания Версальского договора, польские войска изгнали украинские национальные вооруженные силы из всей Восточной Галиции, входившей прежде в Австро-Венгрию.
«Гаранты» нового порядка в Европе должны были как-то реагировать? Реагировали. Командующий союзническими оккупационными войсками французской генерал Ле Ронд занял сторону польских «добровольцев», вторгшихся в Верхнюю Силезию и атаковавших размещенные там итальянские воинские части.
При ведущей роли французского генералитета и с помощью отряженных Парижем офицеров была подготовлена и осуществлена наиболее крупная из военных акций Пилсудского – поход на Киев, который предполагалось, если повезет, развить в поход на Москву. Перед нападением официальная Варшава отвергла советское предложение от 28 января 1920 года установить «линию соблюдения мира», которая на многих участках могла бы пройти восточнее линии Керзона.
13 марта Пилсудский в категорических выражениях довел до сведения западных союзных держав, что не примет иной границы с Россией, кроме границы 1772 года. Почему не 1612 года? Это будущий диктатор оставил за горизонтом видимости. Повышение ставок не исключалось. Французское добро было у Пилсудского в кармане, но сначала предстояло попотеть в сражениях.
26 апреля 1920 года польские войска вторглись в пределы Белоруссии и Украины. «Восточная программа» Пилсудского обрела статус польской национальной догмы, а после взятия Киева он был увенчан старым лавровым венком Батория и короля Владислава IV.
Наваждение сгинуло столь же споро, как и нахлынуло. Контрнаступление Красной Армии перенесло в конце июля – начале августа войну к стенам Варшавы. Правительство Скульского пало. Его преемник Грабский, обращаясь к западным державам, взмолил о помощи. Помощь пришла не только в форме «советов» генерала Вейгана, но и в виде массированных поставок военных материалов[19]. И от Сталина, не выполнившего распоряжение главнокомандования о передаче соединений Южного фронта в подчинение Тухачевскому, который из-за измотанности личного состава долгими переходами и отрывом от тылов попал в крайне уязвимое положение.
С подачи французов неожиданно представившийся шанс был использован. «Чудо на Висле» стало путеводной звездой Пилсудского. Оно же отозвалось семнадцать лет спустя гибелью М. Тухачевского и заодно других советских военачальников: Сталин не прощал обид.
Ожидание, что польско-советский конфликт явится прологом нового вала интервенции Англии, Франции и других западных стран (японцы еще удерживали обширные районы советского Дальнего Востока), побудило Москву искать замирение с Варшавой любой ценой: возникло фактически второе издание Брест-Литовского мира. Чем раздел Украины и Белоруссии лучше разделов Польши? Этого не доказал никто. И пока таких доказательств нет, безнравственно выдавать захваченные агрессором в 1920 году Западную Украину и Западную Белоруссию за «Восточную Польшу», как это практикуется поныне.
Версальская конструкция, следовательно, изначально несла в себе вопиющие перекосы. Соединенные Штаты придумали свой выход из положения: 25 августа 1921 года подписали отдельный мирный договор с Германией. Если судить по балансу прав и обязанностей, он выглядел как рефрен Версаля (с опущением всего относящегося к Лиге Наций и международному сотрудничеству). Логика американской позиции была примерно такой: интересы США не забыты, в остальном же поживем – посмотрим.
А что надлежало делать Советской России? Мирного договора с Германией, Австрией и их союзниками она не заключала (не по своей вине) и заключить не могла. Неустроенным и туманным оставался статус отношений Советской России с США, Англией, Францией и Японией. Признание Деникина, Колчака и прочих претендентов на Первопрестольную в качестве выразителей российской государственности, поддержание с ними полномасштабных политических, военных, экономических связей, прямая интервенция превращали западные державы в соучастников жесточайшего противоборства, обошедшегося нашей нации в 16 миллионов жизней. Вынужденный вывод с советской территории войск интервентов совершался как сугубо односторонний акт. Он не сопровождался урегулированием порожденных вторжением осложнений или взятием каких-либо обязательств перед советской стороной на будущее.
Лютая враждебность демократов к Стране Советов принимала иное по упаковке состояние. На вооруженные вылазки отряжались наемники, и, коль скоро давали себя знать любители острых ощущений типа Пилсудского или Скоропадского, их привечали, снабжали на бранное дело всем необходимым и никогда не одергивали.
«Непризнание» Советского Союза, которого из крупных держав дольше всех держались США, – совсем не формальность. Это – претензия полагать себя вольноопределяющимся по отношению к любым международно-правовым нормам и обычаям, в которых, между прочим, не отказывают даже противнику на войне.
Заключение Рапалльского договора между Советской Россией и Германией 16 апреля 1922 года не было, конечно, низвержением Версаля. Тем не менее советско-германское взаимопонимание показало, что у версальской модели разделения систем и государств на чистые и нечистые есть позитивная альтернатива. Рапалльский договор вопреки неулегшимся инсинуациям не был нацелен против какой-либо нации, не ставил под вопрос существовавшие границы ни на Западе, ни на Востоке, он признавал за каждым народом право определять строй своей жизни без вмешательства извне.
Если быть точным, в Рапалло состоялась гражданская панихида по мечте о перманентной мировой революции и были предприняты первые практические шаги в овладении искусством мирного сосуществования[20]. Хранителей версальского миража взбудоражило провозглашение равенства партнеров нормой международных свершений, ибо лейтмотив неравенства пронизывал большинство из 440 статей Версальского мирного договора – одного из наиболее пространных, но отнюдь не самых безупречных произведений политиков, идеологов и правоведов из теперь уже далекого 1919 года.
Можно было бы заняться выявлением взаимозависимостей между Рапалло и, скажем, крутым решением Франции и Бельгии (нейтральной страны) оккупировать Рур в январе 1923 года. Целесообразней, экономии места ради, дать слово профессору Карлу Буркхардту, последнему из верховных комиссаров Лиги Наций в Данциге и позднее президенту Международного Красного Креста. Он не принадлежал к безоговорочным поклонникам послеверсальской политической карты Европы. На вкус Буркхардта, неудачным был территориальный передел между Германией и Польшей. Польские претензии, полагал швейцарец, следовало щедрее удовлетворять за счет Украины и Белоруссии, которым он отказывал, как и Чехословакии, в праве на национальную целостность. Буркхардт сожалел, что Россию не постигла в 1918–1919 годах судьба Оттоманской империи. Вместо этого ликвидировали, писал он в 1959 году, Австро-Венгрию, «историческим назначением» которой являлось отражение угроз с Востока и, в сотрудничестве с сербами, «недопущение проникновения (России) к теплым морям»[21].
Натура цельная, аккумулировавшая настроения консервативного европейского истеблишмента в период между двумя мировыми войнами, Буркхардт пронес через всю жизнь неприязнь не к Советскому Союзу, а именно к России и россиянам, сетуя при каждом случае на верхоглядство Англии, Франции и США, которые предали забвению итоги – не всякому придет такое на ум – Крымской войны 1853–1856 годов. В 1925 году он отправил Гуго фон Хофманнсталю письмо, которое через тридцать лет счел достойным включения в сборник собственной корреспонденции.
Англия с доминионами и США высматривают для себя опасности в беспомощной Германии, между тем «подлинная опасность вызревает за германским фасадом, между Балтикой и Тихим океаном, на пространстве, еще неведомом человечеству. Федерация на базе повсюду внедряемого мировоззрения, поставленная на службу националистическому империализму, – это кристаллизация, которой невозможно противиться. Что в сравнении представляет собой германский реваншизм, так мало привлекательный в остальном мире, германский экспансионизм?.. Россия в качестве центра спасительного учения собирает силы, подобно арабскому миру, некогда воспламененному Магометом… Германия и Япония есть естественные противники русской экспансии. Однако Запад, английская империя и Соединенные Штаты, которым в долгосрочном плане эта экспансия угрожает больше всех, тщатся ослабить Германию и Японию»[22].
Непосредственного влияния на политику европейских держав Буркхардт еще не оказывал. Тем симптоматичней, что по сути аналогичный подход стал крестным отцом договора в Локарно (октябрь 1925 года, участники – Германия, Англия, Франция, Италия и Бельгия), фиксировавшего незыблемость франко-германской и бельгийско-германской границ, как они были установлены в Версале, а также сохранение режима демилитаризации в Рейнской области. Германия и Бельгия – соответственно Германия и Франция – взаимно обязывались «ни в коем случае не прибегать друг против друга к агрессии, нападению или к войне». Гарантами договоренностей выступали Англия и Италия. Наградой Германии за Локарно было ее принятие в сентябре 1926 года в Лигу Наций.
Вроде бы возникла причина для очередного ликования. Что плохого, если ранее навязанные обязательства подтверждались добровольно, а несколько поблекшие гарантии (США выпали из обоймы) прописывались каллиграфически четко заново? Можно было бы, похоже, идентифицироваться со словами британского министра иностранных дел сэра Остина Чемберлена (не путать с Невилем, будущим премьером), певшего хвалу Локарно как «водоразделу между годами войны и годами мира»[23]. Если бы…
Если бы договор не повторял и не усугублял родовой порок Версаля: дозволенное избранным не распространяется на изгоев. Яснее против прежнего оттенялось, что границы на востоке оставлялись без правового прикрытия, отдаленно сопоставимого с подстраховкой и перестраховкой на западе. Некоторые из восточных границ – к примеру, польско-литовская или советско-румынская – вообще были юридически не оформленными и международно не признанными. Простор для любых выводов и вызовов в зависимости от степени испорченности[24].
Советское правительство потребовало сатисфакции в виде «восточного Локарно», но встретило афронт. Москве пришлось искать эрзацы посредством двухсторонних соглашений (например, Берлинского договора о дружбе и нейтралитете с Германией от 24 апреля 1926 года) и региональных урегулирований со своими соседями.
Тенденциозные историки охотно обкатывают тезис: Берлинский договор, освеживший букву и дух Рапалло, документировал антипольский прицел германского ревизионизма. При этом, как правило, опускается тот факт, что первые штабные разработки рейхсвера, в которых в качестве ближайших целей определялись устранение особого статуса Рейнской зоны, ликвидация «польского коридора», возвращение в состав рейха Верхней Силезии, аншлюс Австрии, датируются декабрем 1925 года. И двух месяцев не истекло с момента лобызаний в Локарно. Воистину в Берлине не теряли времени даром. Благословения из Москвы там никто не ждал.
Если даже руководящие деятели Великобритании, глядя потерянному вслед, засомневались в том, что Версаль справился с задачей открыть мирную главу в развитии Европы, то простится историку смелость высказать гипотезу, возводящую в сан подлинного замирителя после Первой мировой войны пакт Бриана-Келлога.
Импульс к размышлениям о неделимости мира и необходимости всеохватывающей системы обязательств по его ненарушению дал французский министр иностранных дел Аристид Бриан. Он пригласил США – в развитие Локарно и первых признаков сближения позиций государств при обсуждении проблемы разоружения – заключить франко-американский договор об отказе навечно от войны во взаимных отношениях и тем подать пример для подражания остальным членам международного сообщества. К приятному удивлению Парижа, американцы высказались за с условием, что задуманное французами двухстороннее мероприятие сразу превратится в мультинациональное.
27 августа 1928 года представители 15 государств скрепили своими подписями документ, провозглашавший отказ от войны «как инструмента национальной политики» и обязывавший его участников стремиться «все споры и конфликты, которые могут возникнуть между ними (партнерами по договору), независимо от их истока или истоков, решать и регулировать не иначе, как мирными средствами»[25].
А. Бриан замыслил перебросить мосты через рвы, раздробившие Европу. Он выступал за учреждение конференции, прообраза Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству, как постоянно действующего политического института, наделенного определенными исполнительными полномочиями.
Кто воспрепятствовал, чтобы эта часть французского проекта реализовалась? Хулители пакта как «декларативного», «беззубого», «вводящего в заблуждение» увиливают от ответа на сей вопрос. Они предпочитают фиксировать внимание на оговорках, которыми сопровождалась ратификация пакта в США, Англии, Японии и других странах (обязательства по договору не умаляют права его участников «оборонять свою территорию в случае агрессии и вторжения»), как если бы сходные и гораздо более весомые оговорки не следуют тенью почти за каждым договором, что заключается по нынешнюю пору, особенно по проблематике безопасности.
Оппоненты из тех, кто слышит, как трава растет, усматривают в отвержении и осуждении войны происки Москвы. Чем иначе объяснить, что «Литвинов всячески форсировал ратификацию пакта»? И не только торопил его введение в силу, но и подкреплял фланкирующими акциями. С позиций Буркхардта, это не лезло вообще ни в какие ворота. Еще бы, Советский Союз добился подписания правительствами Польши, Румынии и Прибалтийских государств так называемого протокола Литвинова, который исключал войну как метод решения международных споров[26].
Вместо отлучения от европейских и мировых свершений бастарду – Советскому Союзу – дозволяли показывать флаг. Чуть позже незаконнорожденный осмелеет до того, что присвоит себе ведущую роль при определении понятия агрессии. 4 июля 1933 года между Румынией, СССР, Чехословакией, Турцией и Югославией (днем позже – и между Советским Союзом и Латвией) был подписан договор, раскрывавший смысл этого понятия. Принятое в договорах обозначение агрессии получило в честь советского министра иностранных дел название «определение Литвинова»[27]. Английские представители в это время твердили: Великобритания – империалистическая держава, и в качестве таковой она не может не быть агрессивной.
Нравилось это кому-то или нет, на 1933 год к пакту Бриана-Келлога присоединилось не менее шестидесяти пяти стран. Но летописная история цивилизации не знает ни одного правового акта (объявление войны не в счет), который бы сам по себе и мгновенно материализовался. Даже безоговорочные капитуляции не являются исключением. В целом сотворение человеческого мира зарекомендовало себя как чрезвычайно трудоемкое и малоблагодарное занятие. В отличие от библейского мира, отвлекшего Всевышнего от прочих забот на шесть дней и омраченного – по крупному счету – лишь грехопадением Адама с Евой да Всемирным потопом.
Непременной предпосылкой успеха конструктивного мероприятия являются взаимодополняющие действия партнеров, адекватные поставленной цели. Эффективность пакта Бриана-Келлога зависела не от совершенства легших на бумагу формулировок. Готовность и желание каждого из примкнувших к нему государств не искать для себя изъятий из новых, в чем-то стеснительных правил, не возвышать свое частное над общим целым, сделать отречение от насилия законом прежде всего собственного поведения были залогом плодотворности всего предприятия. Единственно они, и ничто другое.
Когда же в 1931 году Япония вторглась в Северо-Восточный Китай и за пять месяцев оккупировала территорию 580 тысяч квадратных километров, то была не «рядовая» военная экспедиция, коих в наш беспокойный век пруд пруди в Старом и в Новом Свете. Это была первая широкомасштабная проба стратегии молниеносных войн, очевидная и преднамеренная агрессия, как констатировала после семнадцатимесячного неспешного разбирательства специальная комиссия Лиги Наций, агрессия, сошедшая агрессору с рук[28]. Это был конец начала. Не пацифистов, штурмовавших на рубеже XIX–XX веков небо. Не лихой «большевистской» атаки на волчью мораль, прославлявшую силу и насилие[29]. Скончался вполне респектабельный и благопристойный эксперимент, ставивший задачей облагородить действительность, снивелировать ее контрасты.
Пакту Бриана-Келлога была суждена до обидного краткая биография. Он не стал предвестником лучшего будущего. Вовсе не потому, что его инициаторы ошиблись в выборе ориентиров. Недостало иного – воли участников превратить убеждение, если таковое присутствовало, в действие, с которым вынуждены были бы считаться агрессоры, любые противники добрососедского существования наций. Но когда в товарищах согласья нет, как заметил баснописец, если доброй воли дефицит или же она изводит себя в краснобайстве, если первое же проявление циничного правового нигилизма не карают, а пытаются от него откупиться чужими интересами, то латание прорех и пробоин терявшей остойчивость версальской системы ничем путным обернуться не могло. Разрыв обязательств делает партнеров по договору противниками, низвержение принципа освобождает место для его антипода.
Так и подмывает вбить гвоздь по шляпку: лучше никакого урегулирования, когда исчерпывающие гарантии недостижимы, – хотя подобный приговор заведомо неуместен и способен лишь ввести в заблуждение. Ни одно государство не отменяет своих внутренних законоположений – гражданских или уголовных, – сталкиваясь с их постоянным нарушением. Напротив, оно заботится о том, чтобы повысить эффективность юридических норм. Если без перехлестов, это только справедливо.
Декларация Великой французской революции 1789 года констатировала: «У естественных прав каждого человека нет иных границ, кроме тех, которые обеспечивают другим членам общества возможность пользоваться теми же правами. Эти границы определяет только закон». Перенесите сие познание на естественные же права каждой нации, примите за аксиому, что границы этих прав может определять лишь добровольно заключенный между равными договор, и будут подсечены корни большинства конфликтов. К сожалению, подобного не удалось сделать ни в ХVIII веке, ни после Первой, ни после Второй мировых войн. Политика на свой лад переиначивает философское отрицание отрицания. Здесь сила оплодотворяет силу, разнуздывает ее, вместо того чтобы стреножить и умерять.
Агрессией против члена Лиги Наций Китая другая страна – участник Лиги Япония застолбила не просто и не только собственную заявку на вседозволенность и произвол. Она провела межу между периодом, который с большими натяжками, но все же можно было счесть если не за мирный, то за послевоенный, – его апогеем и являлся пакт Бриана-Келлога, – и смутным временем вползания человечества в самый кровопролитный и разрушительный в его истории вооруженный конфликт.
Развязывание Второй мировой войны не было единовременным и одноразовым актом. Занавес поднялся не в 4.45 утра 1 сентября 1939 года[30]. Цепь событий, первым и, видимо, роковым звеном в которых стало вторжение Японии в Китай в 1931 году, а общим знаменателем – безнаказанность правоотступников, гнала развитие по наклонной чем дальше, тем с более крутой траекторией падения.
Агрессоры бросали вызов не одним прицельно избранным своим жертвам, но всему международному сообществу, цивилизации как таковой. Постфактум приходится с горечью записать: ни одно государство не в состоянии похвалиться, что оно оказалось тогда на высоте. Каждое из них несет свою долю ответственности за катастрофу, которую должно и можно было предотвратить.
Глава 2
Становление фронтов нового мирового пожара
Чем сложнее действительность, тем больше спрос на схемы. И чем незамысловатей схема, тем легче вселять веру в нее. Правительства и политики жируют на этой ниве. Первой жертвой их соперничества неизменно становится правда, особенно если она не поддается оскоплению или, хуже того, глаза колет. В век сплошной идеологизации правда лишена привилегии ходить в беспартийных.
Трудно отказать любому государству в праве вести свою национальную хронику событий. Несовпадения в углах зрения и акцентах не должны никого оскорблять и провоцировать на риторику. Пока удобства, потребные для самовыражения и самооправдания, не делают лабиринт, из которого давно пора выбираться, еще запутанней и безысходней.
Господствующая схема деления новейшей истории на главы гласит: Вторая мировая война открылась агрессией нацистской Германии против Польши. Эта схема – производное от гегемонистских замашек, от навязчивой мечты об «идеальном мире», вращающемся вокруг Альбиона. Как если бы речь не шла и не идет о глобальных явлениях, для которых неприемлем даже региональный подход, делающий не то что одну страну, а всю Европу пупом Земли. Эта схема рвет общую логику и ткань происходившего, прилагает разную шкалу мер и весов к различным жертвам одного зла – агрессии, подыгрывает идее: до какого-то момента, опять-таки определявшегося Лондоном, обхаживание агрессоров не было безнравственным занятием.
Обратимся к фактам. Они – упрямая штука. Фактам тесно и неуютно на угодных правителям орбитах. Факты понуждают исследователей не довольствоваться отрывным календарем, маркируя ход событий. Вопрос, когда, где, почему война непрошено ворвалась в чужие дома, совсем не академический. Ответ на него могут дать опять-таки факты, все факты, и ничего кроме фактов.
Где, когда и кем был упущен момент истины? В 1931 году, когда Квантунская армия, вторгшаяся в Китай, установила контроль над территорией, равной площади Франции? Или в 1933 году, после того как агрессор прихватил еще китайскую провинцию Жэхэ? Может быть, в 1935 году, с вторжением японских войск в Чахар и Хэбэй?
Государства, претендовавшие на почетное звание «миролюбивые», подверглись в 1935 году еще одной пробе: они приглашались определиться по отношению к нападению Италии на Абиссинию, в ходе которого фашистские войска под командованием маршала Бадольо применяли боевые отравляющие вещества против фактически беззащитного населения. Сколько «цивилизаторы» уничтожили людей, то неведомо. В войнах подобного типа подсчитываются подавленные «очаги сопротивления». Если для этого надо извести четверть или треть населения – не велика беда.
Лига Наций высказалась за санкции против агрессора. Англию и Францию удалось подвигнуть лишь на символические жесты. От нефтяного эмбарго, которое могло бы произвести впечатление на Рим, они категорически отказались. Мотив? Противодействие фашистской экспансии чревато опасностью «возникновения коммунистического правительства» в Италии и «коренным изменением расстановки сил в Европе»[31].
Не до конца ясно, разделяли ли в Вашингтоне британские страхи, да и не очень интересно. Существеннее другое. США получили разведывательные сведения о подготовке Италии к захвату Абиссинии в августе 1934 года.
Переполоха в Вашингтоне они не вызвали. Как-никак итальянцы и англичане сговаривались с 1919 года о расчленении Абиссинии, а в 1925 году Б. Муссолини и О. Чемберлен пришли к секретному соглашению, как сие без шума обделать. Сделка сорвалась из-за досадных публикаций во французской прессе. В январе 1935 года, заручившись поддержкой Лаваля, итальянцы попытались восстановить взаимопонимание с Лондоном. Британские консерваторы пошли навстречу фашистам. И опять журналисты вставили палки в колеса.
Государственный секретарь США К. Хэлл, зная, куда клонится маятник, направил 18 декабря 1934 года указание американскому поверенному в делах в Аддис-Абебе воздерживаться от каких-либо действий, способных поощрить правительство Абиссинии обратиться к Соединенным Штатам с просьбой о посредничестве. Хэлл принял, очевидно, к сведению информацию – совет Буллита, посла США в Москве: «Как только (Буллит ссылался на мнение итальянского собеседника) Абиссиния осознает, что никто на свете не окажет ей помощи, она быстро потеряет свое преувеличенное представление о независимости и согласится с обоснованными требованиями Италии, в результате чего не придется применять силу»[32].
По поступлении известия: итальянские войска вторглись в независимую страну, портившую колониальный лик Африки, и, таким образом, правительство Муссолини порвало с пактом Бриана-Келлога, – президент США настоял на немедленном опубликовании прокламации о нейтралитете (согласно резолюции сената и палаты представителей конгресса от 31 августа 1935 года). Ф. Рузвельт не захотел дожидаться итогов обсуждения в Лиге Наций возникшей ситуации: нейтралитет загодя освобождал Вашингтон от моральной и политической потребности присоединяться к любым возможным антиитальянским санкциям и демаршам, коль скоро таковые прорисовались бы, или иным способом выражать сочувствие жертве агрессии.
Нейтралитет США ни в коей степени не сдерживал Германию, Италию или Японию. Там, где они напрямую не задевали американские интересы, калькулировали агрессоры, Вашингтон не будет правовернее папы римского.
Если японцам и итальянцам авантюры сходят с рук, то с какой стати немцам пребывать в нерешительности? Первоначальное введение частей вермахта в Рейнскую область приурочивалось нацистами к 1937 году. Контакты с Лондоном на высшем уровне[33], инертность Франции и США подсказали: не упускайте случай. 7 марта 1936 года «германские войска» вошли в запретную зону. И всего-то этих войск набралось около тридцати тысяч человек, из них Рейн пересекли, чтобы продефилировать в Аахене, Трире и Саарбрюккене, три батальона. На сорок восемь часов нацистским правителям достало волнений: неужто пронесет? «Европа наблюдала. Никто не действовал», – читаем мы в монументальном труде «Германский рейх и Вторая мировая война»[34].
А причин поразмыслить и сделать выводы было в избытке. Забрало поднято. Гитлер отбросил версальские поделки (хотя произнес это вслух лишь в октябре 1939 года). Был объявлен недействительным Локарнский договор 1925 года. Его гарантов – Англию и Италию – не удостоили даже презрительным взглядом. Рим погряз в Абиссинии и по уши завязался на поддержку Франко, готовившего мятеж в Испании. Бездействие Муссолини извиняло бездействие англичан, если допустить почти невероятное: Лондон в ином случае выполнил бы свои обязательства.
Аргументация разрыва Берлина с Локарно тоже не могла не настораживать: заключив союзный договор с СССР, Франция совершила враждебный шаг по отношению к Германии. В переводе на недипломатический язык это означало: попытки закрепить статус-кво на Востоке будут отзываться расшатыванием статус-кво на Западе.
16 июля 1936 года мятежные генералы поднялись против законного правительства Испанской республики. На стороне мятежников – Муссолини и Гитлер[35]. В критические для Франко дни конца июля 1936 года нацисты предоставили в его распоряжение для переброски из Марокко в Испанию двадцать транспортных самолетов «Юнкерс-52» с истребителями сопровождения. Возник первый воздушный мост в истории вооруженных конфликтов.
Располагая исчерпывающей информацией о далеко идущих планах Германии, Италии и их протеже Франко, демократы облачились в тогу отпетых ортодоксов. Англия и Франция ударили… «невмешательством» по проискам противников европейского мира. Республика отдавалась на растерзание двум самым экстремистским режимам континента. На испанском театре выковывалась ось Берлин-Рим и хоронилась коллективная безопасность. А чтобы Испания не затерялась за голенищем у немецких нацистов и итальянских фашистов или, еще хуже, чтобы ее не занесло влево, британское правительство тайно поддерживало… каудильо.
Недалеко от официального Лондона примостилась администрация Рузвельта. 7 января 1937 года Вашингтон со ссылкой на билль о нейтралитете отказался помогать правительству Испании. США вплотную подошли к признанию мятежников стороной в конфликте, которая может претендовать на определенные права, если не на равный с законным правительством страны статус. Полвека спустя президент Р. Рейган лягнул Ф. Рузвельта за «половинчатость» и осудил тех американцев, которые в составе интернациональных бригад приняли на испанской земле первый открытый бой с фашизмом.
В апреле 1939 года Гитлер впервые привел сводные данные о жертвах, коих к тому времени стоило свержение в Испании республики, – погибло более 775 тысяч человек[36]. Есть оценки и помрачнее – свыше 1 миллиона. Как бы то ни было, насилие, захлестнувшее Пиренейский полуостров, как в капле воды отразило будущую общеевропейскую трагедию. О каком «невмешательстве» можно было вести речь, когда человечество уже погружалось в войну во всей ее жестокой очевидности?
Так, между прочим, невзначай, из-за политической неуклюжести или лености и рухнуло версальское сооружение, хотя его архитекторы вроде бы предусмотрели контрфорсы и прочие хитрости почти на все мыслимые и немыслимые ситуации. Не вдруг и не враз. Вернемся на несколько лет назад.
Гитлер занял кресло рейхсканцлера 30 января 1933 года благодаря благоволению президента Гинденбурга, мощных финансово-промышленных групп (не только немецких) и голосам консервативно-национал-социалистского альянса в рейхстаге. Состав первого кабинета (всего-то три министра – представителя НСДАП), внешнеполитическая и военная программы излучали вовне преемственность: в главном все как прежде, только лучше.
В своей «Второй книге», то есть в 1928 году, Гитлер выделил значение, особенно на начальном этапе, правильной внешнеполитической тактики: нужен камуфляж, облегчающий «воссоздание германской армии. Только после этого жизненные потребности нашего народа получат своего практического выразителя»[37].
В 1933–1939 годах Германия израсходовала на перевооружение больше ресурсов, чем Англия, Франция и США, вместе взятые. А в 1933 году Берлин выдал не меньше этих трех держав авансов, что не замутит воды, что в служении миру он видит первейшую свою заботу и что в мыслях не держит ревизии границ в ущерб чужим народам.
В циркулярной ноте статс-секретаря МИД Германии Б. фон Бюлова (30 января 1933 года) отмечалось, что также на будущее Германия «не поставит свою позицию в отношении заграницы в зависимость от максималистских заявок того или иного правительства»[38]. Внешняя политика поднималась над идеологиями, что, по мнению авторов, могло настроить Москву отстраненней воспринимать оголтелый нацистский антикоммунизм на фоне инсинуаций новых германских правителей в адрес Франции, шедшей за главного врага[39].
У руководства СССР, помимо циркуляра Бюлова, имелось в избытке материалов для раздумий, не оставлявших места самообману. В мае – июне 1933 года советская сторона повела дело к прекращению военно-технического сотрудничества между Красной армией и рейхсвером[40]. Целесообразность сохранения этих связей, завязанных сторонами в начале 20-х годов, ставилась под вопрос еще в 1928–1929 годах. Полпред в Германии Н. Н. Крестинский, подчеркивавший важность данной сферы для общего тонуса межгосударственных отношений, и советские военные, упиравшие на свои специфические интересы, каждый раз добивались пролонгации того, что на тот период было достигнуто.
На встрече с генералом А. фон Бокельбергом 8 мая 1933 года К. Ворошилов, А. Егоров и М. Тухачевский констатировали, что отношения между вооруженными силами как государственными институтами не могут быть отделены от «большой политики правительств». Германская внешняя политика была охарактеризована ими как «двуличная»[41].
Англия, Франция и Италия восприняли прорыв Гитлера к власти по-своему. Надежд на спасение Версаля нацификация Германии, конечно, не прибавила, но она открыла перспективу устранения призрака Рапалло. Под этим кисло-сладким соусом Б. Муссолини преподнес британскому премьер-министру Р. Макдональду и его министру иностранных дел Дж. Саймону 18 марта 1933 года «пакт четырех». В соответствии с ним на континенте должна была быть установлена директория Англии, Франции, Германии и Италии. Остальным, включая СССР, отводилась роль статистов или объектов политики. США оставлялись вне европейских дел. Одновременно намечалось совершить частичное территориальное переустройство, утолив аппетиты Берлина, главным образом за счет поляков.
Спонтанная реакция англичан на проект от 18 марта малоизвестна. В общем за, детали теряются в тумане. В научной литературе и закрытых служебных бумагах, однако, присутствует точка зрения, что мысль о «квартете» была навеяна Б. Муссолини именно Р. Макдональдом, хотя свои заслуги премьер не счел нужным оттенять.
Французы идею приняли, но так округлили углы, что формально из текста пакта трудно было вычислить, против кого он замыслен. Лондон и Рим французские поправки приняли. Гитлера эта редакция тоже устраивала. И не потому только, что давала «спокойствие и воздух»[42], желанные на крутом вираже. Существенней было, что западные державы принимали его правила игры, что на третий месяц пребывания на вершине власти он получал то, в чем демократы полтора десятилетия отказывали веймарским правительствам.
В данном контексте возникает обширный каталог вопросов. Были ли Стиннес, Крупп, Шредер и другие политически активные представители германской промышленной и финансовой олигархии лишь казначеями и толкачами при передаче канцлерского кресла предводителю нацистского движения? Или вернее иная интерпретация: они отождествляли себя с программными целями этого движения, ставили на «сильную руку, готовую сокрушить всех и вся во имя „Германия превыше всего“»? Покров над этой сокровенной тайной был едва приподнят в 1945 году, чтобы вскоре задернуться плотнее и дольше, чем до скончания века.
Другой слывущий за крамольный вопрос: было ли выдвижение Гитлера в канцлеры сугубо внутригерманской интригой или ей, выразимся предельно мягко, сочувствовали демократы в ряде столиц по обе стороны Атлантического океана? Не секрет, что Стиннес и прочие авторитеты немецкой элиты с 20-х годов систематически обрабатывали своих партнеров на Западе, рекомендуя им нацистов в качестве приемлемой или даже оптимальной альтернативы «марксистам» любого толка. Архивы, что держат под запором в США, могли бы кое-что высветить конкретно и предметно. Пока же отметим: «пакт четырех» не экспромт. Он как идея долго вызревал в недрах демократической дипломатии и взошел в известной нам форме на антикоммунистических дрожжах.
Итак, 15 июля 1933 года «пакт согласия и сотрудничества» – первый международный акт с участием нацистской Германии – состоялся[43]. Нет, это не оговорка. Сути не меняло то, что Национальное собрание Франции не ратифицировало пакт, вернее – ввиду протестов общественности правительство воздержалось вносить документ на одобрение парламента, и юридически он не обрел силу. И без ратификации Гитлер был введен в круг руководителей великих держав. С тех пор ему ни в чем не перечили, его просили лишь не перегибать палку, по принципу – всему свое время. Стартовала «политика умиротворения». Состоялась проба пера, которым через пять лет будет выведено пресловутое понятие «Мюнхен».
«Пакт четырех» в этом смысле не эпизод, а знак качества, символизировавший переход Европы в другое состояние. Военным его не назовешь. Но мирным оно тоже уже не было. Вступала в активную фазу стратегия, призванная, как комментировал заметный в ту годину лорд Ллойд, «отвлечь от нас (англичан) Японию и Германию и держать СССР под постоянной угрозой». И не просто под угрозой. «Мы, – заявлял лорд, – предоставим Японии свободу действий против СССР. Пусть она расширит корейско-маньчжурскую границу вплоть до Ледовитого океана и присоединит к себе дальневосточную часть Сибири… Мы откроем Германии дорогу на Восток и тем обеспечим столь необходимую ей возможность экспансии»[44].
А как отзывались европейские новации в Вашингтоне? О безразличии говорить едва ли уместно. При усердном изыске можно обнаружить отсветы треволнений. Но доказать, что администрация Ф. Рузвельта распознала, куда поползла стрелка политического барометра со сменой вех в Берлине, не удастся даже самым горячим почитателям президента. Как и властью предержащей в Лондоне и Париже, американской политической верхушкой руководила не истина, а идеологически зауженное представление о ней. Планы окружения и ликвидации Советского государства не вызывали протеста, несмотря на состоявшееся в 1933 году дипломатическое признание Соединенными Штатами СССР и многообещающий обмен нотами при установлении официальных отношений[45].
Активизация агрессивных сил побудила Советский Союз выступить 29 мая 1934 года с инициативой в пользу превращения Конференции по сокращению и ограничению вооружений в постоянную конференцию мира, наделенную полномочиями оказывать государствам, над которыми нависла угроза, «своевременную, посильную помощь, будь то моральную, экономическую, финансовую или иную»[46].
Франция и ряд малых стран заинтересовались этой идей. Англия была против. Госсекретарь США К. Хэлл в беседе с поверенным в делах СССР в Вашингтоне Б. Сквирским заявил, что он «не может связывать себя определенной позицией за или против проекта». Якобы по причине сдержанного отношения американцев к участию в любой международной организации[47]. Ларчик имел менее замысловатый замок: сближение с Советским Союзом по крупному международному вопросу неизбежно приняло бы антибританский оттенок, ибо за большинством международных интриг стоял тогда официальный или неофициальный Лондон.
«Хоть святых выноси» – гласит русская идиома, характеризующая накал страстей. В 30-х годах святых в Европе надо было искать днем с огнем. Парижу в любом случае делать заявку на последовательность и твердость позиции было бы не с руки.
Заявление Ж. Поль-Бонкура советскому полпреду в Париже В. Довгалевскому: «Мы с Вами приступаем к великой важности делу, мы с Вами начали сегодня делать историю»[48], – звучало красиво без скидок на стремление оставить автограф на летописной ленте. Однако оно не передавало того факта, что параллельно Франция творила историю иного свойства с Берлином. Особенно после убийства Л. Барту.
Ставя 2 мая 1935 года подпись под франко-советским договором о взаимной помощи, преемник Барту П. Лаваль думал в последний черед о придании ему должного веса и эффективности. Для него договор с Москвой являлся разменной фигурой в шахматной партии с Германией[49].
В начале 1935 года Лондон развил очередную комбинацию в расчете на договоренность с Берлином. Англичане нащупали слабую струну Гитлера, сыграли на его желании не просто казаться, но и быть. Они были готовы, легализуя германский экспансионизм (под видом признания «естественного» и объяснимого ревизионизма), снять или снизить планку ограничений на перевооружение рейха. Ставили на то, что «потребность в экспансии толкнет Германию на Восток, поскольку это будет единственной открытой для нее областью, и, пока в России существует большевистский режим, эта экспансия не может ограничиваться лишь формами мирного проникновения»[50].
Гитлер не слишком рисковал, объявляя 13 марта 1935 года: германские ВВС существуют – и вводя три дня спустя всеобщую воинскую повинность. На заседании британского правительства, состоявшемся 8 апреля, после визита министра иностранных дел Саймона и лорда – хранителя печати Идена 25–26 марта в Берлин, нацистские акции были приняты к сведению, а про себя консерваторы условились: Англия не станет брать обязательств «не допускать нигде нарушения мира»[51]. Если и когда англичане сойдут с позиции невмешательства, то исключительно ради собственных интересов, а не из жалости к жертве агрессии. Альбион и альтруизм скверно сочетались.
Дальше – больше. 18 июня 1935 года состоялось подписание англо-германского морского соглашения. Заявку на то, что ВМС Германии должны равняться не менее 35 процентам британских, фон Нойрат обосновывал потребностью господствовать на Балтийском море[52]. Балтийский бассейн пошел с молотка как сфера германского влияния. Не было совпадением, что, конкретизируя географические координаты «жизненного пространства», на которое он вознамерился накинуть саван, Гитлер в последующие годы не упускал случая называть «Балтику».
35 процентов от состава британского флота – на большее производственных мощностей германских верфей в то время и недоставало – рассматривались сторонами сделки как промежуточное решение. В будущем не исключался – при наличии обоюдного согласия – паритет.
Излишний вопрос: имелся ли у Гитлера повод не унывать после фиаско с «пактом четырех»? Разлад между Лондоном и Парижем, отделение Вашингтона от европейских дел, смыкание агрессивных режимов, соединявшее разбросанные по планете очаги конфликтов в глобальный кризис, параллельный поиск главными капиталистическими государствами антисоветского вектора – какой более благоприятной среды могли желать нацистские правители в качестве отправного пункта своей программы захватов и завоеваний?
Не случайно, скорее закономерно подписание 25 ноября 1936 года Германией и Японией «антикоминтерновского пакта» (с непременными для договорной практики тех лет секретными приложениями)[53], дополненного неделей позже итало-японским договором. Почти логично, что на 1937 год пришлись перевод Гитлером экспансионистской программы, изложенной в «Майн кампф», на рельсы государственной политики и переход Японии к полномасштабной войне против Китая.
Еще в 1927 году премьер-министр и министр внутренних дел Японии генерал Танака Гиити разработал программу экспансии и борьбы за мировое господство («меморандум Танаки»): «Для того чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские страны и страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами… Имея в своем распоряжении все ресурсы Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, Архипелага, Малой Азии, Центральной Азии и даже Европы. Но захват в свои руки контроля над Маньчжурией и Монголией является первым шагом…» «В программу нашего национального роста, – говорилось в меморандуме, – входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией на полях Монголии в целях овладения богатствами Северной Маньчжурии».
Нет прямых сведений о том, когда содержание «меморандума Танаки» стало достоянием Лондона, Вашингтона и Нанкина. Советское руководство располагало его текстом с 1928 года[54]. Добытые затем материалы о переговорах между японцами и их ставленником Чжан Сюэляном об образовании на территории Маньчжурии и Внутренней Монголии буферного государства под протекторатом Японии с обязательством маньчжурского правительства проводить агрессивную политику против СССР и МНР («Северная Монголия»), как и документальные сведения о параллельных и совместных действиях японцев и англичан по отрыву от Китая Синьцзяна с превращением его в плацдарм для борьбы с Советским Союзом, требовали не просто повышения элементарной бдительности, но принципиальной квалификации всех действий Токио в 30-40-х годах.
Удостоверившись в намерениях США, Англии и Франции не сходить с позиций созерцания, а где-то и потворства и заручившись обещаниями Германии и Италии оказать «активную военную помощь на случай, если в дальневосточном конфликте СССР окажется на стороне Китая»[55], Япония вторглась в Северный и чуть позже в Центральный Китай. Для пущего порядка японские милитаристы инспирировали «инцидент» с китайским военным персоналом у моста Лугоуцяо близ Пекина.
В осаде Шанхая участвовало 10 дивизий (около 300 тысяч офицеров и солдат) под командованием генерала Матсуи. За семь недель китайцы потеряли из числа военных 140 тысяч человек, расправа над гражданским населением описана следующим образом: из района площадью 4,5 квадратного километра не ушел никто, и еще месяцы город выглядел как после землетрясения[56].
После этого настал черед Нанкина. Гоминьдановские части практически не оказали сопротивления. Завоеватели, однако, отметили «победу» убийством около 200 тысяч человек – каждого второго жителя тогдашней китайской столицы.
На овладение всем Китаем японцы отводили 150 дней, примеряясь к графику разбирательства подобных дел в Лиге Наций и в коридорах власти Вашингтона, Лондона и Парижа. Токийские оракулы ошиблись дважды.
Правительство Китая обратилось в Совет Лиги Наций с просьбой о применении к Японии санкций. СССР поддержал эту просьбу. Англичане и французы добились того, чтобы «японо-китайский конфликт» был изъят из компетенции Лиги и передан на рассмотрение специальной конференции стран, «заинтересованных в положении на Дальнем Востоке». США и Советский Союз приняли статус «заинтересованных» и направили в Брюссель своих представителей.
Конференция заседала с 3 по 24 ноября 1937 года. Из докладов, в частности, военного атташе в Китае полковника Стилуэлла, правительство США знало о злодеяниях японских агрессоров. По словам заместителя госсекретаря С. Уэллеса, однако, США не чувствовали себя в состоянии провести различие между агрессором и жертвой агрессии и «на каком-либо основании сочувствовать жертве»[57]. Распространив де-факто эмбарго на поставки военных материалов в Испанию, Соединенные Штаты уклонились от применения положений закона о нейтралитете к Японии. Глава американской делегации Н. Дэвис предложил искать урегулирование на «приемлемой для обеих сторон основе». Не правда ли, снова призрак Мюнхена?
Возникший тупик вынудил прервать работу конференции «для дальнейшего изучения мирных методов урегулирования конфликта»[58]. Пауза и с ней японо-китайская война затянулись до сентября 1945 года.
Японская агрессия обошлась Китаю в 25–30 миллионов человеческих жизней[59]. Эти жертвы не принимаются в зачет при определении совокупной цифры потерь во Второй мировой войне. Так же, как не засчитывают погибших в Абиссинии. Про Испанию и говорить излишне.
По какому праву и по какой морали? Чтобы не навести пятен на незаходящее солнце западных демократий, не пошатнуть версию, что до 1 сентября 1939 года на Земле царил мир? Совершались «экспедиции», имели место «инциденты», «случаи». В китайском «случае» и в «абиссинской экспедиции» Гаагская и Женевская конвенции не соблюдались. Агрессоры не брали пленных. «Элементы» (так японцы окрестили сдававшихся солдат) тут же уничтожались.
«Никаких правил» значило «никаких запретов». Факт использования отравляющих веществ против Абиссинии выше приводился. В бойне, учиненной 3 апреля 1935 года у озера Ашанги, фашисты задействовали 140 самолетов, несших химические бомбы. В Китае агрессоры применяли ОВ свыше 530 раз. Число операций, где японцы «экспериментировали» на китайцах с бактериологическим оружием, известно только Токио и Вашингтону, но не раскрыто ими до настоящего времени.
Но ведь войны не было – стало быть, во Второй мировой войне не дошло до применения ни химического, ни бактериологического оружия. В заботе о беспробудной дреме совести опускаются еще кое-какие «мелочи»: выкуривание газами советских защитников катакомб в Одессе и Керчи, ликвидация до 1500 советских военнопленных в Освенциме, на которых химики из «И.Г.Фарбениндустри» и нацистские палачи «уточняли» убойные дозы «Циклона», душегубки, изуверски сплавившие убийство и транспортировку десятков (или сотен?) тысяч жертв.
3 ноября 1937 года открылась Брюссельская конференция, обсуждавшая «положение на Дальнем Востоке». 5 ноября Гитлер созвал совещание с участием военного министра Бломберга, главнокомандующих родами войск фон Фрича, Редера и Геринга и министра иностранных дел фон Нойрата. Если в памятной записке к четырехлетнему плану (август 1936 года) фюрер требовал: Германия должна быть готова вести войну с любым противником к 1940 году (Гитлер настраивался на возможность образования всемирного альянса против СССР[60]), – то на сей раз он по-крупному озадачил своих сообщников: «проблема германского пространства» подлежит решению к 1943–1945 годам. Не позже.
С кого начать? С Чехословакии и Австрии, и не останавливаться перед применением оружия. Когда? Выбор момента глава режима оставлял за собой – в зависимости от итало-французского вооруженного столкновения, в которое могла втянуться Англия. Попытки вычитать из «протокола Хосбаха»[61] (адъютант вермахта при Гитлере, присутствовал на совещании 5 ноября 1937 года), что крайний срок (1943–1945 годы) распространялся только на операции против Чехословакии и Австрии или относился в первую очередь к ним, поскольку Советский Союз, Балтика и Польша Гитлером не упоминались[62], не выдерживают критики.
«Проблему германского жизненного пространства» в толковании нацистов даже при изрядной дозе фантазии нельзя свести к перевариванию Австрии и Чехословакии. Подобное прочтение опровергается и последовавшими затем действиями фюрера. 21 декабря 1937 года был обновлен план операции «Грюн»[63] (предшествовавший вариант составлен 24 июня 1937 года). Принципиально новым элементом в подходе Гитлера являлась готовность к насилию и в том случае, «если та или иная великая держава выступит против нас»[64].
Предполагал ли Гитлер, что в стан его открытых противников перекочует Англия? Сомнительно, хотя пилюля, которую решили подсунуть Лондону, была трудноперевариваемой.
Статс-секретарь МИД Германии Э. фон Вайцзеккер изготовил 10 ноября 1937 года записку о политике в отношении Англии. В ней значилось: «Мы хотим от Англии колоний и свободы действий на Востоке. Англия желает от нас военного покоя, а именно: на Западе… английская потребность в спокойствии велика. Стоит установить, сколько Англия захочет заплатить за свое спокойствие»[65]. Гитлер набирался советов и мнений к назначенному на 19 ноября 1937 года приему заместителя британского премьера лорда Галифакса.
Правильнее всего было бы воспроизвести рядком немецкую и британскую записи редкостного коктейля из воркования и клекотания. Увы, тема диктует свои пределы. Поэтому только самое существенное.
В советских публикациях недавнего прошлого консервативный Лондон уж слишком бесхитростно пристегивался к национал-социалистской колеснице. Между тем англичане вели собственную сложную игру. Им (как Сталину в 1939 году) надо было оттянуть конфликт в Европе, используя паузу для пополнения своих арсеналов. Занятие небезопасное, но не без шансов на благополучный исход, считал Невил Чемберлен. «Я верю, – писал британский премьер, – что двойной политический курс – перевооружения и установления лучших отношений с Германией и Италией – проведет нас в целости через полосу угроз»[66].
Гитлер, заявил Галифакс (при встрече с фюрером в ноябре 1937 года), «совершил великое дело не только в Германии, уничтожив коммунизм в собственной стране, он закрыл ему путь в Западную Европу», поэтому Германия по праву может считаться «оплотом Запада против большевизма». На этой базе возможно «взаимопонимание» между двумя державами. От него не следовало бы отлучать Францию и Италию. Им надо было бы показать, что «германо-английское партнерство ни в коей степени не имеет антиитальянского и антифранцузского крена». «Хозяевами дома», решающими европейские дела (и заодно вопросы колоний), должны были бы выступать эти четыре державы. И только они.
Гитлер обусловил «взаимопонимание», в частности, аннулированием Францией и Чехословакией договоров о взаимной помощи с СССР, как осложняющих европейскую ситуацию и подстегивающих гонку вооружений. И словно малиновый звон в ухо Галифаксу: «Лишь одна страна – Советская Россия – может выиграть от всеобщего конфликта».
Нет-нет, никакого конфликта! Перефразируя слова Чемберлена[67], Галифакс заявил, что Лондон «смотрит в глаза (потребности) адаптации на новые обстоятельства, исправления прежних ошибок и на ставшие необходимыми изменения существующих реалий». «Мир, – по словам лорда, – не статичен, и никакие модальности перемен в существующих реалиях нельзя исключать». Единственная оговорка, которую делает правительство Чемберлена ради самосохранения: «Изменения должны были бы быть следствием разумных урегулирований».
Галифакс нарушил британскую традицию. Он не оставил собеседнику расшифровывать ребусы и продолжал: в европейском порядке, вероятно, «рано или поздно» произойдут перемены, которых желает Германия, конкретно – «в вопросах, касающихся Данцига и Австрии и Чехословакии». Англия имеет только одну заботу – «эти перемены должны состояться посредством мирной эволюции»[68].
Диалог Гитлер-Галифакс добавил нацистам уверенности, что с Англией Чемберлена удастся стакнуться. Берлину оставалось выстроить приоритеты – не идти ва-банк, поставив на кон собственную голову, пока довольствоваться тем, что само просилось в руки, проклиная про себя англичан за их старомодную замедленную приспособляемость к темпам современной жизни. Гитлер не обманывал себя и знал, что его стратегия молниеносных действий, построенная на предельном напряжении сил, не допускала серьезного сбоя, ибо любое поражение было бы началом конца. Но без замаха – все или ничего – нацизм не был бы нацизмом.
Китай, Абиссиния, Рейнская область, Испания, перевод европейских часов на военное время – взаимозависимость этих событий, происходивших последовательно и параллельно на различных континентах, обычно не акцентируется. Между тем налицо четкий ритм явлений, своеобразная периодическая система в действиях агрессоров, совпадения в замыслах, что касается методики шантажа, изоляции намеченных объектов экспансии и их захвата поодиночке. И еще – Япония, Германия, Италия успешно паразитировали вместе и порознь на хроническом недуге демократий – затмевавшем их рассудок антисоветизме.
Британский премьер Стэнли Болдуин в 1936 году отмечал, что в случае вооруженного конфликта Англия «могла бы разгромить Германию с помощью России, но это, по-видимому, будет иметь своим результатом лишь большевизацию Германии»[69]. На заседании кабинета 23 мая 1937 года Болдуин сетовал: «Мы имеем в Европе двух сумасшедших, коих ничто не сдерживает. Мы должны настраиваться на худшее»[70]. На худшее, ибо в рассматривавшихся вариантах не выкраивалось ниши, не уничижавшей достоинства СССР. Было бы «несчастьем, если бы Чехословакия спаслась благодаря советской помощи», – заявил Н. Чемберлен в апреле 1938 года[71]. Малую страну не захотели спасать, вняв также советам фон Бека и других фрондеров, занимавших заметные посты в Германии, которые считали операцию «Грюн» авантюрой и с риском для жизни раскрывали демократам глаза на слабости рейха. «Кто поручится, – возразил глава английского правительства, – что Германия не станет после этого большевистской?»[72]
На Темзе менялись премьеры, но не набор стереотипов, призванных сообщить достоверность «политике умиротворения», опускавшейся временами до подобострастия перед агрессорами. Поставить на место Муссолини – стало быть, подыграть в Италии «левым», защитить республиканскую Испанию – сродни потакательству «марксистскому заговору». Если фон Бек свалит Гитлера, то на свободу выйдут политические заключенные, а три четверти из них – коммунисты. Лучше дать поработать времени и нацистским заплечных дел мастерам.
Так ли в действительности страшились коммунизма, который к этому времени Сталин скомпрометировал больше, чем кто-либо еще? Советский диктатор превратил марксистскую теорию в бездушную схоластику, а партию – в безликую массу при некоем рыцарском ордене. Беззакония и репрессии Сталина унесли в СССР из жизни втрое или даже впятеро больше коммунистов, чем их уничтожили нацисты. Видели это на Западе?
В обильном литературном наследии У. Черчилля затерялась его книга под названием «Шаг за шагом» (1936–1939 годы), изданная в 1940 году в Амстердаме[73]. Это – сборник эссе, которые будущий премьер публиковал, начиная с 13 марта 1936 года, каждую вторую неделю. Комментарий от 4 сентября 1936 года касался московских показательных процессов.
Расправа над «отцами русской коммунистической революции», «архитекторами выведенной из логики утопии», «пионерами прогресса налево»[74] – повод темпераментному ненавистнику Советов для площадных ругательств, вместо некролога в адрес жертв Сталина. Это заслуживает упоминания постольку, поскольку позволяет выбрать верный размер при оценке в дальнейшем радиообращения Черчилля вечером 22 июня 1941 года и особенно его олимпийского спокойствия, чтобы избежать слова «безразличие», к страданиям населения СССР от нацистского нашествия.
Здесь же примечательней иное. «Как влияет этот забой на Россию – фактор силы в европейском балансе? – спрашивал Черчилль. – Данность в том, что Россия решительным образом отошла от коммунизма. Состоялся сдвиг вправо. План мировой революции, вдохновлявший троцкистов, разваливается, если не разрушен полностью. Национализм и некоронованный империализм России проявляют себя несовершенным образом, но все же как нечто более надежное. Вполне возможно, что Россия в старых одеждах личного деспотизма дает больше точек соприкосновения, чем евангелисты III Интернационала. В любом случае ее будет легче понять. Действительно, речь идет в меньшей степени о манифестации мировой пропаганды, чем об инстинкте самосохранения общества, которое боится острого германского меча, и имеет для этого все основания»[75].
Обратимся к запеву комментария: «Едва ли проходит неделя без того, чтобы не быть отмеченной мрачным, непоправимым событием, свидетельствующим о скатывании Европы в пропасть или о колоссальном давлении под поверхностным слоем». Ужасы Испании. Внутренний раздрай во Франции. «Гитлер объявляет количественное и качественное удвоение германской армии. Муссолини похваляется тем, что 8 000 000 итальянцев поставлены им под ружье… Повсюду в быстром темпе наращивается производство военной техники, а наука прячет свою бесчестную голову в нечистотах изобретений, служащих убийству. Единственно Великобритания, безоружная и беззаботная, предается иллюзиям безопасности». И с этой черчиллевской колокольни перечитаем его же вывод: заняв позицию антикоммунизма, Сталин сам создал предпосылки для сотрудничества с Россией.
Это не ремарка публициста, зарабатывавшего литературным трудом средства на пропитание. С 1936 года Черчилль чаще и громче, чем любой другой британский буржуазный деятель, выступал за военное сотрудничество в СССР как антитезу политике «умиротворения» и реальный шанс поставить заслон агрессорам, а затем поразить их.
Экземпляр сборника статей У. Черчилля, оказавшийся в распоряжении автора, уникален. И вот почему. В 1945 году у Г. Геринга, взятого американцами под стражу, появился досуг для чтения неслужебных бумаг. С карандашом в руках он основательно прошелся по страницам «Шаг за шагом». «Я прочитал книгу с большим интересом, – начертал бывший номер два нацистского рейха, – и извлек из нее пользу для моей защиты. Герман Геринг. 1945. Нюрнберг». Наибольшее число восклицательных и вопросительных знаков, подчеркиваний и прочих пометок выпало на комментарий «Враг слева».
В эссе У. Черчилля «Франция после Мюнхена» (4 октября 1938 года) Геринг выделял его заключительный абзац: «Преступно отчаиваться. Мы должны учиться находить в неудаче источники будущей силы. Наше руководство должно позаимствовать по меньшей мере долю духа того германского ефрейтора, который, когда все вокруг него превратилось в развалины, когда Германия, казалось, навечно погрузилась в хаос, не убоялся выступить против победивших государств и уже нанес им решительное поражение. Момент повелевает не отчаяние, но мужество и волю к восстановлению, и этот дух должен возобладать в нас»[76].
В конце книги под заголовком «Верные места» Геринг вывел: «С. 323 – пример немецкого ефрейтора». То ли решился подражать ему в упрямстве и после двенадцати гнуть свое, то ли вслед за «ефрейтором» увильнуть под занавес от ответа за содеянное, покончив дела земные самоубийством? Это не откроется никому.
Принцип неделимости международной безопасности, если в 1936–1937 годах он вообще котировался в западных столицах, плохо корреспондировал с деляческой схемой: во что обойдется реализация неудобного принципа, не дешевле ли беспринципность? И пока не унималась дрожь в коленках перед наглостью и силой соперника, в заначке держали чужие интересы, коими можно приторговывать для подстраховки собственных. Логика оппортунизма загоняла демократов в порочный круг двойных и тройных мер и весов, низводящих международное право в фикцию. Мир терял реальные временные, пространственные и веками наработанные моральные параметры. Идеологические шоры не дозволяли видеть дальше собственного носа.
Соверши Германия чудо, сумей она, реализуя гегемонистские концепции, обтечь Францию и умастить Англию, до общеевропейской войны могло бы и не дойти. Нападение на Советский Союз не в счет: нацисты выводили его за рамки обычного международного права. Это – конфликт не между государствами, а столкновение двух несовместимых идеологий. Устрой Гитлер подобный финт до агрессии против Польши, он пожал бы в среде демократов дружные аплодисменты.
Абстрактно-теоретическое допущение? Не скажите. Дитя предвоенных политических алхимиков, возмужав в переделках 1939–1945 годов, осело в документах администрации Трумэна под названием «война по идеологическим мотивам». Мирное сосуществование различных систем отрицалось как модус вивенди и для Западного, и для Восточного полушария. Необходимость считаться с кем-то другим представлялась излишней, когда под лавкой такой аргумент, как атомная монополия.
Непоправимым просчетом Токио было нападение на Пёрл-Харбор. Как признавался Ф. Рузвельт в беседе со Сталиным в Тегеране, не будь Пёрл-Харбора и объявления Гитлером войны Соединенным Штатам, американцы вполне могли бы остаться при своем «нейтральном» статусе.
До 1937 года включительно демократии приглашались состыковывать декларации и дела на примерах, как минимум, Китая, Абиссинии, Испании. Их уклонение от следования долгу не отменяло факта и реальности войны, а уверенность агрессоров, что возмездия не будет, лишь раззадоривала Японию, Италию, Германию, содействовала разрастанию зла. Репертуар театра абсурда, вход в который оплачивается жизнью миллионов, был производным от нежелания его постановщиков откликнуться на беду, постигшую ближнего или дальнего соседа. Сколько же держав, и насколько великих, должны признать войну войной, чтобы она в этом качестве была зарегистрирована в анналах истории? Иными словами: по каким критериям и кем расставляются мировые события по ранжиру?
С политиков спрос – как с козла молока. Людовик XIV изрек: «Франция – это я». Государственные мужи и дщери поныне исповедуют то же самое, правда, по большей части тайком или оснащаясь методом доказательства от противного: где нет меня, не может случаться ничего существенного.
Целесообразней поэтому обратиться к мнению ученых. Они, понятно, тоже только люди, и не каждый напрашивается в послушники правды. Некогда великолепно было сказано: пусть погибает Рим, но торжествует закон! От подобных высот наука и право удалены сегодня не меньше, чем от гибели Второго или Третьего Рима, пожалуй, даже больше.
Так что же творилось в земном доме до 1 сентября 1939 года? Наряду с вооруженными «экспедициями» против Китая, Абиссинии, Испании, были еще аншлюс Австрии, раздел и поглощение Чехословакии, присоединение к Германии Клайпеды (Мемеля), агрессия Италии против Албании, нападение Японии на Монголию, вылившееся в баталии на Халхин-Голе. Это – «локальные конфликты», поучают нас, ибо «мировые державы» держались от них поодаль. Позвольте, по крайней мере три, если не четыре тогдашние мировые державы уже вели войну. Сколько нужно было еще прибавить, чтобы количество перешло в качество? Чего недоставало Китаю, чтобы удостоиться державного статуса? С ним число воюющих составило бы пять. Консенсус среди историков, политологов, юристов отсутствует. Большинство склонно полагать, что «просто» войны стилизовал в «мировые» прежде всего вердикт Англии.
O вкусах не спорят. К гуманности взывать тоже бесполезно. Радетели прав человека издавна ведут двойную бухгалтерию при подсчете чужих и своих жертв. Миллионы погибших до 1939 года китайцев – это статистическая величина, как если бы их унесла эпидемия гонконгского гриппа. Примем допущение, что мировые войны пеклись на Темзе, как у чиновника Поприщина, рожденного фантазией гениального Н. Гоголя, луну делали в Гамбурге. Все равно неувязка получается. Англия объявила войну Германии 3 сентября. Если логика, прилагаемая к Китаю и другим, верна, то 1–2 сентября в Европе велась одна из банальных местных войн.
Серьезные исследователи не закрывают глаза на шаткость платформы, опирающейся на такую переменчивую величину, как эгоистический интерес. Наука есть дань фактам, а не капризам или моде, – всем фактам, в том числе самым несимпатичным. Иначе быть не может, поскольку история складывается из реалий, а не мнений, пусть самых сверхавторитетных.
А. Хилльгрубер толкует о нападении на Польшу как о «первой фазе европейской войны»[77]. Гитлер задумывал эту агрессию как «региональную войну» и, стремясь предотвратить вступление в нее Англии, заключил договор о ненападении со Сталиным. Следующая фаза «европейской войны» сопряжена, по Хилльгруберу, с поворотом стратегии Гитлера на Восток и подготовкой к вторжению в СССР. На период с 22 июня до 11 декабря 1941 года приходятся акции «всемирно-политического» масштаба – нападение Германии на Советский Союз и объявление ею войны Соединенным Штатам. Слияние европейской войны с восточноазиатским конфликтом в «мировую войну» (в лексическом смысле) произошло в результате внезапного японского удара по главной базе тихоокеанского флота США[78].
Видимость логики присутствует, но логики в чем-то искусственной. Почему германо-итало-японских союзных связей не хватало для сведения воедино географически разрозненных театров войны и потребовалось обязательно установление союзных отношений Соединенных Штатов с Англией, СССР и Китаем? Имело вовлечение Вашингтона в войну обратную силу для японо-китайского «конфликта» или последний превратился в войну только 7 декабря 1941 года?
Профессор Э. Еккель в общем разделяет методу А. Хилльгрубера: включение США против их желания в войну превратило ее из европейской в мировую. Он интерпретирует декабрь 1941 года как «перелом в войне» не в смысле капризов фортуны, а в силу «скопления всемирно-исторических событий, сконцентрировавшихся в несколько дней и позволяющих рассматривать их в сравнении и в глобальной взаимосвязи»[79]. Последняя фраза вроде бы намекает на комплексный, а не избирательный подход. Только от этого не делается понятней, что прежде мешало политикам, а ныне препятствует ученым осознать «глобальную взаимосвязь» явлений до смены Соединенными Штатами вывески «заинтересованная» на «воюющую» державу. Не был ли бы убедительней анализ под углом зрения не состава участников войны, а целей, которые преследовали государства-агрессоры, и не они одни?
Для ученых, в отличие от политиков, жертвы – не цифирь, и цель не может оправдывать средства. Наука обязана до последнего вздоха отстаивать принцип равноправия народов и высшую ценность человеческой жизни, без которых международное право и свобода человека – звук пустой.
Кто же все-таки прав: Генри Стимсон, министр иностранных дел в администрации Гувера (1929–1932 годы) и военный министр при Рузвельте и Трумэне, который четко отслеживает «путь во Вторую мировую войну… от железнодорожных рельсов под Мукденом до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки»?[80] Или Черчилль, квалифицировавший (пока не освоился с ролью премьера и не приступил к сотворению своей Второй мировой войны) интервенцию держав оси в Испанию и мюнхенский сговор о расчленении Чехословакии как акты войны? Или историографы, не просто продолжающие – с оговорками либо без оных – традицию «евро-» и «германоцентризма», но без зазрения рвущие связь времен и причин, когда и если без насилия над правдой их версии рассыпаются в прах? В самую пору припомнить завет античных греков: даже боги не в силах сделать небывшим то, что было.
12 марта 1938 года Германия насильственно[81] присоединила Австрию. Двумя днями раньше Г. Вильсон, эхо премьера Н. Чемберлена и его главный советник, довел до сведения Берлина, что Лондон будет «продолжать курс на соглашение с Германией и Италией». При этом, заметил англичанин, интересами СССР можно пренебречь: «В один прекрасный день господствующая там система должна исчезнуть»[82].
Привязка слов Вильсона к Австрии и Чехословакии была вне сомнений. «Исследовательский центр» Геринга расшифровал депешу МИД Франции своему посланнику в Вене: «Великобритания не готова призвать г-на Шушнига к сопротивлению». Вскоре центр перехватил донесения, из коих следовало, что французская «акция (в поддержку независимости Австрии) сорвалась только из-за того, что Англия выступила против» (так называемые «коричневые сообщения» 1183709 и 83722).
В Берлине, право, зря тратились на хлопотное и дорогое дешифрование. Чтобы постичь подноготную чванливых на публике тори, там вполне могли бы обойтись всем доступными протоколами британского парламента. Выступая в палате общин 24 марта 1938 года, Чемберлен высказал «суровое порицание» тем, кто разглагольствует о применении силы и таким образом чинит помехи деятельности дипломатии. Британское правительство не может заранее принять никакого обязательства в отношении района, где жизненные интересы Англии «не затрагиваются в такой степени, как это имеет место в отношении Франции и Бельгии».