Козлёнок за два гроша Канович Григорий
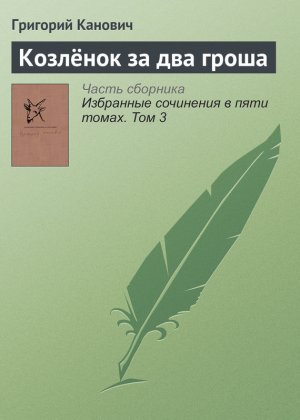
— В военно-полевом суде.
— Не знаю, — бурчит Шмуле-Сендер.
— Я знаю, — неожиданно произносит нищий.
— Ты?
— Вьо, орлица моя! Вьо! — понукает лошадь Шмуле-Сендер. — Ну, чего встала? Чего?
Гнедая провалилась передними ногами в яму и никак не может выбрести, тужится, фыркает, кусает узду, жилы на спине натянуты, как канат парома.
— Знаю, — хрипит Авнер. — Военно-полевой суд — это пожар.
— Все у тебя, Авнер, пожар, — печально выдыхает Эфраим.
— Военно-полевой суд — это лесной пожар. Одному его не погасить… Когда я был еще лавочником, я читал по вечерам всякие занятные книжонки. Попалась мне одна про польский мятеж. А польские мятежники, скажу тебе, Эфраим, не то что твой Гирш или его Берл.
— Мой Берл — не мятежник! — ужасается Шмуле-Сендер.
— Ладно, ладно… Во-первых, с них срывают эполеты…
— Что-что? — мигает водовоз.
— Эполеты… Знаки воинского отличия, — щеголяет своими знаниями Авнер. — Потом у них отбирают саблю.
— У Гирша ни эполет, ни сабли, — ручается Эфраим.
— Потом, — не слушая его, продолжает Авнер, — полковник в мундире…
— Подполковник…
— Полковник.
— Подполковник Смирнов… — вспоминает старик Эфраим слова эконома графа Завадского — всезнающего Юдла Крапивникова.
— Пусть будет по-твоему! Подполковник Смирнов встает из-за стола и зачитывает приговор. Потом в зал входят солдаты и уводят графа на каторгу. Все проходит торжественно и очень красиво.
— Торжественно и очень красиво? — стынет от восторгов Авнера Эфраим.
— Честное слово, — клянется нищий. — Мне бы так!..
— Как? — глядя на нечесаный хвост лошади, спрашивает Шмуле-Сендер. Рассказ Авнера всколыхнул у него в душе гордость за своего белого Берла. У белого Берла никто никогда не сорвет его эполет, не отнимет его саблю. За белым Берлом никогда не придут солдаты — разве что им срочно понадобятся самые точные часы в мире.
— А вот так, — говорит нищий, — чтобы за столом восседали полковники или генералы… и чтобы эти… как их… канделябры горели над головой… и чтобы не хромоногий Аба из хевракадишим — погребальной братии — явился за мной, а солдаты с ружьями наперевес…
— Побойся бога! — Шмуле-Сендер на миг расстается со своим белым счастливым Берлом. — Где это слыхано, чтобы еврей мечтал о солдатах с ружьями наперевес?..
— Ты ничего не понимаешь, Шмуле-Сендер, — горестно упрекает его нищий. — Если жить нельзя по-графски, то хоть по-графски умереть!..
Если бы не эта беда, думает Эфраим, если бы не злосчастный Гирш, стрелявший в генерал-губернатора, можно было бы так ехать и ехать, толковать о том о сем, вышучивать друг друга, острить, рассказывать всякие побасенки.
Что за сила заключена в дороге! Да, еврей счастлив только в дороге — на колесах ли, на пароходе ли, в мечтах ли (разве мечты — не та же самая дорога?). Может, потому и кочует он из края в край, из города в город, что нет у него своей земли, своего угла? Правда, и в дороге его оттирают на обочину, чтобы не мешал другим. Но для еврея и обочина — дорога. Спасибо и за обочину, думает Эфраим, только бы в ров не столкнули…
Ах, Гиршеле, Гиршеле, вздыхает он, не захотел ходить по обочине, вот и свалился в яму. Одному богу известно, удастся ли ему выкарабкаться оттуда живым. Явиться бы в военно-полевой суд, к подполковнику Смирнову и сказать бы: «Меня судите, господин подполковник! Меня! Вот вам мои эполеты! Вот вам моя сабля!.. Не смейтесь, не смейтесь, господин подполковник. У каждого человека есть свои эполеты и своя сабля. Даже у старого еврея-каменотеса. Только не все их видят, потому что они не на плечах, не на боку, а под кожей… Под кожей, господин подполковник! Велика ли радость видеть то, что видят все. Радость увидеть то, чего никто не видит. Не все ли вам равно, кого присудить к смерти… кого вздернуть на виселице… Ведь завтра… послезавтра вы забудете и лицо смертника, и его имя. Какая вам разница — Гирш Дудак или Эфраим Дудак? Впишите в свои бумаги Эфраим Дудак. Считайте, что это я стрелял в генерал-губернатора, и ваша судейская совесть будет чиста. Вы же приговариваете к смерти не живых преступников, а неживое преступление. У него нет глаз, нет крови, ибо если после каждого приговора вы, господин подполковник, представите себе веревку на живой шее и пулю в живом мясе, то вы сойдете с ума… Преступление — это я, Эфраим Дудак. У меня уже нет глаз, нет крови. А Гирш Дудак еще мальчик, маленький глазастый мальчик, не слыхавший ни о генерал-губернаторах, ни о евреях и неевреях, ни о бунтах и ни о погромах, ни о черте оседлости, ни об Америке и ни о земле обетованной, ни о судах и ни о тюрьмах; он еще маленький мальчик по прозвищу Гиршке-Копейка; он еще лазит в сад урядника Ардальона Игнатьевича Нестеровича, самого лучшего урядника и почтаря в Российской империи; он еще таскает за косу свою сестру Церту; он еще ходит к меламеду Лейзеру в хедер, и меламед Лейзер сечет его розгами за то, что тот ему, своему учителю, в бане вместо веника жгучую мишкинскую крапиву подсунул; он еще маленький мальчик, он еще растет. Не мешайте ему, господин подполковник, и он перерастет виселицу и дорастет до неба. Не мешайте!
Никто из них толком не знает, как проходит военно-полевой суд. Надо запастись терпением, доехать до Вильно, а там Шахна все растолкует, все объяснит. Эфраим, как зеницу ока, хранит адрес сына — Большая, 10. Большая улица, на которой живет большой человек. Так и должно быть: на маленьких — маленькие, на больших — большие. Шмуле-Сендер зря выхваляется своим белым Берлом. В Америке что — только шевели мозгами, только подкарауливай удачу, она там расхаживает, как городовой; там, в Америке, нет черты оседлости и евреев нет, то есть евреи имеются, но они — и Берл Лазарек в их числе — уже как бы неевреи… а американцы… евреи те, кого бьют… (так в своих письмах пишет Берл). А тут, в Мишкине ли, в Россиенах ли, в Вильно ли — уж о Киеве и Одессе говорить нечего — еврей вроде бы и не человек. Какой-нибудь исправник Нуйкин может среди бела дня ни за что ни про что схватить тебя за бороду и ради потехи водить по местечку, как медведя; и не смей эту бороду выдергивать — улыбайся, улыбайся, улыбайся, благодари за честь и внимание.
Будь Шахна в Америке, он бы не часами торговал, а с его головой стал бы…
Тарахтение телеги мешает Эфраиму придумать, кем бы стал его Шахна.
Впереди скребет своими верхушками небосвод мишкинская пуща.
Телега въезжает в нее, и нищий Авнер на всякий случай пододвигается поближе к Эфраиму. Силен старик, силен! Восемьдесят лет минуло, а сил словно не убыло, а даже прибавилось. Что из того, что сила его покрыта морщинами, припорошена инеем. Ведь и он, Авнер, и Шмуле-Сендер белы как снег.
В лесной тишине скрип телеги напоминает крик коростеля.
— В дороге, — говорит Авнер, — хорошо думать или что-нибудь уминать.
— Хочешь есть? — спрашивает Шмуле-Сендер, ведающий, как муж Фейги, провиантом.
— Нет. Я хочу думать, — скалит редкие зубы Авнер.
— Думай. Кто тебе мешает? — милостиво разрешает водовоз. — Думай. Мыслей у человека всегда больше, чем харчей.
— А я хочу думать вслух, — говорит Авнер.
— Думай вслух, — соглашается Шмуле-Сендер. Доброте его, кажется, нет ни конца, ни края. Ему хорошо. Ему очень даже хорошо. И едет он не по лесу, а по нью-йоркской улице (стрит, как пишет белый Берл), и с каждым поворотом колеса все ближе дом, на котором, как письмена на синагоге, золотом сияет вывеска: «Мистер Берл Лазарек. Лучшие часы в мире!» О чем бы Авнер ни думал, он, Шмуле-Сендер, не может остановить своего движения к этой благословенной вывеске, к этим золотым письменам, каждая буковка которых горячит и убыстряет в высохших жилах кровь. Лучшие часы в мире, беззвучно хвастается Шмуле-Сендер перед необозримой мишкинской пущей. Лучшие часы в его, Шмуле-Сендера, жизни. Как бы хотелось ему перед смертью припасть к ним законопаченным невзгодами ухом, услышать их тиканье, а потом… А потом ничего, ничего не страшно. Потом пусть время остановится, как остановились эти гордые литовские деревья.
— Что же ты, Авнер, не думаешь? — подхлестывает нищего Эфраим.
— Думаю, думаю, — приговаривает Авнер. — Думаю, почему я не с ними, а с вами?
— С кем… с ними? — удивляется Шмуле-Сендер.
— С деревьями, — отвечает нищий. — На свете вон сколько всяких народов и племен: и русские, и литовцы, и поляки, и мы…
— Ну? — предвкушает что-то сладкое, как изюм, Шмуле-Сендер.
— Мог же я, скажем, родиться ольхой… или ясенем… или кленом…
— Родиться ольхой… ясенем? — Шмуле-Сендер отпускает вожжи, поворачивается к Авнеру и Эфраиму, и кнутовище с измочаленной конопляной плеткой застывает в его руке вопросительным знаком.
— Если бы всевышний перед моим рождением спросил меня: «Авнер Розенталь! К какому роду-племени ты желаешь принадлежать?» — я бы ему ответил: к роду-племени деревьев.
— Тебе хочется всех пережить? — спрашивает Эфраим.
— Нет. Я хочу жить, как дерево…
— Ничего не чувствовать? — допытывается Шмуле-Сендер.
— Нет. Я хочу шуметь листьями, тянуться к небу, весной зеленеть, осенью желтеть… хочу, чтобы белка жила в моем дупле… Белка, а не печаль… И чтобы дятел долбил мою кору. Дятел, а не срам… не посох нищего…
— Ну что ты, Авнер, — нескладно утешает его каменотес Эфраим. Слова нищего, как угли. Эфраим перебрасывает их из сердца в голову, как из одной руки в другую, но они все равно жгут. Дерево Розенталь, думает Эфраим. Дерево Лазарек. Дерево Дудак. Дерево Мандель.
— А если тебя, Авнер, срубят? — сверлит нищего недобрым взглядом Шмуле-Сендер. Что за чушь он несет? Принадлежать к роду-племенн деревьев? Да деревья все одинаковые, нет среди них ни одного белого Берла, торгующего самыми лучшими в мире часами, нет ни одного Шахны, посылающего отцу каждые полгода два червонца. Правда, дерево… ясень… клен… не убежит с проезжим фармазоном. Дуб или вяз не станут палить в генерал-губернатора. Но сколько их, этих убегающих и палящих? Сколько? Раз-два и обчелся.
— Корень всегда останется. От корня новое дерево пойдет, — говорит Авнер.
— Значит, твой народ… народ евреев тебе не нравится? — пытается вытянуть затекшие ноги Эфраим.
— Нравится. Мне все народы нравятся. Все. Но лучше быть ольхой… А теперь, Шмуле-Сендер, скажи-ка своей гнедой «Тпру». Пора помочиться.
— Тпру, — как спросонья выкрикивает водовоз. — Тпру.
Все трое слезают и, отойдя друг от друга шагов на десять, заскорузлыми пальцами принимаются расстегивать свои видавшие виды портки.
Вечереет.
Лошадь осторожно ступает по лесной дороге. Мишкинская пуща вплотную подходит к телеге. Слышно, как о грядку чиркают мохнатые ветки елей и сосен, и пахучая, никогда не вянущая хвоя осыпается на седоков. Нет-нет да упадет тугая ядреная шишка, начиненная неземным смыслом.
Какой-то тревожный гул, то затихая, то нарастая, преследует телегу через всю пущу, и от этого размеренного, неумолчного гуда глохнет не только озвучивающий мысль голос, но и сама мысль.
— Она что, быстрее не может? — ежась от наступившей темноты, корит Шмуле-Сендера Авнер. — Тащится, как мертвая.
— Разбойников боишься? — подзуживает его Шмуле-Сендер.
— Я? Разбойников? Хи, хи, хи, — смеется Авнер, и снова мелкие козьи орешки сеются на дорогу. — Это разбойники, кецеле, нищих боятся. Говорят, напал однажды разбойник на нищего и замертво упал: стерег, стерег, а у бедняги карман в дырах. Вот когда, бог даст, твой Береле по этой пуще из Нью-Йорка поедет!..
— Да чтоб у тебя язык к зубам присох, дурень ты несчастный! Больше я у тебя ни одной горсти изюма не куплю!.. Ни одной пригоршни мака! К Славину пойду!
— Напугал!
— Мой Берл, да будет тебе известно, поедет не вечером, а днем, и не на телеге…
— А на чем?
— На самоходной карете. Понимаешь?
— Самоходной кареты и у графа Завадского нет — откуда она у твоего Берла? — по-купечески торгуется Авнер. — И вообще, что это такое?
— Это, — у Шмуле-Сендера ломается голос, и он долго не может его сплавить. — Это, — выдавливает он. — Это, Авнер, сто разбойников! Двести, — добавляет возница на всякий случай. — Вернемся домой, тебе покажу…
— Что?
— Берл фотографию прислал. Стоит рядом с этими двумястами разбойниками и улыбается.
Ясное дело — до Россиен им сегодня не добраться. Придется заночевать в каком-нибудь местечке. Одно счастье, местечек по тракту рассыпано столько, сколько звезд по небу, и всюду, слава богу, евреи живут; литовцы, те больше в деревнях держатся. Лучше всего скоротать ночь в синагоге. Как ни приветлив хозяин заезжего дома, господь приветливей. Только бы достучаться, добудиться бы… Иной служка дрыхнет, как рак зимой: жив, но в сон, как в лед, закован.
На худой конец можно дождаться утра под открытым небом, поблизости от жилья. На дворе — май, теплый, домовитый.
Эфраим, как и лошадь Шмуле-Сендера, может спать стоя. Ему бы только к чему-нибудь прислониться — к стене ли, к дереву ли, или к срубу. Эфраим привалится к грядке телеги и заснет, затокует носом, как тетерев. Шмуле-Сендер и Авнер пускай лягут на днище — поместятся. Авнер — щуплый, легкий, как комар, и Шмуле-Сендер не богатырского сложения, отцу его, Шолому Лазареку, портному, ниток, говорят, не хватило, чтобы сшить первенца покрупней да пошире. Завтра Эфраим велит им вернуться назад. Спасибо, скажет он, что столько были с ним, что аж до Россиен проводили, добрым словом душу согрели. Эфраим и гнедой спасибо скажет. Подойдет и поцелует ее в усталую морду. Лошадь Шмуле-Сендера любит целоваться, как женщина.
Попрощается он с ними и попросит, чтобы передали они поскребышу Эзре, что подался он, Эфраим, сперва в Вильно, потом, когда навестит Шахну и Гирша — в Киев, к Церте. Мол, явился к нему не кто-нибудь, а сам всевышний и благословил в дорогу.
Мол, сказал ему, как в незапамятные времена праотцу Аврааму: «Встань и иди». И вот он, Эфраим, пошел.
И еще пусть передадут поскребышу Эзре, чтобы бросил свое скоморошье житье и перебирался в Мишкине, в отцовский дом, только без Дануты. Он оставляет ему все имущество и все свои орудия: кирку, лопату, зубила, долото; он оставляет ему мостовую и кладбище, где столько воздвигнутых им, Эфраимом, надгробий. Да приумножит поскребыш Эзра собственную славу и славу отца!
И еще попросит Эфраим своих сотоварищей Авнера и Шмуле-Сендера, чтобы передали поскребышу Эзре: пусть он безвозмездно каждому из них после смерти камень на могилу поставит, ибо нескоро, ох, как нескоро пожалует из своей Америки белый счастливый Берл, снявшийся возле самоходной кареты, которая страшней, чем сто разбойников. У нищего Авнера, у того вообще никакой родни, никого, даже ольхи в мишкинской пуще нет.
Авнеру и Шмуле-Сендеру надо вернуться домой. Эфраим их помощь век не забудет. И он бы им помог, попади они в беду. Разве Эфраим не собирался обучить своему ремеслу Авнера? Но Авнер разок-другой долбанул киркой камень и сказал: «Лучше по миру ходить».
Телега въезжает в сонное глухое местечко.
Скрип колес дразнит чью-то собаку, которая заливается громким и неприветливым лаем.
— Синагога там, — показывает Авнер рукой на пригорок. Рука нищего плавает в темноте, как голавль.
Нищий всю округу знает. Бывал он, видать, и в этой молельне.
К удивлению Эфраима, дверь синагоги открыта.
А чего, собственно, ее запирать, думает Эфраим, ступая по щербатым, вытоптанным смиренными подошвами богомольцев половицам. Кто позарится на ржавый подсвечник?
Дом, где обитает бог, ловит себя на мысли Эфраим, сам себя стережет. Он не может быть заперт.
Запирайте свои чуланы, свои хоромы, свои дворцы, неизвестно к кому обращается в мыслях Эфраим, а на дом, где живет бог, не смейте вешать засовы!
— Ты, Эфраим, сюда ляг, — голавль подплывает в темноте к деревянной лавке. — А я заберусь на биму… на амвон…
— Грех, Авнер, храпеть на биме, — журит Эфраим нищего. — А где Шмуле-Сендер?
— Наверно, в телеге спит… Или лошадь привязывает, — отвечает Авнер. — А теперь, Эфраим, давай делать то, что мне больше всего нравится на свете.
— А что тебе больше всего нравится на свете?
— Спать, Эфраим. Когда спишь, то чувствуешь себя человеком. А когда просыпаешься — нищим. А тебе?
— Что — мне?
Эфраим растягивается на синагогальной лавке, подкладывает под голову свои пудовые кулаки, закрывает глаза, и темнота, словно пар в бане, обволакивает его теплом, покоем и тайной.
— Тебе что нравится? — терзает Эфраима неугомонный Авнер. Он стоит на амвоне лицом к востоку, к священной торе, как мудрейший из мудрых рабби Авиэзер, и сумрак смывает с него все: и старость, и нищенство, и одежду.
— Не знаю, — говорит каменотес.
— Восемьдесят лет прожил на белом свете и не знаешь, что тебе на нем нравится и что нет.
— Что не нравится, я знаю, — басит Эфраим.
— А что тебе не нравится?
— Давай лучше спать.
— Если не ответишь, глаз не сомкну. Буду ворочаться с боку на бок (где он там на амвоне будет ворочаться?) и гадать, что на белом свете не нравится Эфраиму Дудаку.
— Твои вопросы не нравятся.
— А еще?
— Еще? — зевает Эфраим. — Всего и не перечислишь.
— А ты одно назови, — требует Авнер. — Одно.
— Жизнь, Авнер. Жизнь.
— Вся жизнь?
— Вся.
— Не может быть!
— Может.
— Разве ты никогда не был счастлив?
— Спи!
— А мне, Эфраим, не нравится только половина… ну та, что после пожара… А до пожара нравилась, очень даже нравилась… И тебе — только не говори неправды! — нравилась, пока Лея не померла… пока Церта не сбежала из дому… пока Гирш не угодил за решетку… У каждого свой пожар…
Эфраим не откликается, лежит молча, прислушивается. Дождь вроде бы пошел. Кажется, по крыше бросились врассыпную напуганные коршуном цыплята.
Дождь все усиливается. Теперь по крыше уже не цыплята бегают, а куры.
Нищий Авнер стоит на амвоне незнакомой синагоги и молится. Странная это молитва. Ухо Эфраима различает в ней не только имя создателя, но и перечень всех товаров, которыми когда-то, в допожарной жизни, торговал розовощекий бессмертный Авнер Розенталь — изюм, корица, чай, марципаны, уксус, оливковое масло, леденцовые петушки, соль, мак, имбирь.
— И еще ниспошли мне, господи, не гонтовую, а несгораемую жестяную крышу и стены не из дерева, а из огнеупорного железа. Разве не в твоей воле все вернуть на круги своя — и птиц, и людей, и ветер? Верни меня туда — в ту, допожарную, половину моей жизни, одари меня детьми… Сыном и дочерью… Дочерью и еще дочерью… Их, этих нищих, ты же одарил… чем же я тебя прогневил, господи?
— Говори, говори да не заговаривайся, — басит Эфраим. — Это мы-то со Шмуле-Сендером нищие?
Авнер молчит.
— Мы?
— Ты не спишь? — откликается нищий.
— Ах, Авнер, Авнер! — корит его Эфраим. — О чем ты его просишь?
— А о чем его просить? — слова Авнера падают в темноту крупными дождевыми каплями. Такое ощущение, будто он стоит не на амвоне, а по щиколотку в студеной воде, которую не вычерпать ни до утра, ни до конца жизни. Вода все прибывает и прибывает, и Авнер боится, чтобы Эфраим не услышал, как она хлюпает под ногами.
— Бог, Авнер, не лавочник.
— Но тот, у кого собственная бакалея, — бог… пусть на одной улице… пусть в одном местечке…
В молельню входит Шмуле-Сендер.
— Хлещет, как из ведра, — говорит он в темноту. — Жалко лошади.
Он снимает мокрую рубаху, потом — штаны и остается в одном исподнем. Фигура Шмуле-Сендера белеет в темноте, как привидение.
— Вы где? — спрашивает он.
— Я здесь, — отзывается Эфраим. — А ты что такой белый?
— Я не белый. Я — мокрый.
— Сразу обиделся, — подливает масла в огонь Авнер. — Ну, как лошадь?
— В порядке, — отвечает Шмуле-Сендер. — Только подкова болтается на правой передней… Ухналь вылетел…
— Эй вы, ухнали, подковы, давайте спать! — ворчит Эфраим.
Дождь по-прежнему долбит крышу.
Авнер чувствует, как у него слабеют ноги, он опускается на настил орен-койдеша, упирается спиной то ли в ножку пюпитра, то ли в дощатую перегородку, и сон настигает его врасплох, как смерть. Он разевает рот, и из гортани, как из чайника с отпаявшимся носом, с шумом вырывается хриплый отчаянный клекот.
Шмуле-Сендер сердится на дождь. Сквозь перестук капель водовоз совсем не слышит своей лошади (он привязал ее почти к синагогальной двери). Да и в синагогальном оконце, куда он выглянул, ничего, кроме полос дождя, не видно.
— Спокойной ночи, орлица моя, — говорит Шмуле-Сендер и вбредает в сон, как в реку — сперва по пояс, потом по шею, потом вода смыкается над его головой.
Там, на дне, вместе со Шмуле-Сендером плавают его орлица, его верная, как Фейга, гнедая, его усталая, как гнедая, Фейга, его счастливый Берл, который гоняется в воде за часами, как за рыбами, и их, этих часов, видимо-невидимо, с чешуйчатыми циферблатами, с цепочками-плавниками, и все они дружно, в лад тикают — тик-так, тик-так, тик-так.
Тик-так, тик-так.
— Что это? Кровь? Сердце? Эфраим ворочается на лавке, лавка твердая, на ней только праведникам спать. Тик-так, тик-так.
Эфраим чувствует — время тикает в нем. Время. Все тише и глуше. Через год-другой тикание это прекратится. Но кроме времени, что тикает в человеке, есть еще другое время. Оно, как ходики — не внутри, а вне его. Когда ходики останавливаются, их снова заводят. О, если бы можно было так заводить то время, что внутри нас! Эфраим завел бы всех — начиная от прабабки Черны и кончая любимицей Леей. Есть еще — в утешение смертным — и третье время, которое не движется, но идет им навстречу. Эфраим знает: в том, третьем времени пока нет ни одного мертвого, там пока никто никого не судит, никого не вешают, там нет никаких границ, никакой черты оседлости. То третье время — будущее, которое, увы, живым не принадлежит.
Светает.
В богоугодное оконце молельни струятся первые лучи чужого восходящего солнца.
— Эй, есть тут кто? — сквозь сон Эфраим слышит чей-то голос.
— Есть.
— Доброе утро, евреи, — почему-то во множественном числе приветствует Эфраима сухопарый синагогальный служка с лицом и глазами всем надоевшей кошки.
— Доброе утро, — отвечает Эфраим.
— Это ваши телеги? — по-прежнему во множественном числе допытывается служка, и кошка прыгает на грудь Эфраима.
— У нас одна телега, — терпеливо и вежливо объясняет ему каменотес.
— А лошади где?
— Какие лошади?
— Ваши.
— У нас, почтенный, одна лошадь.
Просыпается нищий Авнер.
Из глыбы сна выныривает облепленный чешуей американских рыб-часов Шмуле-Сендер.
— Наши лошади во дворе, — говорит Шмуле-Сендер, предчувствуя что-то дурное и незаметно для себя переходя на множественное число.
— Ваших лошадей во дворе нет, — говорит синагогальный служка, и принимается шарить по углам молельни, словно в каждом припрятано по гнедой.
— Что вы там ищете? — не выдерживает Авнер.
— В писании сказано: раз есть телеги, должны быть и лошади. Я вас спрашиваю, где ваши лошади? Вы что, днем сами впрягаетесь, а на ночь распрягаетесь?
И тут бедного Шмуле-Сендера осеняет. Он вдруг бросается к двери, распахивает ее с таким неистовством, словно синагога — не синагога, а конюшня.
Эфраим видит, как водовоз бежит в исподнем по двору, падает, встает, закатывает на ходу белые штанины, добегает до телеги, из которой сам вчера выпряг лошадь, хватается за оглоблю, потом за другую, поднимает с земли кнут и начинает в какой-то слепой ярости хлестать себя по лодыжкам, по спине, снова по лодыжкам, промеж лопаток, как веником в бане.
— Шмуле-Сендер! — кричит Эфраим и выбегает во двор. — Шмуле-Сендер!
Водовоз полосует себя с прежней, если не с большей яростью, отшвыривает в изнеможении кнут, напяливает на себя потертый хомут, который когда-то купил у шорника Меира, минуту стоит неподвижно и вдруг с разбега, с пылу-жару бодает головой грядку телеги и, вскрикнув от боли, падает на мокрую от дождя землю. Хомут натирает шею, Шмуле-Сендер пытается освободиться от него, но голова его никнет, он только успевает лизнуть губами мокрую майскую траву. Уткнувшись в нее, водовоз плачет, и плач его похож на предсмертный хрип гуся, которого прирезал резник Гедалье.
— Отец небесный! — стонет Шмуле-Сендер. — За что? За что?
Эфраим подходит к нему, опускается на колени и шепчет на ухо:
— Вставай, Шмуле-Сендер. Вставай.
— Что я скажу Фейге? Что я скажу Фейге? — причитает бедняга.
— Скажешь ей: здравствуй, кецеле, — утешает его нищий Авнер, — Твоя Фейга что — военно-полевой суд? Она тебя что — к смерти приговорит? Ты бы подумал лучше, что о тебе скажет твоя лошадь?
— А что она скажет? Что? — растирает ладонью слезы по лицу Шмуле-Сендер.
— Их, наверно, Иоселе-Цыган увел, — говорит синагогальный служка, но так осторожно, будто ступает по перекинутому через реку бревну.
— Иоселе-Цыган? А кто он такой? — с надеждой спрашивает Эфраим, помогая Шмуле-Сендеру встать.
— Иоселе-Цыган — это Иоселе-Цыган, — уклончиво и на сей раз в единственном числе объясняет служка. — О его подвигах можно рассказать столько, сколько о всех царях иудейских!
— Конокрад? — подсказывает ему Авнер.
— Всем конокрадам конокрад, — беззлобно, даже с похвалой, говорит служка. — Еврейки еще таких на свет не рожали.
— А как его найти? — не отчаивается Эфраим. Он чувствует себя виноватым перед Шмуле-Сендером. Зачем он согласился поехать на его телеге? Надо было сразу отрезать: «Нет!» Эфраим и без его помощи добрался бы до Россиен, а оттуда на плотах по рекам, на поезде и до Вильно. Шмуле-Сендер умрет, если не найдет свою лошадь. Он и недели без нее не протянет. Он только ради них и живет — ради нее и Берла.
— Как найти? — моргает кошачьими глазами служка. — Прошлый раз его в трактире поймали, а перед праздником кущей в Кельмах на базаре.
Шмуле-Сендер стоит ни жив ни мертв, хомут висит у него на шее, и водовоз — надо же! — нестерпимо похож на свою клячу. Кажется, он вот-вот заржет или фыркнет, и по морде потечет белая, теплая, как парное молоко, пена.
— Горе мне! Горе! — нараспев жалуется он и снова хватается за оглобли, пытаясь сдвинуть телегу с места. Он тужится, и Авнер то ли из жалости, то ли из старческого озорства налегает на задок.
— В трактир! — выкрикивает он. — На базар! В Кельмы!
Колеса крутятся, телега скользит по мокрой траве, Шмуле-Сендер не в силах удержать оглобли; еще миг, и он будет распят на них, воз скрипит, Шмуле-Сендер трусит мелкой рысью, горбится, а Авнер покрикивает:
— Вперед! Вперед!
— Стойте! Стойте! — ярится Эфраим, но в ответ он слышит громкое и недовольное фырканье.
— Нет! — хрипит Шмуле-Сендер. — Кто я без лошади? Кто она без меня?
— Впрягайся, Эфраим, — подзадоривает каменотеса нищий. — Ты — коренник! Коренник!
— Да вы совсем спятили! — кричит Эфраим. Ноги у него вдруг молодеют и, как две гончие за дичью, бросаются за бегущим Шмуле-Сендером, настигают его, Эфраим вырывает у него оглобли, отталкивает несчастного Шмуле-Сендера; катящаяся телега утыкается в чей-то ивовый плетень, синагогальный служка и Авнер, как зачарованные, глядят то на водовоза, то на Эфраима.
Каменотес снимает со Шмуле-Сендера хомут, и в хомуте, как в выбитом окне, всходит яркое утреннее солнце.
— Мы найдем его, — уверяет Эфраим Шмуле-Сендера.
— У меня не он, а она, — бормочет тот.
— Да я не про лошадь… я про этого Иоселе-Цыгана. Только попадись он мне в руки!
— Ааа… — отрешенно, почесывая затылок, говорит Шмуле-Сендер. — Как же твой Гирш?
— Беда — не дерево. Мимо не проедешь.
К Эфраиму и Шмуле-Сендеру подходят синагогальный служка и Авнер.
— Не горюй, — говорит нищий. — Берл пришлет тебе из Нью-Йорка заместо твоей клячи рысака…
— А зачем мне, Авнер, рысак? — равнодушно спрашивает Шмуле-Сендер и озирается по сторонам.
А вдруг этот Иоселе-Цыган передумает и вернет ему лошадь. Ведь только в песне она — орлица. Только в песне. А на самом деле — чахоточница, и печенка у нее больная, и бельмо на правом глазу, и клещ в хвосте. Да за нее в базарный день и целковый не дадут. Уж если этот Иоселе-Цыган не может не красть, пусть уводит орловских из конюшни графа Завадского.
— Как зачем тебе рысак? — удивляется Авнер. — Разве твою клячу можно сравнить с породистым жеребцом?..






