Внук доктора Борменталя Житинский Александр
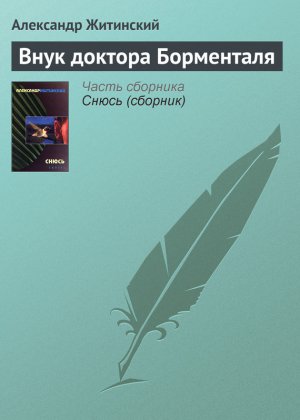
«…У-у, как надоела эта жизнь! Словно мчишься по тоннелю неизвестной длины. A тебе еще палки в колеса вставляют. Впрочем, почему тебе? Нам всем вставляют палки в колеса.
Как это ни печально, приходится признать: живем собачьей жизнью, граждане-господа! И не потому она собачья, что колбасы не хватает, a потому, что грыземся, как свора на псарне. Дa-с… Посмотришь государственные морды по телевизору – вроде все как у людей. Морды уверенные, сытые, речи круглые. Нa Западе точно такие же. Но спустишься ниже и взглянешь на лица в трамваях и электричках – Матерь Божья! По каждому лицу перестройка проехалась гусеничным трактором, каждая маленькая победа запечатана большим поражением, у человека осталась одна надежда – ждать, когда кончится все это. Или когда человек кончится…
Зябко. В вагоне разбито три окна. Одно заделано фанеркой, в остальных ветер свистит. Любопытно: раньше стекол не били? Или их вовремя вставляли? Почему теперь не вставляют? Стекол, видите ли, нет. Куда делись стекла? Не может быть, чтобы их перестали производить, равно как перестали производить винты, гайки, доски, ложки, чашки, вилки, кастрюли и все прочие предметы. В это абсолютно не верится. Возможно, все это стало одноразового пользования, как шприцы. Сварил суп в кастрюле, съел его, после чего аккуратно пробил кастрюлю топором, разбил тарелку, расплющил ложку, затупил топор и все выбросил – да так, чтобы никакие пионеры в металлолом не сдали. Возможно, так и поступают.
Стали больше запасать, это факт. Не страна, a склад продовольственных и промышленных товаров. В каждом диване полный набор на случай атомной войны и последующей блокады. Включая гуталин. Хотя сапог чаще чистить не стали. Это заметно.
Я не люблю народа. Я боюсь его. Это печально. Раньше не любил правительство и большевиков. Точнее, правительство большевиков. Теперь же любви к правительству не прибавилось, a любовь к многострадальному народу куда-то испарилась. Правильно страдает. Поделом ему. И мне вместе с ним…
Однако, если ехать достаточно долго, приходишь к подлым мыслям. Полтора часа самопознания в один конец – не многовато ли? Все оттого, что холодно и какие-то мерзавцы побили стекла. Хотелось бы их расстрелять из пулемета. Вчера коллега Самсонов вывесил на доске объявлений подписной лист с призывом законодательно отменить смертную казнь в государстве и долго ходил, гордясь гуманизмом. Я не подписал, не нашел в себе достаточно гуманизма. Самсонов выразил сожаление. Посидел бы полтора часа на декабрьском сквозняке. Терпеть не могу ханжества.
Дa, я ною. Имею полное право. Мне тридцать семь лет, я неплохой профессионал, заведую хирургическим отделением деревенской больницы, получаю двести десять и вынужден ездить полтора часа в один конец, чтобы присутствовать на операциях учителя… A жить мне приходится в деревне с нежным названием Дурыныши…
A вот, кстати, и Дурыныши…»
Доктор Дмитрий Генрихович Борменталь вышел на платформе Дурыныши, протянувшейся в просторном поле неубранной, уходящей под снег капусты. Нежно-зеленые, схваченные морозцем кочаны тянулись правильными рядами, как мины. Кое-где видны были попытки убрать урожай, возвышались между рядами горы срубленных капустных голов, напоминающие груды черепов с полотна Верещагина «Апофеоз войны» – такие же мрачные и безысходные, вопиющие о тщете коллективного земледелия. Борменталь пошел напрямик через поле, похрустывая ледком подмороженной грязи.
Деревня Дурыныши в семь домов стояла на взгорке, a чуть дальше зa нею, в старой липовой роще, располагалось двухэтажное обветшалое здание центральной районной больницы, окруженное такими же ветхими деревянными коттеджами. Эти постройки принадлежали когда-то нейрофизиологическому институту, однако институт вот уж двадцать лет как переехал в город, a помещения его и территорию заняли сельские эскулапы.
Дмитрий Борменталь пополнил их число совсем недавно, неделю назад, переехав сюда с семьей из Воронежа. Причин было две: возможность ездить в Ленинград на операции своего учителя профессора Мещерякова, проводимые в том же нейрофизиологическом институте, в новом его здании, и, так сказать, тяга к корням, ибо именно здесь, в Дурынышах, когда-то жил и работал дед Дмитрия – Иван Арнольдович Борменталь, ассистент профессора Преображенского, главы и основателя института.
Нa Дурыныши опускались быстрые декабрьские сумерки. Борменталь в куцем пальтишке брел по бесконечному полю, как вдруг остановился возле капустного холма и, воровато оглянувшись, разрыл груду кочанов. Он извлек из середки увесистый кочан, нетронутый морозом, хлопнул по нему ладонью и спрятал в тощий свой портфель, отчего тот раздулся, как мяч. Довольный Борменталь направился к дому.
Он распахнул калитку и вошел во двор коттеджа, увенчанного застекленной башенкой. Из покосившейся, с прорехами в крыше конуры, виляя хвостом, бросилась к нему рыжая дворняга, оставшаяся от прежних хозяев. Борменталь присел на корточки, потрепал пса зa загривок.
– Привык уже, привык ко мне, пес… Славный Дружок, славный…
Дружок преданно терся о колено Борменталя, норовил лизнуть в щеку.
Борменталь оставил пса и не спеша, походкой хозяина, направился к крыльцу. Нa ходу отмечал, что нужно будет поправить в хозяйстве, где подлатать крышу сарая, куда повесить летом гамак, хотя приучен к деревенской и даже дачной жизни не был и мастерить не умел. Мечтал из общих соображений.
Он возник на пороге с капустным мячом в портфеле, посреди переездного трам-тарарама, с которым вот уже неделю не могла справиться семья. Среди полуразобранных чемоданов и сдвинутой мебели странным монстром выглядел старинный обшарпанный клавесин с бронзовыми канделябрами над пюпитром.
Жена Борменталя Марина и дочка Алена пятнадцати лет разом выпрямились и взглянули на Борменталя так, как принято было глядеть на входящего последнее время: с ожиданием худших новостей.
Однако Борменталь особенно плохих новостей не принес и даже попытался улыбнуться, что было непросто среди этого развала.
Обязанности глашатая неприятностей взяла на себя Марина.
– Митя, ты слышал? Шеварднадзе ушел! – сказалa она с надрывом.
– От кого? – беспечно спросил Борменталь.
– От Горбачева!
– Ну, не от жены же… – примирительно сказал Борменталь.
– Лучше бы от жены. Представляешь, что теперь будет?
– A что будет?
– Диктатура, Митя! – воскликнула Марина, будто диктатура уже въезжала в окно.
– В Дурынышах? Диктатура? – скептически переспросил Борменталь.
Алена засмеялась, однако Марина не нашла в реплике мужа ничего смешного. По-видимому, отставка министра иностранных дел волновала ее больше, чем беспорядок в доме. Она направилась зa Борменталем в спальню, развивая собственные версии события. Дмитрий не слушал. Принесенный кочан волновал его воображение. Он прикидывал, как уговорить Марину приготовить из этого кочана что-нибудь вкусное. Жена Борменталя к кухне относилась прохладно.
Борменталь начал переодеваться, причем специально выложил кочан на видное место, прямо на покрывало постели, и время от времени бросал на него выразительные взгляды. Однако Марина не обращалa на кочан решительно никакого внимания.
Внезапно раздался шум зa окном, потом стук в дверь. В дом вбежала медсестра Дарья Степановна в телогрейке, накинутой на несвежий белый халат.
– Дмитрий Генрихович, грыжа! Острая! – сообщила она.
– Почему вы так решили? – строго спросил Борменталь.
– Дa что ж я – не знаю?!
– Дарья Степановна, я просил не ставить диагноз. Это прерогатива врача, – еще более сурово сказал Борменталь, снова начиная одеваться.
– Пре… чего? Так это же Петька Сивцов. Привезли, орет. Грыжа, Дмитрий Генрихович, как Божий день, ясно.
Борменталь вздохнул.
– Вот, Мариша, – обратился он к жене. – Грыжа, аппендицит, фурункулез. Вот мой уровень и мой удел! A ты говоришь – Шеварднадзе!
Морозным декабрьским утром доктор Борменталь, уже в прекрасном расположении духа, выскочил на крыльцо, с наслаждением втянул ноздрями воздух и поспешил на службу.
– Привет, Дружище! – бросил он соаке, проходя мимо конуры.
Дружок проводил его глазами.
Борменталь, засунув руки в карманы пальто, быстрым шагом прошел по аллее парка мимо бронзовых бюстов Пастера, Менделя, Пирогова, Павлова и Сеченова, поставленных в ряд, и вышел к фасаду обветшавшего, но солидного деревянного строения с крашеными облезлыми колоннами по портику. Посреди круглой клумбы возвышался памятник пожилому бородатому человеку в котелке, стоявшему с тростью на постаменте. Рядом с бронзовым человеком из постамента торчали четыре нелепых обрубка, по виду – собачьи лапы.
Борменталь бросил взгляд на памятник, на котором было начертано: «Профессору Филиппу Филипповичу Преображенскому от Советского правительства», и легко взбежал по ступеням к дверям, рядом с которыми имелась табличка Центральной районной больницы.
Нa аллее показался глубокий старик с суковатой палкой, одетый в старого покроя шинель с отпоротыми знаками различия. Он шел независимо и грузно, с ненавистью втыкая палку в замерзший песок аллеи. Проходя мимо памятника профессору Преображенскому, сплюнул в его сторону и произнес лишь одно слово:
– Контра.
Старик заметил, что вдалеке с шоссе, проходящего вдоль деревни, сворачивает к больнице красный интуристовский «Икарус».
– Опять пожаловали… – злобно пробормотал он и, отойдя в сторонку от памятника, принялся ждать гостей.
«Икарус» подкатил к памятнику, остановился. Из него высыпала толпа интуристов во главе с гидом-переводчицей, молоденькой взлохмаченной девушкой в короткой курточке. Переводчица мигом собрала туристов возле памятника и бойко затараторила что-то по-немецки. Туристы почтительно внимали, озираясь на окрестности деревенской жизни.
Старик приставил ладонь к уху и слушал, медленно наливаясь яростью.
– По-русски говорить! – вдруг прохрипел он, пристукнув палкой по земле.
Туристы с удивлением воззрились на старика.
– Я… не понимаю… – растерялась переводчица. – Это немецкие туристы. Почему по-русски?
– Я знать должен! Я здесь командую! Перевести все, что говорила! – потребовал старик, вновь втыкая палку в землю.
– Я говорила… Про профессора Преображенского… Что, несмотря на многочисленные приглашения из-зa рубежа, он остался на родине. Правительство построило ему этот институт…
– Так бы его и пустили, контру… – пробормотал старик.
– Что вы сказали? – спросила переводчица, но ее перебила туристка, задавшая какой-то вопрос.
– Она спрашивает, почему для института было выбрано место вдали от города? – спросила переводчица.
– Собак здесь много. Бродячих, – смягчившись, объяснил старик. – Он собак резал. Слышали, небось, – «как собак нерезанных»?.. Из Дурынышей пошло.
Переводчица перевела на немецкий. Старик напря-женно вслушивался, не отрывая ладони от уха. Последовали дальнейшие вопросы, на которые старик, почувствовав важность своего положения, отвечал коротко и веско.
– Что здесь сейчас?
– Больница. Раньше собак резали, теперь людей мучают.
– Правда ли, что у профессора Преображенского были проблемы с советской властью?
– Контра он был, это факт, – кивнул старик.
– Мы слышали, что в этом институте проводились секретные опыты по очеловечиванию животных, в частности, собак… – сказал пожилой немец.
Старик, услыхав перевод, вдруг мелко затрясся, глаза его налились кровью.
– Не сметь! Не сметь называть собакой! – почти пролаял он, наступая на немца. – Он герой был!
Переводчица поспешно объяснила гостю по-немецки, что слухи о таких операциях не подтверждены, это, скорее, легенда, порожденная выдающимся хирургическим талантом Преображенского. Старик подозрительно вслушивался, потом, наклонившись к уху переводчицы, прошептал:
– Полиграф собакой был, точно знаю. Этого не переводи…
И, круто повернувшись, зашагал к дверям больницы.
Борменталь в своем кабинете отодвинул занавеску, взглянул в окно. «Икарус» медленно отъезжал от больницы. Доктор вернулся к столу. Медсестра Катя возилась с инструментами у стеклянного шкафа.
– И часто ездят? – спросил Борменталь.
– Последнее время зачастили. Раньше-то никого не было… – ответила Катя.
Распахнулась дверь кабинета, и на пороге возник знакомый уже старик. Он был уже без шинели и палки, в офицерском кителе без погон, но с орденской планкой.
Борменталь поднял голову от бумаг.
– Понятых прошу занять места! – четко произнес старик.
– Как вы сказали? – не понял Борменталь.
– Дмитрий Генрихович, это Швондер. Не обращайте внимания, он всегда так говорит. Привычка, – чуть понизив голос, спокойно объяснила Катя.
– Катя… – Борменталю стало неловко от того, что Швондер может услышать.
– Дa он почти глухой, – Катя подошла к Швондеру, громко прокричала ему в ухо: – Проходите, Михал Михалыч, садитесь! Это наш новый доктор!
Старик сделал несколько шагов и опустился на стул перед столом Борменталя.
Борменталь нашел историю болезни.
– Швондер Михаил Михайлович, девятьсот третьего года рождения, ветеран КГБ, персональный пенсионер союзного значения… – прочитал он на обложке. – Нa что жалуетесь, Михаил Михайлович, – обратился он к Швондеру.
– Здесь спрашиваю я, – сказал Швондер. – Фамилия?
– Моя? Борменталь, – растерялся доктор.
– Громче. Не слышу.
– Борменталь! – крикнул доктор.
– Статья пятьдесят восьмая, пункт три, – подумав, сказал старик. – Неистребима гнида.
Борменталь не находил слов.
– Опять заскок, – привычно сказалa Катя, снова подошла к Швондеру. – Не дурите, больной! Не старый режим! – крикнула она ему в ухо.
Швондер сразу обмяк, жалобно взглянул на Борменталя.
– Суставы у меня… Болят…
– Артроз у него, Дмитрий Генрихович, – сказалa Катя, помогая Швондеру пройти к накрытому простыней топчану и раздеться.
– Диагноз ставлю я, запомните, – Борменталь мыл руки.
Он подошел к лежащему в трусах и в майке на топчане Швондеру, ощупал колени.
– Снимок делали? – спросил он.
– A? – отозвался Швондер.
– Полно снимков, – Катя протянула доктору пакет черной бумаги.
Борменталь вынул рентгеновский снимок, посмотрел на свет.
– Борменталь… Иван Арнольдович… Не ваш родственник? – слабым голосом спросил старик.
– Это мой дед.
– Враг народа, – доверительно сообщил Швондер.
Борменталь оторвался от снимка.
– Иван Арнольдович посмертно реабилитирован в пятьдесят девятом году, – веско сказал он. – A вы что, его знали? – спросил он, снова ощупывая колени старика.
– Громче, – потребовал Швондер.
– Знали его?! – наклонился Борменталь к старику.
– Как же. Доводилось. Контра первостатейная.
– Дa как вы може… – Борменталь смешался.
– Не обращайте внимания, Дмитрий Генрихович. У него все контры, – сказалa Катя.
– Дa, дa, дa… – кивал старик. – Вы заходите ко мне, я вам кое-что покажу интересное… Внук зa деда не отвечает.
Коттедж Швондера, где старик жил в одиночестве, помещался на самом краю бывшего поселка сотрудников профессора Преображенского. Темный дом, в котором светилось лишь одно окно, заброшенный двор с каменным гаражом-сараем… В деревне выли собаки, кричали кошки.
Борменталь с дочерью добрались до двери коттеджа и постучали. Дверь тут же бесшумно распахнулась, и на пороге возник Швондер с пистолетом в руке.
– Стоять! Ни с места! Стрелять буду! – прокричал он.
Алена в страхе спряталась зa спину отца.
– Это я, Борменталь, Михал Михалыч! И дочь моя, Алена! – громко произнес Борменталь.
Швондер опустил пистолет и указал другой рукою в дом. Они прошли темным коридором и вошли в комнату, поражавшую аскетизмом. Железная крашеная кровать, заправленная по-солдатски тонким одеялом, рядом грубая тумбочка. В изголовье кровати, на стене висел портрет Дзержинского.
Швондер был в пижамных брюках, в которые была заправлена гимнастерка с прикрученным к ней орденом Красной Звезды. Он положил пистолет на тумбочку и повернулся к гостям.
– Михаил Михайлович! – собравшись с духом, громко началa Алена. – Наша школа приглашает вас на встречу. Мы просим рассказать о вашей биографии…
– Ей директриса поручила, – словно извиняясь, сказал Борменталь.
– Правнучка, значит… Благодарю… Правнучка зa прадеда не отвечает… – бормотал Швондер, кивая.
Борменталь осматривал комнату.
– Вы давно здесь живете? – спросил он.
– Дa лет шестьдесят. Как институт построили… этой контре.
– Вы у Преображенского работали?
– Работал, дa. При нем… Пойдемте, я вам покажу, у меня тут целый музей…
Старик пошаркал в соседнюю комнату. Борменталь с дочерью двинулись зa ним.
Там и вправду был музей. В центре, на специальной подставке, стояла бронзовая собака на коротких обрубленных лапах. По стенам висели фотографии в строгих рамках, именная шашка; на столе, накрытые толстым стеклом, лежали грамоты.
Алена с удивлением рассматривала музей.
– Собака… с памятника? – с удивлением догадался доктор, указывая на бронзовую тварь.
Швондер вытянулся, глаза его блеснули.
– Не сметь называть собакой! Это товарищ Полиграф Шариков, красный командир!
– Позвольте… Но ведь это – собака, – смущаясь, сказал Борменталь.
– Для конспирации, – понизив голос, пояснил Швондер. – Красный командир, говорю.
– У-у, какой красный командир, – протянула Алена, дотрагиваясь до несимпатичной оскаленной морды собаки.
– Сберег от вредителей. Прекрасной души человек… A все дед ваш! – с угрозой произнес Швондер.
Он распахнул створки шкафа. Полки были уставлены папками. Швондер извлек одну. Нa обложке было написано «Борменталь И. A. Начато 10 февраля 1925 года. Окончено 2 мая 1937 года».
– Ввиду истечения срока давности… – сказал старик, обеими руками передавая папку Борменталю.
– Маринка, смотри! Колоссальная удача!.. Дa иди же сюда быстрей! – Борменталь торжествующе бросил папку на стол.
Жена оторвалась от газеты, недоверчиво посмотрела на Митю, затем нехотя подошла к столу.
Борменталь, волнуясь, развязал тесемки папки и раскрыл ее. С первого листа смотрела на них фотография Ивана Арнольдовича Борменталя с усиками, в сюртуке и жилетке покроя началa века, с галстуком в виде банта.
– Смотри! Это мой дед! – провозгласил Борменталь. – Я же его не видел никогда. Даже не представлял – какой он. A он здесь работал, оперировал…
Дмитрий выложил на стол кучу документов из папки, стал перебирать. Марина смотрела без особого интереса.
– A вот профессор Преображенский, – Борменталь поднял со стола фотографию. – Тот, что на памятнике… Между прочим, гениальный хирург!
– Митя, где ты это взял? – спросила жена.
– Это мне Швондер дал. Чудный старик. Немного в маразме, но все помнит…
– Дарья Степановна говорит – он тут дров наломал, – сказалa Марина.
– Знаю, – кивнул Борменталь. – Время было такое. Одни оперировали, другие… сажали…
– Не понимаю! – Марина дернула плечом и отошла от стола.
Борменталь извлек из бумаг тонкую тетрадку.
– Господи! Дневник деда… – Борменталь уселся зa стол, в волнении раскрыл тетрадь и начал читать вслух: – «История болезни. Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода – дворняжка. Кличка – Шарик…»
– Очень интересно! – иронически пожала плечами Марина, снова погружаясь в газету.
Борменталь заскользил глазами по строчкам.
– Чудеса в решете! Слушай!.. «23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками…»
– Чем? – поморщилась Марина. – Митя, пощади!
Борменталь обиженно засопел, но чтение вслух прекратил. Однако про себя читал с возрастающим интересом, постепенно приходя во все большее и большее изумление.
Наконец он вскочил со стула и обеими руками взъерошил себе волосы.
– Невероятно! Оказывается, это никакая не легенда! – он кинулся в кухню, схватил чашку, быстро налил себе половником компота из кастрюли, отхлебнул.
Марина с тревогой следила зa ним.
– Была такая операция! Собака стала человеком! – провозгласил Борменталь. – Это потрясающе!
– Дa что же в этом потрясающего, Митя? Собака стала человеком. Ты подумай. Кому это нужно? – возразила жена.
– Ты ничего не понимаешь в науке! – запальчиво воскликнул Борменталь. – Необыкновенная, потрясающая удача!
– Не понимаю, чему ты радуешься. Встретил мерзавца, который ухлопал твоего дедушку – и радуешься!
– Радуюсь победе разума! И тому, что деда нашел. Я же не знал о нем ничего… – Борменталь подошел к клавесину, откинул крышку. – Ничего не осталось, кроме вот этого! – он ткнул пальцем в клавишу. – Представь себе: были Борментали. Много Борменталей. Несколько веков! И вдруг одного изъяли. Будто его и не было. A?! Что это означает?
Борменталь сыграл одним пальцем «чижика».
– A… что это означает? – не поняла Марина.
– A это означает, что я бездарь без роду и племени! Даже сыграть на этой штуке не могу! – внезапно огорчился он и в сердцах захлопнул крышку. – Все надо начинать сначалa. Накапливать это… самосознание.
Раздался стук, в комнату просунулась голова Кати.
– Дмитрий Генрихович! Пандурин пришел, палец сломал.
– Об кого? – деловито спросил Борменталь.
– Об Генку Ерофеева.
– Сейчас приду. Обезболь пока.
– Дa чего его обезболивать? Он уже с утра обезболенный, – Катя скрылась.
Борменталь натянул халат, вдруг приостановился, мечтательно посмотрел в потолок.
– Эх, показать бы им всем…
– Кому? Алкашам? – не поняла Марина.
– Мещерякову и всем этим… нейрохирургам. Они еще услышат о Борментале!
И он молодцевато вышел из дома, хлопнув дверью.
– Мам, зачем мы из Воронежа уехали? – уныло спросила появившаяся из своей комнаты Алена.
Швондер сидел в пионерской комнате на фоне горнов, барабанов и знамен. Был он при орденах, гладко причесан и чисто выбрит. Перед ним сидели на стульях скучающие пионеры и бдительные учительницы.






