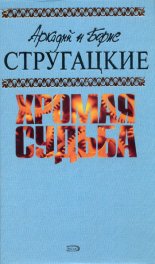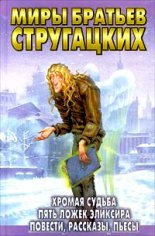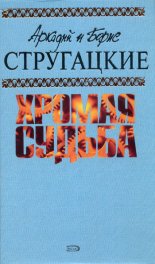Час новгородской славы Посняков Андрей
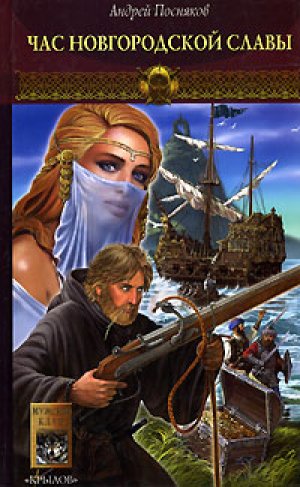
Читать бесплатно другие книги:
«– Знаешь, – сказал Боб, – я сейчас бы выпил томатного сока. Холодного томатного сока… – Он переверн...
На земли викингов, словен и русов надвигается беда: спасаясь от таинственной угрозы, народы Юга рвут...