Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
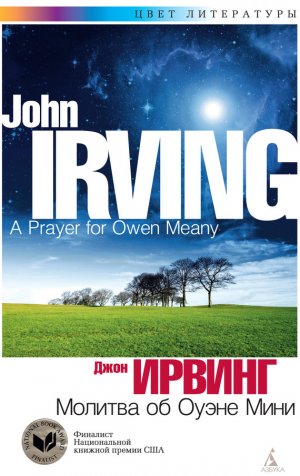
Насколько серьезен был Оуэн, можно судить хотя бы по тому, что мы могли обсуждать мам всех наших друзей, и при этом Оуэн совершенно откровенно оценивал достоинства моей мамы. Он мог не стесняясь выкладывать мне все, что думает, потому что я знал: он не шутит. Оуэн никогда не шутил.
— ИЗ ВСЕХ МАМ У ТВОЕЙ САМАЯ КРАСИВАЯ ГРУДЬ.
Скажи такое кто-нибудь другой из моих приятелей, я бы ему этого так просто не спустил.
— Ты серьезно? — спросил я его.
— АБСОЛЮТНО. САМАЯ КРАСИВАЯ, — подтвердил он.
— Как насчет миссис Виггин? — спросил я тогда.
— ВЕЛИКОВАТА, — сказал Оуэн.
— А у миссис Уэбстер? — продолжал я.
— СЛИШКОМ ПЛОСКАЯ, — ответил он.
— У миссис Меррил? — не унимался я.
— ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ, — ответил Оуэн.
— Мисс Джадкинс?
— НЕ ЗНАЮ, — сказал он. — Я НЕ ПОМНЮ, КАКАЯ У НЕЕ ГРУДЬ. НО ОНА ПОКА ЕЩЕ НЕ МАМА
— У мисс Фарнум? — не отставал я от него.
— ДА ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ, ЧТО ЛИ? - не выдержал Оуэн.
— А у Кэролайн Перкинс?
— КОГДА-НИБУДЬ, МОЖЕТ БЫТЬ, У НЕЕ БУДЕТ… — сказал он серьезно. — НО ОНА ВЕДЬ ТОЖЕ ПОКА НЕ МАМА.
— Айрин Бэбсон? — продолжал я.
— У МЕНЯ ВНУТРИ ОТ НЕЕ ЧТО-ТО ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, — сказал Оуэн и, помолчав, добавил с тихим благоговением: — ТАКИХ, КАК ТВОЯ МАМА, БОЛЬШЕ НЕТ. К ТОМУ ЖЕ ОТ НЕЕ ПАХНЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ.
Тут я мог с ним полностью согласиться: от моей мамы всегда пахло чем-то неповторимо-замечательным.
Не каждый друг станет оценивать грудь вашей мамы, чтобы таким странным способом сделать вам приятное. Но ведь моя мама и вправду была признанной красавицей, а непосредственность Оуэна исключала малейший подвох. Ему можно было доверять — абсолютно.
Мама часто возила нас на машине. Она отвозила меня к карьеру, чтобы я поиграл с Оуэном; она забирала Оуэна и привозила к нам, а потом везла его домой. Гранитный карьер Мини находился милях в трех от центра города — в общем-то, не так уж далеко, можно и на велосипеде доехать, вот только дорога все время в гору. Так что мама часто отвозила меня туда на машине вместе с велосипедом, а потом я сам возвращался на нем домой. Или наоборот: Оуэн приезжал ко мне на велосипеде, а мама потом доставляла его домой, вместе с велосипедом. В общем, она так часто была для нас за шофера, что, вполне возможно, привыкла воспринимать Оуэна как второго сына. А если учесть, как часто в маленьких городках мамам достается роль шофера, Оуэн имел основания воспринимать ее как родную маму в большей мере, чем собственную.
Мы с Оуэном редко заходили к нему в дом. Мы играли среди отвалов породы, в карьерах или у реки, а по воскресеньям залезали на выключенное оборудование, воображая, будто ведем разработку в карьере или боевые действия.
По-моему, Оуэну его дом представлялся таким же неуютным и чужим, как и мне. Когда на улице стояла ненастная погода, мы шли ко мне, а поскольку в Нью-Хэмпшире погода чаще бывает ненастной, то и играли мы чаще у меня.
Сегодня мне кажется, что мы только и делали, что играли. В то лето, когда не стало моей мамы, нам с Оуэном было одиннадцать лет. Мы играли свой последний сезон в Малой лиге, которая нам уже порядком надоела. Бейсбол, по-моему, вообще игра довольно скучная, и последний сезон в Малой лиге — это лишь прелюдия ко всей той скукоте, что ждет многих американцев во взрослом бейсболе. Канадцы, к сожалению, тоже играют в бейсбол и смотрят его. Это игра, где больше ожидания, чем действия; причем ожидание все нарастает, а действие сходит на нет. В Малой лиге, слава Богу, хоть играют побыстрее, чем во взрослой. Мы по крайней мере не тянули время, театрально сплевывая и похлопывая себя по бокам или по ляжкам, чтобы изобразить нервозность — без чего во взрослом спорте, похоже, просто не обойтись. Но все равно приходится ждать в промежутках между бросками питчера, ждать, пока кэтчер с судьей сойдутся во мнении насчет очередной подачи, ждать, пока кэтчер рысцой подбежит к питчеру и подскажет ему, как бросать следующий мяч, ждать, пока тренер вразвалку выйдет на поле и озабоченно обсудит с питчером и кэтчером тактические тонкости следующей подачи…
В тот день шел уже последний иннинг, и мы с Оуэном просто ждали, когда эта игра наконец закончится. Нам уже все наскучило до предела, никому и в голову не могло прийти, что с окончанием игры должна закончиться и чья-то жизнь. Мы проигрывали безнадежно. Игру спасти было уже нельзя, и наши запасные так часто и беспорядочно сменяли игроков первого состава, что я просто запутался, кто за кем бьет, — мало того, я уже не знал, когда очередь брать биту мне самому. Я уже собирался спросить об этом нашего славного менеджера и тренера, толстого мистера Чикеринга, как тот вдруг повернулся к Оуэну Мини и сказал:
— Оуэн, будешь бить вместо Джонни!
— Но я не знаю, когда моя очередь бить, — сказал я мистеру Чикерингу, однако он меня не услышал. Он смотрел куда-то в сторону от игрового поля. Ему тоже уже надоела эта игра, и, как и все мы, он просто ждал, когда все закончится.
— Я ЗНАЮ, КОГДА ТЕБЕ БИТЬ, — сказал Оуэн.
Что меня вечно в нем раздражало, — он всегда все знал. Сам в этой идиотской игре почти не участвует — но следит за каждой мелочью.
— ЕСЛИ ПРОХОДИТ ГАРРИ, ТОГДА БЬЕТ БАЗЗИ, А Я СЛЕДУЮЩИЙ НА ОЧЕРЕДИ, — сказал Оуэн. — ЕСЛИ ПРОХОДИТ БАЗЗИ, Я БЬЮ.
— Можешь не надеяться, — сказал я. — Или у нас еще только один аут?
— ДВА АУТА, — отозвался Оуэн.
Тем временем вся наша скамейка запасных смотрела куда-то в сторону — даже Оуэн, — и мне наконец стало интересно, что могло так привлечь их внимание. Я обернулся и увидел: это была моя мама. Она только что приехала. Она всегда приезжала под конец, потому как ей тоже было скучно смотреть всю игру. Каким-то шестым чувством она всегда угадывала, когда нужно приехать, чтобы забрать нас с Оуэном домой. Летом вместо свитера ее фигуру облегал легкий трикотаж. У нее тогда был красивый золотистый загар, который оттенялся белым хлопчатобумажным платьем, обтягивающим грудь и талию, но с широкой юбкой. Волосы, высоко подобранные и перехваченные легким красным шарфом, не закрывали красивых обнаженных плеч. Она не следила за игрой, а стояла у левой боковой линии, за третьей базой, и всматривалась в полупустые открытые трибуны, стараясь, наверное, разглядеть, нет ли там кого-нибудь из знакомых.
Я понял, что все кругом смотрят на нее. Вообще-то я не находил тут ничего особенного. На маму вечно все заглядывались, но в тот день всеобщее внимание казалось особенно напряженным, — а может, мне это запомнилось так остро, потому что тогда я видел ее живой в последний раз. Питчер смотрел на плиту домашней базы, кэтчер ждал броска; бэттер, я думаю, тоже ждал броска, но даже полевые игроки, все как один, повернули головы в сторону моей мамы и пялились на нее. И все, кто сидел на нашей скамейке, тоже не могли оторвать от нее глаз — особенно мистер Чикеринг, да и Оуэн тоже. Пожалуй, я среди всех оставался самым равнодушным. Мама оглядывала трибуну, а вся трибуна, не отрываясь, глазела на нее.
Судья зафиксировал четвертый бол: питчер, верно, тоже отвлекся и краем глаза поглядывал на мою маму. Гарри Хойт перешел на первую базу. Баззи Тэрстон приготовился бить, следующим на очереди шел Оуэн. Он встал со скамейки и начал выбирать самую маленькую биту. Баззи слабо отбил мяч, и тот покатился по земле — это был верный аут, и мама так ни разу и не повернула головы в сторону поля. Она медленно двинулась вдоль левой боковой линии, прошла мимо игроков у третьей базы, продолжая оглядывать трибуны; тем временем шорт-стоп прошляпил мяч Баззи Тэрстона, и, пока он его догонял, все раннеры спокойно успели добежать до баз.
Оуэн занял свое место на площадке бэттера.
О том, насколько всем надоел этот матч — и насколько безнадежно он уже был проигран, — можно понять хотя бы из того, что мистер Чикеринг разрешил Оуэну отбивать. Видно, мистер Чикеринг тоже хотел поскорее уйти домой.
Обычно он говорил: «Смотри в оба, Оуэн!» Это означало: «Стой спокойно, и заработаешь переход на базу». Это означало: «Не снимай биту с плеча». Это означало: «Ни в коем случае не вздумай замахиваться».
Но на этот раз мистер Чикеринг сказал:
— Отбивай, малыш!
— Расколи этот мяч надвое, Мини! — крикнул кто-то со скамейки и покатился со смеху, довольный собственной шуткой.
Оуэн с достоинством смотрел на питчера.
— Врежь как следует, Оуэн! — крикнул я.
— Отбивай, Оуэн! — повторил мистер Чикеринг. — Отбивай!
На нашей скамейке уже смирились с поражением: всем было пора домой. Пусть Оуэн попробует отбить, промажет три раза — и все свободны. Вдобавок ко всему мы не прочь были повеселиться, наблюдая за его потешными попытками размахнуться неподъемной битой.
Первый бросок питчера ушел далеко в сторону, и Оуэн дал мячу спокойно пролететь мимо.
— Ну что ж ты? — снова крикнул мистер Чикеринг. — Отбивай же!
— БЫЛО СЛИШКОМ ДАЛЕКО! — отозвался Оуэн. Он всегда все делал строго по правилам, Оуэн Мини, — следуя каждой букве.
Следующий мяч едва не угодил Оуэну в голову, так что ему пришлось падать вперед на утоптанную землю, окружавшую плиту домашней базы, лицом прямо в траву. Второй бол. Отряхивая форму, Оуэн поднял вокруг себя облако пыли, что вызвало новый взрыв хохота на скамейке. Теперь все ждали, пока он приведет себя в порядок
Мама в это время стояла спиной к третьей базе; она наконец разглядела на открытой трибуне кого-то из знакомых и замахала рукой. Она уже прошла мимо холщовой подушки третьей базы и стояла прямо на линии, но все же ближе к третьей базе, чем к домашней, — и в этот самый момент Оуэн начал отбивать. Всем показалось, что его бита начала движение за мгновение до того, как мяч расстался с рукой питчера, — тот постарался бросить его сильно и без всяких ухищрений, что вообще типично для игр Малой лиги, — но Оуэн уже успел размахнуться как следует, и потому удар вышел чудовищной силы. Оуэн принял мяч в самой удобной точке — немного впереди себя, на уровне груди. Никто не мог представить, что он способен ударить так мощно, — впрочем, его самого это, кажется, настолько потрясло, что он впервые на моей памяти сумел после подачи устоять на ногах.
Треск от удара биты по мячу оказался небывало резким и громким для Малой лиги, так что этот звук привлек даже рассеянное внимание моей мамы. Она повернула голову к домашней плите — ей, верно, стало интересно, кто это так мастерски «выстрелил», — и в это самое мгновение мяч угодил ей точно в левый висок, сбив ее с ног так стремительно, что, сломав каблук, мама упала лицом к трибунам, разведя колени и не успев даже выставить вперед руки, чтобы хоть немного смягчить падение. Позже поговаривали, будто она умерла еще до того, как коснулась земли.
Насчет этого ничего определенного сказать не могу; но то, что она была мертва, когда к ней подбежал мистер Чикеринг — а он подбежал к ней первым, — это факт. Он приподнял ей голову, потом повернул слегка поудобнее; кто-то потом сказал, что он закрыл ей глаза, прежде чем снова опустить ее голову на землю. Я помню, как он поправил ей юбку — она задралась до середины бедер — и сложил вместе колени. Затем встал, снял свою спортивную куртку и поднял ее перед собой, словно тореадор. Я первым из всех игроков домчался до третьей базы, но мистер Чикеринг при всей своей тучности оказался на удивление проворным. Он успел перехватить меня и накинуть куртку мне на голову, чтобы я ничего не мог видеть. Сопротивляться было бесполезно.
— Нет, Джонни, не надо! — сказал мистер Чикеринг. — Не надо тебе туда смотреть.
Память творит чудовищные вещи: вы можете что-то забыть, но она — нет. Она просто регистрирует события. И хранит их для вас — что-то открыто, а что-то прячет до поры до времени, — а потом возвращает, когда ей вздумается. Вы думаете, это вы обладаете памятью, а на самом деле это она обладает вами.
Позже я вспомню все. Сейчас, вызывая в памяти картину смерти моей мамы, я могу вспомнить всех, кто в тот день был на трибунах; помню я и тех, кого там не было. Помню, кто мне что говорил и чего не говорил. Но, вспоминая эту сцену в первый раз, я сумел восстановить очень мало подробностей. Я помню инспектора Пайка, нашего главного грейвсендского полицейского, — много лет спустя я буду встречаться с его дочкой. А тогда инспектор Пайк привлек мое внимание только тем, что задал ужасно нелепый вопрос, — и еще абсурднее было то, как он пытался добиться ответа на него.
— Где мяч? — спросил инспектор, когда, выражаясь полицейским языком, место происшествия было очищено. Маму уже унесли, а я сидел на коленях у мистера Чикеринга, и его спортивная куртка по-прежнему покрывала мою голову — но теперь уже потому, что это я так хотел; я сам накрылся ею.
— Мяч? — недоуменно переспросил мистер Чикеринг. — Тебе нужен этот паршивый мяч?!
— Ну, ведь это, как ни крути, орудие убийства, — пояснил инспектор Пайк, которого звали Беном. — Непосредственная причина смерти, если можно так выразиться, — добавил он.
— Орудие убийства! — воскликнул мистер Чикеринг и больно стиснул меня. Мы сидели и ждали, пока за мной приедет бабушка или мамин муж — Причина смерти! — повторил он. — Господи, Бен, ты в своем уме — это же бейсбольный мяч!
— Ну да, верно. И где же он? — спросил инспектор Пайк — Если этим мячом кого-то убило, мне положено взглянуть на него. Вернее даже сказать, я должен забрать его с собой.
— Да не будь ты мудаком, Бен! — не выдержал мистер Чикеринг.
— Его забрал кто-то из твоих ребят? — не отступался инспектор.
— Чего ты ко мне пристал? Вот их и спрашивай! — огрызнулся наш толстяк тренер.
Когда полицейские фотографировали мамино тело, всех игроков заставили уйти за трибуну. Они до сих пор толпились там, угрюмо уставившись поверх пустых скамеек на роковую площадку. В толпе среди ребят стояло несколько взрослых — чьи-то мамы и папы, страстные поклонники бейсбола. Позже я вспомню, как услышал в темноте голос Оуэна — в темноте потому, что голова моя была все еще покрыта спортивной курткой нашего менеджера:
— ПРОСТИ, Я НЕ ХОТЕЛ!
Спустя годы все эти мелкие подробности вернутся ко мне — я вспомню всех, кто стоял там за трибуной, равно как и всех, кто сразу ушел домой.
Но тогда я просто стянул с головы куртку, и все, что я понял в тот момент, — Оуэна Мини нет среди стоящих за трибуной. Мистер Чикеринг, должно быть, подумал о том же.
— Оуэн! — позвал он.
— Он ушел домой! — отозвался чей-то голос.
— У него был велосипед! — добавил кто-то другой.
Я легко мог представить себе, как Оуэн с трудом взбирается на своем велосипеде вверх по Мейден-Хилл-роуд — поначалу крутит педали сидя в седле, потом постепенно выбивается из сил, привстает и еще немного продвигается вперед судорожными рывками, раскачивая велосипед из стороны в сторону. В конце концов ему приходится слезть и вести велосипед рядом с собой. Где-то там вдалеке виднеется река. В то время бейсбольные формы делались из колючей шерсти, и мне живо представлялся отяжелевший от пота свитер Оуэна с огромной цифрой «3» на спине — такой огромной, что, когда он заправлял свитер в штаны, оставалась видна только половина цифры и все, кто встречал его на Мейден-Хилл-роуд, конечно же, решали, что это двойка.
Понятное дело, ему незачем было оставаться на стадионе. Раньше после матча его вместе с велосипедом отвозила домой моя мама.
Мяч, конечно, забрал Оуэн, подумал я. Он ведь коллекционер, одни его бейсбольные карточки чего стоят. «В конце концов, — сказал как-то спустя годы мистер Чикеринг, — это был единственный раз, когда он сумел прилично ударить. Единственный раз, можно сказать, приложился по-настоящему. И надо же — все равно промазал. Не говоря уж о том, что человека убил».
Ну и что, если это и вправду Оуэн забрал мяч? — думал я. Хотя, признаться, в тот момент мои мысли больше занимала мама. Уже тогда я начал злиться на нее за то, что она так и не открыла мне, кто мой отец.
В то время мне было всего одиннадцать; я понятия не имел, кто еще мог видеть нашу игру и стать свидетелем этой смерти — и у кого могли быть свои причины забрать мяч, по которому ударит Оуэн Мини.
2. Броненосец
Мамино полное имя было Табита, хотя ее никто, кроме бабушки, так не звал. Бабушка терпеть не могла уменьшительных имен, за одним, правда, исключением: меня она никогда не называла Джоном — для нее я всегда оставался Джонни, даже когда для всех уже давно стал Джоном. Мама же моя для всех остальных была Табби. Я помню только один случай, когда преподобный Льюис Меррил назвал ее «Табита», но сказано это было в присутствии бабушки; к тому же у них тогда вышло что-то вроде ссоры или, по крайней мере, спора. Предметом этого спора было мамино решение перейти из конгрегационалистской церкви в епископальную, и преподобный мистер Меррил — обращаясь к бабушке так, будто мамы в этот момент не было рядом, — сказал: «Табита Уилрайт — это единственный поистине ангельский голос в нашем хоре, и, если она покинет нас, хор лишится души». Должен добавить в его оправдание, что он отнюдь не всегда выражался так по-византийски витиевато, но наш с мамой уход и вправду довольно сильно взволновал пастора, так что вполне понятно, почему он вещал будто с кафедры.
В Нью-Хэмпшире во времена моего детства этим именем — Табби — часто звали домашних кошек; и в маме, без сомнения, было что-то кошачье; не коварство и не скрытность, конечно, — но другие кошачьи качества в ней присутствовали совершенно явно: она была такой же чистоплотной, грациозной и уравновешенной, ее так же хотелось погладить. Как и Оуэн Мини, моя мама всегда вызывала желание прикоснуться к ней — только, конечно, по-другому, и не только у мужчин, хотя я, даже ребенком, отчетливо видел, как им трудно в ее обществе держать руки при себе. В общем, прикоснуться к ней хотелось абсолютно всем, и в зависимости от отношения к тому, кто хотел ее потрогать, мама тоже вела себя совершенно по-кошачьи. Могла напустить на себя такое ледяное равнодушие, что рука сама отдергивалась; обладая великолепной координацией, она легко, как кошка, уклонялась от непрошеной ласки — ухитрялась нырнуть под рукой или отпрянуть так стремительно и инстинктивно, что другой успел бы только вздрогнуть. Но умела она отвечать и совсем иначе — как реагирует кошка на желанную ласку: упиваться прикосновением — могла бесстыдно изогнуться всем телом и еще сильнее прижаться к ласкающей ее руке, — я прямо ждал, что вот-вот раздастся еле слышное «мрррррр…».
Оуэн Мини редко тратил слова попусту, предпочитая уронить какое-нибудь веское замечание, словно монету в омут, — замечание, что, подобно истине, тяжко ложилось на самое дно, чтобы пребывать в недостижимости, — так вот, Оуэн Мини мне как-то сказал: «ТВОЯ МАМА ТАКАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ, ЧТО Я ВСЕ ВРЕМЯ ЗАБЫВАЮ, ЧТО ОНА ЧЬЯ-ТО МАМА».
Что касается домыслов тети Марты, которыми она поделилась с моими двоюродными братьями и сестрой, теми, что лет десять спустя дошли до моих ушей, — насчет того, что моя мама была «дуреха», — я уверен, это все из-за непонимания, присущего завистливым старшим сестрам. Тетя Марта не сумела разглядеть в моей маме самое главное — то, что она существовала как бы в чужом обличье. Внешне Табби Уилрайт напоминала молоденькую киноактрису — привлекательную, экзальтированную, легко внушаемую. Казалось, она очень хочет всем понравиться; в общем, «дуреха», по определению тети Марты; к тому же мама выглядела доступной. Но я твердо убежден, что мама по натуре была совершенно не такой, какой казалась. Уж я-то знаю: она была почти безупречной матерью; мой единственный упрек к ней — она умерла, не сказав, кто мой отец. И кроме того, могу добавить: она была счастливой женщиной, а по-настоящему счастливая женщина способна свести с ума многих мужчин — и уж точно каждую вторую женщину. И если тело ее не знало покоя, то душа оставалась спокойной и безмятежной. Мама была всем довольна — и в этом тоже есть что-то кошачье. Казалось, ей от жизни ничего не нужно, кроме ребенка и любящего мужчины, причем именно в единственном числе: ей не хотелось детей, ей нужен был я, только я один — и я у нее был; ей не надо было многих мужчин, ей нужен был один, тот самый, — и незадолго до смерти она его нашла.
Я назвал тетю Марту «милой женщиной» и готов это повторить: она душевная, привлекательная, порядочная и достойная — и она всегда с любовью относится ко мне. Она и маму мою любила, просто никогда не понимала ее; а когда к непониманию примешивается хоть капля ревности — ничего хорошего не жди.
Я уже говорил, что мама носила одежду в обтяжку — при том что вообще одевалась очень сдержанно; да, она любила подчеркивать грудь, но никогда не обнажала тело, за исключением крепких, почти девичьих плеч. Плечи мама оголяла с удовольствием. А вот чтобы она когда-нибудь оделась неряшливо, пестро или вызывающе — такого я не помню. Она была настолько консервативной в выборе расцветок, что почти весь ее гардероб состоял из белых или черных вещей, за исключением некоторых аксессуаров: она питала слабость к красному, и потому почти все ее шарфики, шляпки, туфельки и перчатки были в красных тонах. Она никогда не обтягивала бедра, но свою тонкую талию и красивую грудь показать любила. У нее ИЗ ВСЕХ МАМ и вправду была САМАЯ КРАСИВАЯ ГРУДЬ, как справедливо заметил Оуэн.
Я не думаю, что она флиртовала. По-моему, она открыто не заигрывала с мужчинами, хотя, если подумать, много ли я понимал в одиннадцать лет? Так что, может быть, она и флиртовала — но самую малость. Мне казалось, что она приберегает свое кокетство исключительно для бостонского поезда, а в любой другой точке пространства — даже в самом Бостоне, в этом жутком городе — моя мама целиком и полностью принадлежит мне, но вот в поезде она, наверное, поглядывает на мужчин. Чем еще можно объяснить, что именно там она встретила мужчину, который стал моим отцом? А через шесть лет в том же поезде встретила другого мужчину, который потом женился на ней! Может быть, думал я, размеренный стук колес как-то расслабляет ее и заставляет совершать странные поступки? Может, в пути, не чувствуя опоры под ногами, она меняется?
Этими своими нелепыми страхами я поделился только один раз — с Оуэном. И его это потрясло.
— КАК ТЫ МОЖЕШЬ ДУМАТЬ ТАКОЕ О РОДНОЙ МАТЕРИ? — спросил он.
— Но ты же сам говорил, что она сексуальная. Сам ведь сказал, что с ума сходишь от ее грудей, — напомнил я ему.
— Я НЕ СХОЖУ С УМА, — возразил он.
— Ну ладно, я имел в виду, она тебе нравится, — поправился я. — Она ведь нравится мужчинам, разве нет?
— ЗАБУДЬ ПРО ЭТОТ ПОЕЗД, — сказал Оуэн. — ТВОЯ МАМА — ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА. И С НЕЙ В ПОЕЗДЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
Ну так вот, хотя она и говорила, что «встретила» моего отца в бостонском поезде, я никогда не мог представить, что там же произошло и мое зачатие. А вот то, что она встретила в этом же поезде мужчину, за которого потом вышла замуж, — это точно. Эта история не была ни выдумкой, ни секретом. Сколько раз я просил ее рассказать мне об этом! И она никогда не уклонялась, всегда делала это с готовностью — и рассказывала каждый раз одно и то же. А сколько раз после ее смерти я просил рассказать мне эту историю уже его — и он тоже делал это с готовностью, но рассказывал все слово в слово, как она. Каждый раз.
Его зовут Дэн Нидэм. Сколько раз я молил Бога, чтобы именно Дэн оказался моим настоящим отцом!
В один из весенних вечеров 1948 года, в четверг, мама, бабушка и я — и еще Лидия, только уже без ноги, — обедали в нашем старом доме на Центральной улице. Четверг был тем днем, когда мама возвращалась из Бостона, и по этому случаю обед подавался более изысканный, чем в другие вечера. Дело было вскоре после того, как Лидии ампутировали ногу, — я это помню потому, что мне еще казалось немного странным увидеть ее за общим столом, — а подавали две новые горничные — они выполняли ту же работу, что и совсем недавно — сама Лидия. К своей инвалидной коляске она тогда еще не привыкла и не разрешала мне возить себя по дому — это позволялось только бабушке с мамой да еще одной из новых горничных. Я сейчас уже не припомню всех правил транспортировки Лидии по дому в коляске, да это и не важно. Суть в том, что мы как раз заканчивали обедать, и присутствие Лидии за нашим столом пока еще бросалось в глаза — все равно как свежая краска на стене.
И вот мама говорит:
— А я встретила другого мужчину в нашем старом добром поезде «Бостон — Мэн».
Думаю, мама произнесла это без всякого злого умысла, но ее реплика мгновенно повергла и бабушку, и Лидию, и меня в крайнее изумление. Лидия вместе со своим креслом отъехала назад, дернув скатерть, так что все тарелки, стаканы и приборы подпрыгнули на месте, а подсвечники угрожающе закачались. Бабушка схватилась за большую брошь на шее, будто вдруг подавилась ею, а я так сильно прикусил нижнюю губу, что почувствовал привкус крови.
Мы все подумали, что мама просто так иносказательно выражается. Я, понятное дело, не присутствовал при том, как она объявила о первом мужчине, которого повстречала в поезде. Может быть, она сказала так: «Я встретила мужчину в нашем старом добром поезде «Бостон — Мэн» — и вот теперь я беременна!» А может, так «Я жду ребенка, потому что в нашем старом добром поезде «Бостон — Мэн» согрешила с совершенно незнакомым мужчиной, которого вряд ли когда-нибудь еще увижу!»
Как бы то ни было, пусть я не могу дословно воспроизвести ее первое заявление, но второе вышло вполне впечатляющим. Ни один из нас ни на секунду не усомнился: она хочет сказать, что снова беременна — только теперь уже от другого мужчины!
И словно в подтверждение того, как глубоко неправа была тетя Марта, считавшая маму «дурехой», мама тут же поняла, о чем мы все подумали, рассмеялась и сказала:
— Нет-нет, я не жду ребенка. Зачем мне — у меня уже есть ребенок Я просто хотела сказать, что встретила мужчину и он мне понравился.
— Другого мужчину, Табита? — спросила бабушка, все еще держась обеими руками за брошь.
— О Господи, конечно, не того, что за глупости! — сказала мама и снова рассмеялась, после чего Лидия чуть-чуть придвинулась к столу, хотя и очень осторожно.
— Ты сказала, он тебе понравился, Табита? — спросила бабушка.
— Я бы не стала вам об этом говорить, если бы он мне не понравился, — ответила мама и добавила, обращаясь ко всем: — Я хочу его с вами познакомить.
— Ты назначила ему свидание? — снова спросила бабушка.
— Да нет же! Я только сегодня познакомилась с ним, в сегодняшнем поезде!
— И он тебе уже нравится? — спросила Лидия голосом, так разительно похожим на бабушкин, что я непроизвольно поднял глаза, чтобы посмотреть, кто из них это произнес.
— Ну да, — серьезно ответила мама. — Вы же знаете, как это бывает. Для этого не нужно много времени.
— Да? Ну и сколько же раз у тебя так бывало? — спросила бабушка.
— Честно говоря, сегодня в первый раз, — сказала мама. — Потому-то я и знаю.
Лидия с бабушкой машинально посмотрели в мою сторону, возможно, хотели убедиться, правильно ли я понял свою маму, что в тот первый раз, когда она «согрешила», в результате чего я появился на свет, она не испытывала никаких особо теплых чувств к моему отцу, кем бы он ни был. Но мне пришло в голову совсем другое. Я подумал: может, это и есть мой отец? Может, это тот самый человек, которого она встретила тогда в первый раз, и он узнал обо мне, и ему стало интересно, и он захотел меня увидеть? И что-то очень важное мешало ему с нами встретиться все эти шесть лет? В конце концов, я ведь родился в 1942 году, а тогда шла война.
И, будто снова подтверждая неправоту тети Марты, мама, кажется, тут же поняла, о чем я размышляю, потому что сразу же поспешила сказать мне:
— Пожалуйста, Джонни, я бы хотела, чтоб ты понял раз и навсегда: этот мужчина не имеет ровным счетом никакого отношения к тому человеку, который был твоим отцом. Этого мужчину я сегодня встретила впервые, и он мне понравился, только и всего. Он просто нравится мне, и надеюсь, тебе он тоже понравится.
— Ладно, — сказал я, но почему-то не смог взглянуть ей в глаза. Я помню, как постоянно переводил взгляд с рук Лидии, вцепившихся в подлокотники коляски, на бабушкины, теребившие брошку.
— А чем он занимается, Табита? — спросила бабушка. Это вопрос совершенно в духе Уилрайтов. Моя бабушка считала, что по роду занятий можно судить о происхождении человека — причем желательно, чтобы оно вело в Англию, в идеале — в семнадцатый век. И потому весьма ограниченный перечень занятий, которые бабушка могла удостоить своим одобрением, был столь же своеобразен, как Англия семнадцатого века.
— Драматургией, — ответила мама. — Он в некотором роде актер, но не совсем.
— Безработный актер? — уточнила бабушка. (Я думаю, актер, имеющий работу, уж точно ее не устроил бы.)
— Нет, актерской работы он не ищет, он актер-любитель, — сказала мама. Я тут же подумал о людях на привокзальных площадях, которые разыгрывают кукольные представления — я имел в виду уличных артистов, но в шесть лет у меня был еще довольно ограниченный словарный запас, и я не знал, как это называется. — Он преподает актерское мастерство и ставит пьесы.
— Он режиссер? — спросила бабушка с оттенком надежды в голосе.
— Не совсем, — ответила мама, и бабушка снова нахмурилась. — Он ехал в Грейвсенд на собеседование.
— Сомневаюсь, что ему тут удастся устроить театр, — заметила бабушка.
— У него было назначено собеседование в Академии, — пояснила мама. — Насчет преподавательской работы. По истории театра, кажется. Кстати, мальчишки в Академии сами ставили несколько пьес. Помнишь, мы с Мартой даже ходили смотреть пару раз. Это так забавно — как они переодеваются в девчонок
Из того, что я помню, это и вправду было самым смешным в их постановках. Я и понятия не имел, что ставить такие спектакли — это работа.
— Так он преподаватель? — снова спросила бабушка. Это было на грани допустимого для Харриет Уилрайт, хотя бабушке хватало деловой искушенности понимать, что по части заработков преподаватель (даже в такой престижной подготовительной школе, как Грейвсендская академия) все-таки не вполне соответствует ее запросам.
— Да, — ответила мама устало. — Да, он преподаватель. Он преподавал сценическое мастерство в одной частной школе в Бостоне. А до этого учился в Гарварде, закончил его в сорок пятом.
— Боже милостивый! — воскликнула бабушка. — Так ведь с этого надо было начинать!
— Он не придает этому такого значения, — сказала мама.
Зато какое значение придавала этому бабушка! Ее неугомонные руки, беспрестанно теребившие брошку на шее, тут же успокоились и опустились на колени. Выдержав для приличия некоторую паузу, Лидия придвинулась в своей коляске еще ближе к столу, взяла в руку серебряный колокольчик и зазвонила, подавая знак горничным, что можно убирать со стола, — этим самым колокольчиком, кажется, еще вчера подзывали саму Лидию. Звук колокольчика помог нам всем стряхнуть только что пережитое оцепенение, но лишь на несколько секунд. Бабушка, оказывается, забыла спросить, как зовут молодого человека. Мы же, как-никак, Уилрайты, мы не успокоимся, пока не узнаем фамилию человека, который может стать членом нашей семьи. Упаси боже, если он окажется каким-нибудь Коэном, Каламари или Мини! И бабушкины руки снова нервно затеребили брошку.
— Его зовут Дэниел Нидэм, — объявила мама.
Ф-фу, с каким облегчением бабушка опустила руки! Нидэм! Прекрасная старинная фамилия, напоминающая об отцах-основателях; фамилия, восходящая к временам Колонии Массачусетского залива, если не вообще прямиком к истории Грейвсенда. А Дэниелом ведь звали самого Дэниела Уэбстера! Да, что и говорить, такое имя Уилрайтам вполне подойдет.
— Но вообще-то ему больше нравится, когда его зовут Дэном, — добавила мама, чем заставила бабушку слегка нахмуриться. Бабушка никогда не соглашалась Табиту переделать в Табби, и, если ей суждено будет общаться с Дэниелом, будьте спокойны, она не станет переделывать его в какого-то там Дэна. Однако Харриет Уилрайт была достаточно благоразумной, чтобы иногда — при несущественных разногласиях — промолчать.
— Так вы, значит, договорились встретиться? — спросила бабушка.
— Не совсем, — ответила мама. — Но я уверена, что еще увижу его.
— Так ты что, ни о чем с ним не договорилась? — недоуменно воскликнула бабушка. Подобная неопределенность ее жутко раздражала. — Но если ему не дадут работу в Академии, ты же можешь никогда больше его не увидеть!
— Я точно знаю, что еще увижу его, — повторила мама.
— Скажите пожалуйста, какая вы всезнайка, Табита Уилрайт! — фыркнула бабушка. — Не понимаю, почему нынешняя молодежь так боится обременять себя планами на будущее!
В ответ на эту тираду Лидия, как обычно, глубокомысленно кивнула — надо понимать, ее молчание объяснялось исключительно тем, что бабушка высказывала вслух ее, Лидии, мысли, только почему-то, как всегда, на мгновение раньше, чем это хотела сделать сама Лидия.
И в этот самый миг позвонили в дверь.
Лидия с бабушкой уставились на меня, будто только мои друзья могли оказаться настолько невоспитанными, чтобы в такое время заявиться в гости без приглашения.
— Господи, это еще кто? — спросила бабушка, и они с Лидией одновременно подчеркнуто долгим, глубокомысленным взглядом посмотрели каждая на свои часики, хотя еще не было и восьми: на дворе стоял благоухающий весенний вечер и небо еще не окончательно погасло.
— Могу поспорить, это он и есть! — воскликнула мама, поднявшись из-за стола и направляясь к двери. Она мельком одобрительно оглядела себя в зеркале над буфетом, на котором остывало жаркое, и устремилась в прихожую.
— Так ты все-таки назначила ему свидание? — не унималась бабушка. — Ты пригласила его?
— Не совсем! — крикнула мама. — Но я сказала ему, где мы живем!
— У современной молодежи все «не совсем», как я погляжу, — заметила бабушка, обращаясь больше к Лидии, чем ко мне.
— Это уж точно, — поддакнула та.
Но мне надоело их слушать, я уже наслушался их достаточно за свою жизнь. Я поспешил вслед за мамой в прихожую, а за мной устремилась бабушка, подталкивая впереди себя Лидию в коляске. Любопытство, которое, как в те времена любили шутить в Нью-Хэмпшире, не одну кошку свело в могилу, взяло в нас верх над чувством приличия. Мы уже давно поняли, что мама еще долго не соберется приоткрыть завесу тайны над ее первой так называемой встречей в бостонском поезде, но уж второго-то ее знакомого мы сможем увидеть собственными глазами прямо сейчас. Дэн Нидэм стоял совсем рядом, на пороге дома номер 80 Центральной улицы города Грейвсенда.
Конечно, мама и раньше встречалась с молодыми людьми, но ни разу она не говорила, что хочет нас с кем-то из них познакомить, или даже что ей кто-то нравится, или что она точно знает, что еще увидится с ним. Итак, мы поняли с самого начала: Дэн Нидэм — нечто особенное.
Я думаю, тетя Марта звала сестру «дурехой» еще и потому, что маму привлекали парни моложе ее; но в этой своей склонности мама просто немного опередила эпоху — мужчины, к которым она ходила на свидания, и вправду часто бывали немного младше ее. Она даже встречалась несколько раз со старшеклассниками из Грейвсендской академии, притом что сама, если бы поступила в свое время в колледж, училась бы уже на последнем курсе. Но с ними она и вправду только «встречалась»: ведь это были парни из подготовительной школы, а ей было уже за двадцать, и на руках ребенок без отца, и все, что она позволяла себе, — это походы на танцы, в кино, в театр или на какие-нибудь спортивные соревнования.
Должен признать, я имел кое-какой опыт общения с некоторыми из этих болванов, и они никогда не знали, как себя со мной вести. Они, к примеру, не имели понятия, что такое шестилетний ребенок. Они дарили мне либо резиновых утят для ванны или еще какие-нибудь игрушки для грудных младенцев, либо «Словарь современного английского словоупотребления» Фаулера — самое увлекательное чтение в шесть лет, что и говорить. И когда они впервые видели меня, когда они сталкивались с живым, настоящим ребенком и понимали, что я уже вырос из игрушек для ванны и еще не дорос до «Словаря современного словоупотребления», то прямо изводились, стараясь поразить меня своим умением найти со мной общий язык. Например, предлагали поиграть в мяч на заднем дворе, и это неизменно кончалось тем, что мяч летел мне в физиономию. Или начинали сюсюкать и просили показать мою любимую игрушку, чтобы знать, что принести в следующий раз. Следующий раз, правда, случался редко. А один тип, прежде чем взять меня на руки, — он собирался «покатать меня на диком мустанге», — спросил маму, умею ли я проситься на горшок.
— НАДО БЫЛО ОТВЕТИТЬ «ДА», А ПОТОМ НАПИСАТЬ ЕМУ НА КОЛЕНИ, — сказал потом Оуэн Мини.
Одна примечательная деталь: все мамины «кавалеры» были красивые. И я, даже при таком опыте, не был готов к встрече с Дэном Нидэмом, который оказался длинным и неуклюжим парнем с огненно-рыжими волосами. Он носил очки, казавшиеся слишком маленькими на его яйцеобразном лице, — идеально круглые линзы придавали Дэну напряженно-чуткое выражение, делая похожим на гигантскую сову. После того как он ушел, бабушка сказала, что, должно быть, впервые в истории Грейвсендской академии на работу взяли «преподавателя, который выглядит моложе учеников». Вдобавок ко всему, на нем плохо сидела одежда: пиджак был слишком тесным, с короткими рукавами, а брюки настолько велики, что мотня болталась ближе к коленям, чем к бедрам — женоподобно-широким, единственной пухлой части его нескладного тела.
Я был маленьким циником и не сразу разглядел в нем доброту. Его не успели еще представить ни бабушке, ни Лидии, ни даже мне, как он посмотрел прямо на меня и сказал:
— Ты, должно быть, и есть Джонни. Я много слышал о тебе — насколько вообще можно много услышать за полтора часа езды в поезде — и поэтому знаю, что тебе можно доверить на хранение один ценный сверток
Это была коричневая хозяйственная сумка, внутри которой виднелся бумажный пакет. Ну, начинается, подумал я: какой-нибудь надувной верблюд, который умеет плавать и плеваться. Но Дэн Нидэм сказал:
— Это не для тебя, это вообще не для ребят твоего возраста. Но я доверяю тебе: поставь это куда-нибудь в такое место, где на него никто не наступит и до него не доберутся домашние животные, если они у вас есть. Смотри, ни в коем случае не подпускай к нему животных. И не вздумай его открывать. А если начнет шевелиться, скажи мне.
И с этими словами Дэн отдал сумку мне. Для «Словаря современного английского словоупотребления» Фаулера она была недостаточно тяжела, а уж если мне велели не подпускать к ней домашних животных, и, «если он начнет шевелиться», сказать Дэну, — ясное дело, там сидит кто-то живой! Я быстренько задвинул сумку под столик в прихожей — мы его называли телефонным столиком — и стал в дверях между прихожей и гостиной, где Дэн Нидэм в это время собирался присесть.
Садиться в бабушкиной гостиной всегда было непросто, потому что большая часть, казалось бы, подходящих кресел и стульев на самом деле для этого не предназначались — то был антиквариат, который бабушка хранила для истории, а для антикварной мебели вредно, когда на нее садятся. Поэтому, хотя гостиная была весьма обильно меблирована мягкими стульями и диванчиками, немногие использовались по назначению — и очередной гость, облюбовав себе место и уже согнув ноги в коленях, едва не подпрыгивал, когда бабушка вскрикивала: «Ох, ради бога, только не туда! Там нельзя сидеть!» Перепуганный гость, пытаясь исправить ошибку, нацеливался на следующее кресло или диван, но и они, по мнению моей бабушки, тоже могли развалиться или рухнуть от непосильной нагрузки. Бабушка, я полагаю, сразу заметила, что Дэн Нидэм — мужчина крупный и к тому же обладает внушительной кормой, — это, без сомнения, означало: выбора у него еще меньше. Вдобавок ко всему Лидия, не успевшая научиться как следует управляться со своей коляской, все время оказывалась у кого-то на дороге, а мама с бабушкой покуда не выработали полезного навыка — просто брать и отодвигать коляску в сторону, когда нужно.
Итак, в гостиной возникла полная неразбериха: Дэн Нидэм кружил от одного драгоценного кресла к другому, а мама и бабушка без конца наталкивались на коляску Лидии, пока в конце концов бабушка властным голосом не скомандовала, куда кому сесть. Я старался держаться подальше от всеобщей суматохи и краем глаза поглядывал на зловещую хозяйственную сумку, представляя себе, что будет, если она слегка зашевелится или если рядом вдруг появится какой-нибудь неведомый щенок и либо съест то, что там внутри, либо сам окажется съеден. У нас в доме никогда не было животных: бабушка считала, что держать домашних животных — значит добровольно делать из себя посмешище, ставя себя с ними на одну доску. И тем не менее я весь извелся, наблюдая за сумкой, чтоб не пропустить ни малейшего шевеления, а еще больше извелся от всей этой дурацкой суеты взрослых, сопровождавшей обряд их знакомства. Однако постепенно мое внимание полностью переключилось на сумку, я потихоньку выскользнул из гостиной, уединился в прихожей и, скрестив ноги, уселся на коврик перед телефонным столиком. Бока сумки разве что не дышали, и мне даже показалось, что я уловил незнакомый, ни на что не похожий запах. Этот подозрительный запах невольно заставлял меня подбираться все ближе и ближе к сумке, пока я окончательно не заполз под столик и не прислонился к ней ухом, прислушиваясь, а потом заглянул внутрь. Однако бумажный пакет внутри сумки надежно скрывал содержимое от моих любопытных глаз.
В гостиной тем временем шел разговор на исторические темы — Дэн Нидэм ведь получил приглашение от кафедры истории. Он достаточно основательно изучал историю в Гарварде и был вполне подготовлен, чтобы вести курс, утвержденный в Грейвсендской академии. «Так, значит, тебя приняли!» — воскликнула мама. У него был необычный подход к истории: он рассматривал историю театра как ключ к истории человечества — он говорил что-то про публичные увеселения, свойственные каждой отдельно взятой исторической эпохе и якобы способные дать представление об этой эпохе не хуже, чем так называемые политические события, — но суть его рассуждений доходила до меня смутно, настолько я был поглощен содержимым хозяйственной сумки в прихожей. Я снова вытащил ее из-под столика, поставил себе на колени и стал ждать, когда там что-то начнет шевелиться.
После собеседования с сотрудниками кафедры истории и с самим директором Академии, продолжал Дэн Нидэм, он попросил дать ему возможность выступить перед теми учениками, кто интересуется театром — впрочем, и преподаватели, если хотели бы, тоже могли присутствовать, — и во время этой встречи он попытается наглядно показать им, как с помощью определенных приемов театрального искусства, иными словами — актерских навыков, помочь зрителю лучше понять не только персонажей на сцене, но также и особенности времени и места, в которых протекает театральное действие. На такие собрания, сказал Дэн, он всегда приносит какой-нибудь «реквизит» — что-нибудь интересное, чтобы завладеть вниманием своих учеников или, наоборот, отвлечь их от того, что он собирается показать им в самом конце. А он болтун еще тот, подумал я.
— Что за реквизит? — спросила бабушка.
— Да, что за реквизит? — эхом отозвалась Лидия.
И Дэн Нидэм сказал, что реквизитом может быть все, что угодно: однажды он использовал для этого теннисный мяч, а в другой раз — живую птицу в клетке.
Вот оно что, подумал я, ощупав сумку и решив, что ее твердое, неживое и неподвижное содержимое вполне могло быть клеткой для птиц. Птицу, конечно, трогать нельзя. Но я решил, что хоть посмотреть-то на нее можно, и с замиранием сердца, стараясь действовать как можно тише, так, чтобы эти зануды в гостиной не услышали, как шуршит бумажный пакет в сумке, я слегка приоткрыл его.
Морда, которая уставилась оттуда прямо мне в глаза, никоим образом не напоминала птичью, и не было там никакой клетки, которая помешала бы этой твари прыгнуть на меня; мало того, эта тварь, казалось, не только способна прыгнуть, но, по всем признакам, собиралась это сделать немедля. Вся внешность животного выражала свирепую угрозу: его рыло, узкое и длинное, как у лисы, нацелилось мне в лицо, словно дуло пистолета; его блестящие дикие глаза горели ненавистью и бесстрашием, а длинные, какие-то доисторические когти передних лап так и тянулись ко мне. Он был похож на куницу в панцире или хорька в чешуе.
Я заорал. Совершенно забыв, что сижу под телефонным столиком, я подскочил, как ужаленный, перевернул столик и запутался ногами в телефонном проводе. Не сумев выпутаться, я кинулся из прихожей в гостиную, с грохотом волоча за собой телефон, столик и этого невиданного зверя в сумке. И от этого грохота я заорал снова.
— Боже милостивый! — вскрикнула бабушка.
Но Дэн Нидэм, как ни в чем не бывало, обернулся к маме и весело сказал:
— Вот видишь, я говорил, что он откроет сумку!
Поначалу я подумал, что Дэн Нидэм — такой же болван, как и все остальные, и что он не понимает самого главного в шестилетних детях: ведь сказать им, что нельзя открывать сумку, значит, по сути дела, предложить им это сделать. Но оказалось, он как раз таки очень хорошо понимает, что такое шесть лет. К чести его будь сказано, ему самому в некотором смысле можно было дать не больше шести лет.
— Что там в этой сумке, ради всего святого? — спросила бабушка, когда я наконец сумел выпутаться из телефонного провода и пополз к маме.
— Мой реквизит! — ответил Дэн Нидэм.
Да уж, это был реквизит что надо: в сумке лежало чучело броненосца! Мальчишке, выросшему в Нью-Хэмпшире, броненосец казался по меньшей мере небольшим динозавром — потому что кто в Нью-Хэмпшире, скажите на милость, видел когда-нибудь полуметровую крысу с панцирем на спине и когтями как у муравьеда? Вообще-то броненосцы питаются насекомыми, земляными червями, пауками и улитками — но откуда я мог это знать? Мне казалось, он не прочь закусить мной, хотя я и понимал, что ему это вряд ли удастся.
Дэн Нидэм отдал его мне. Это был первый подарок из всех, что мне дарили мамины «кавалеры», который я сохранил надолго. Спустя многие годы после того, как у него не стало когтей и отвалился хвост, высыпалась набивка и опали бока, разломился пополам нос и потерялись стеклянные глаза, я продолжал хранить костяные чешуйки от его панциря.
Я, конечно, сразу полюбил броненосца, и Оуэн Мини его тоже полюбил. Часто, когда мы играли на чердаке, доканывая бабушкину древнюю швейную машинку или наряжаясь в одежду покойного дедушки, Оуэн вдруг ни с того ни с сего говорил: «ПОЙДЕМ ВОЗЬМЕМ БРОНЕНОСЦА! ПРИНЕСЕМ ЕГО СЮДА И СПРЯЧЕМ В ЧУЛАНЕ».
В огромном таинственном чулане, где хранилась одежда покойного дедушки, было полно всяких закутков и под потолком тянулись полки, а на полу там и сям стояли ряды башмаков. Где мы только не прятали нашего броненосца: в подмышках старого смокинга, в голенищах болотных сапог, под шляпой; даже подвешивали его на подтяжках. Один из нас прятал его, а другой должен был найти с помощью одного лишь карманного фонарика. И сколько бы раз мы все это ни проделывали, наткнуться на него в темном чулане, внезапно выхватить лучом из темноты его безумную свирепую морду было всегда жутко, и тот, кто его находил, всякий раз издавал при этом оглушительный вопль.
Иногда вопли Оуэна вызывали появление моей бабушки, которой вовсе не хотелось взбираться наверх по шаткой лестнице и самой поднимать тяжелый чердачный люк. Стоя у подножия лестницы, она грозно осаживала нас: «Эй вы там, потише!» Иногда она добавляла, чтобы мы поосторожнее обращались со старинной швейной машинкой и с дедушкиной одеждой: мол, кто знает, может, когда-нибудь она захочет что-то продать. «Это антикварная швейная машинка, понятно вам?» Ну да, в этом старом доме на Центральной улице почти все было антикварным, но мы с Оуэном знали совершенно точно — вряд ли хоть что-нибудь из этого будет продано, по крайней мере при жизни бабушки. Слишком уж она любила свой антиквариат, и это было заметно: в гостиной все меньше оставалось кресел и диванов, на которых разрешалось сидеть.
Так что мы с Оуэном даже не сомневались, что весь этот хлам пролежит на чердаке до скончания века. И искать среди этих реликтов нашего ужасного броненосца (который и сам казался неким реликтом древнего животного мира, напоминанием о той эпохе, когда человек, выходя из своей пещеры, всякий раз рисковал жизнью), охотиться за этой набитой опилками тварью среди артефактов времен юности моей бабушки стало одним из любимых развлечений Оуэна Мини.






