Хмель Черкасов Алексей
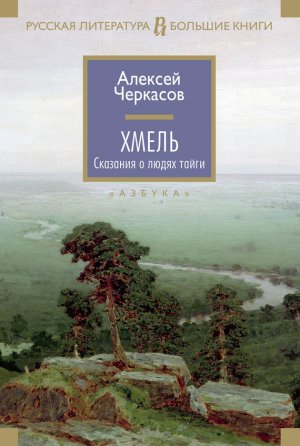
– Жить, жить, жить! – орали мучители Ефимии.
Если бы могла Ефимия взглянуть на апостолов, что она сказала бы им – убийцам Веденейки! Не Калистрат ли с Тимофеем принесли Веденейку из избы Ларивона?
Не Ксенофонт ли с тем же Тимофеем удушили парнишку волосяной подушкой? И вот убийцы избрали себе нового духовника, надели ему на шею четырехфунтовый золотой крест, клялись перед иконами, что будут все как одно тело и одна душа, и трижды прокляли Филарета, чью волю и слово недавно почитали превыше воли самого Господа Бога!
Связанного по рукам и ногам Филарета запихали под стол, где он сопел и рычал, как издыхающий зверь.
Ефимия заливалась слезами над телом Веденейки, не чувствуя ни боли пожженного тела, ни раны от посоха на плече. Поторкали Иону – не отзывается. Старикашка не выдержал ударов посохом по святой голове Филарета. Слыхано ли, видано ли: самого духовника…
Ссохшееся от постов и радений тело Ионы положили на судную лавку, сложили праведнику руки, заскорузлые от грязи: Иона никогда не мылся, такую наложил на себя епитимью, – и вложили в мертвые пальцы восковую толстую свечку. Преставился апостол!..
Калистрат вспомнил и про Лопарева:
– Кандальник спасения искал у нас, а где он теперь? В степь повели пытать? Виданное ли святотатство, братия?
– Озверел, озверел сатано! – отозвались апостолы.
Заручившись поддержкою апостолов, Калистрат надумал разоружить верижников – бывалых поморских охотников. Но вот как это сделать без шума и кровопролития? Угодливый Ксенофонт подсказал, что надо выйти к верижникам с иконами и песнопением, позвать всех на тайное моленье к часовне, и пусть они ружья и рогатины сложат возле избы духовника. И там, на моленье возле часовни, объявить, что в старца Филарета вселился нечистый дух и что апостол Калистрат узрил, как на голове Филарета проступили рога. Апостол не растерялся и сбил рога с башки старца-еретика. И вот, мол, решайте сами, какую епитимью наложить на старца за гордыню и святотатство и за убийство апостолов-праведников.
Перед иконами верижники не устояли – попадали на колени…
Ксенофонт позвал всех на тайную молитву к часовне, да чтоб ружья и рогатины сложили возле избы духовника.
Калистрат не вышел с крестом; спрятал его под рубаху и знаками подозвал своих трех единомышленников: блудливого Луку, Никиту и Гаврилу. Они и остались возле ружей и рогатин, а с ними – Калистрат.
Ксенофонт, Тимофей и Андрей с верижниками, распевая псалмы, подались к часовне…
Верижник Лука рысью побежал за Юсковыми и за другими мужиками, которых когда-то подговаривал Калистрат свергнуть душителя Филарета.
Возле чернеющих избушек и землянок в разноголосье запели петухи. Вторые…
У Калистрата зуб на зуб не попадает. Удастся ли апостолам уговорить верижников, или те кинутся выручать Филарета?
«Благослови, Господи, лютую крепость рушу, – молился Калистрат. – Вразуми мя, Спаситель, как вершить волю Твою! Не бежать ли, пока не поздно? В Тобольск, в Ишим ли. Везде можно найти пристанище».
И убежал бы, если бы не подоспели четверо Юсковых: Третьяк, Микула, Михайло, Андрей. Еще подбежали мужики и взялись за ружья. Третьяк, позабыв про племянницу, пытанную огнем, погнал верижников Никиту и Гаврилу поднимать мужиков-посконников.
– Зело борзо! Супротив верижников, дармоедов, вся община подымется, Калистратушка! Вот они, ружья-то!.. Наша сила теперь, славу Богу!..
Калистрат молча достал из-под рубахи золотой крест: глядите, мол, духовник перед вами.
Третьяк размашисто перекрестился:
– Слава те Господи, свершилась воля Твоя! Повергнут иуду-мучителя. Возрадуемся!
Мужики действительно обрадовались. Кому интересно кормить дармоедов-верижников да замирать от одного их взгляда!..
На улицу выбежала Ефимия с телом Веденейки на руках. Голая!.. Калистрат успел схватить ее, но она вырывалась.
– Ефимия! Благостная! Куда же ты бежишь, голая?
– Изыди! Изыди! Изыди! – кричала Ефимия.
Третьяк снял с себя однорядку, накинул на плечи Ефимии и подозвал Михайлу и Андрея, чтоб они увели ее в избу к Даниле да поскорее сами возвращались.
Со всех сторон подбегали мужики. Вскоре набралось человек пятьдесят – и ружья верижников разобрали…
Не успели третьи петухи допеть свои песни, как от часовни с апостолами и без песнопения вернулись верижники…
Калистрат хоть и трусил, а вышел навстречу в облачении духовника и объявил волю апостолов.
– Молитесь, братия, порушилась крепость сатанинская, какую породил своей гордыней старец Филарет, отринувший Исуса! Молитесь, и благость будет. Жить будем миром и добром, а не пытками и кровью, какие учинял нечестивец Филарет, а вы сторожили те пытки с ружьями! Грех был! Великий грех! Ружья и рогатины – не вериги, а огонь и смерть. Пусть ружья носят правоверцы семейные, а не пустынники-праведники! С ружьями ли по земле Иудейской, Египетской и Вавилонской хаживали Моисей и сам Христос?
В разноголосье, по-петушиному и не дружно отвечали верижники:
– Филарет! Старец! Тако заведено было в Поморье!..
– Молитесь, молитесь, братия! Не ружьями молитесь, а перстами, как Спаситель заповедовал!
Верижники нехотя расползлись по своим землянкам и избушкам. Ничего не поделаешь, придется молиться перстами. Но как же охотиться на зверье с голыми руками? Может, еще удастся вернуть Филарета в духовники, хотя на моленье возле часовни порешили: пусть духовником общины будет Калистрат, а Филарету – епитимья на три года за убиенных апостолов…
Лопарева вели на веревке по степи, чтоб он указал, на каком месте Бог послал ему кобылицу с жеребенком.
Тащили да приговаривали: «Кабы всех бар вот так веревками повязать да на рогатины вздеть. Хвально было бы Исусу!..»
Росная степь умылась солнечными лучами и чуть обсохла.
За минувшую ночь праведники до того излупили барина, что он еле передвигал ноги. Не ругался и не проклинал своих мучителей. Успокоение и примирение настало. И вдруг показались верховые, и апостол Павел сказал, что надо подождать – не из общины ли?
Безбородый Лука приставил ладонь ко лбу, пригляделся:
– Вроде Третьяк с Михайлой Юсковым.
– Ври, – не поверил Ларивон. – Говорил же батюшка: Третьяку и всему становищу Юсковых – каюк в нонешнюю ночь, и Калистратушке такоже. Потому и верижников с ружьями призвал, как тот раз, еще в Поморье, когда пожгли себя филипповцы.
– Третьяк, Господи помилуй! – ахнул верижник Терентий, помощник апостола Павла. – Михайла с ним, двое посконников и апостол Ксенофонт благостный.
Теперь и Ларивон видел: Третьяк скачет с ружьем и с рогатиной, и Михайла с ружьем и с рогатиной, и посконники с ружьями!
– Спаси Христос! – перепугался апостол Павел. – Откель у посконников ружья объявились?
«Посконниками» называли семейных правоверцев, землепашцев, ремесленников, пастухов, скотников. Им всем строго-настрого запрещалось брать в руки ружья. И только в становище Юсковых были ружья, потому что кузнец Микула – под пачпортом пустынника, и Третьяк тоже объявил себя верижником с ружьем. Хитрость Филаретову проведал да воспользовался ею. Вот почему Третьяк советовал Лопареву примкнуть к верижникам и взять себе в тягость не борону, не чугунные гири, а ружье таскать!..
Лопарев до того обессилел, что не ждал спасения. Какая разница: сейчас ли его прикончат или к вечеру?
– Третьяк-то, Третьяк-то, а? – суетился Ларивон, не веря собственным глазам. – Живой еретик-то, живой!
Пятеро верховых все ближе и ближе. И ружья на изготовку. Только апостол Ксенофонт без ружья. Он и подъехал первым. Не торопясь спешился. За ним – Третьяк с Михайлой и двое бородачей-посконников.
Ксенофонт благостный указал рукой на Лопарева:
– Развяжите праведника.
Лобастый, лысый Павел поднял ладонь с разобщенными пальцами – между средним и безымянным, заявил:
– Еретиком объявился барин-то. И веру нашу отринул, и духовника ругал непотребно.
Ксенофонт тоже поднял ладонь:
– Сказано: развяжите и дайте ему ружье. Так повелел духовник, – объяснил Ксенофонт, и ни слова, что Филарет низвергнут.
Лопарев только покривил распухшие губы. Теперь он никому не верит. Руки у него до того отекли, связанные за спиной, что он едва ими шевелил. Верижник Терентий протянул ему ружье, но он не взял. С него хватит и той «охоты», какую он пережил за минувшую ночь.
– Бери, бери, праведник, – просил Ксенофонт, не внявший словам лысого Павла, что барин «еретиком показал себя».
– Зачем оно мне, ружье? – хрипло спросил Лопарев. – Меня и без ружья примут на каторге. В общине останусь. Нет! С меня довольно. – И отвернулся.
Ксенофонт взял ружье у Терентия, потом у безусого малого Луки, а Ларивон попятился с ружьем в сторону.
– Самому батюшке Филарету, сиречь того, Спасителю нашему отдам ружье!
Ксенофонт молча отнес ружье в сторону, шагов на десять, и сказал Лопареву, чтоб он тоже отошел, потому – будет сказана воля духовника.
Стали лицо к лицу – пятеро подъехавших к четырем.
Ксенофонт указал на Лопарева:
– Собаки нечистые, как вы избили праведника, какой пришел в кандалы закованный искать милости, а не батогов! Ах вы, собаки!.. А тебя, Ларивон, бить будем. Батюшка твой еретиком объявился! Исуса отверг, Бога отверг, и рога Сатаны на лбу выросли!
От такого нежданного сообщения гигант Ларивон лишился дара речи, а вместе с ним и его сообщники.
– Повергли крепость Филаретову, повергли! – возвысил голос Ксенофонт. – И ты, праведник, прости нас, грешных; Сатано всех ввел в заблуждение да и в искус. Правил нами, яко зверь рыкающий. Нету теперь зверя. Веревками повязали и кляп ему в рот забили. Микула чепь сготовит, и будет он сидеть на той чепи три года.
– Исусе!
– Духовник наш теперь – многомилостивый Калистрат, братия!
Ларивон чуть не упал от такого сообщения. Калистрат – духовник общины? Юсковский прихлебатель? Боров упитанный!
– Неможно то! Неможно! – гаркнул Ларивон. – Не быть духовником Калистрату, кобелине треклятому!
Ксенофонт затрясся от подобного святотатства:
– Неможно, гришь?! Неможно?! Батюшку Калистрата – да погаными словами?! А ну, праведники, лупите гада Филаретова!
Ларивон отскочил и ружье поднял:
– Не дамся!
– Убьем, собака! – И Ксенофонт сам схватил ружье. (Апостол-то – да с ружьем.) – Убьем, слышишь? И Луку твово убьем, и чад твоих, и Марфу.
– Батюшка! – подскочил к Ларивону безусый Лука. – Молись! Али всем пропадать, што ли? Батюшка-а!
– На колени, собака! – кричал Ксенофонт. – Благостно тебе было с нечестивым Филаретом крепость держать да праведников попирать! Нету теперь той крепости, собака! На колени! Али не жить тебе и Луке!
Ларивон повалился на колени.
– Дай сюда ружье, Лука!
Лука передал ружье Ксенофонту и сам упал апостолу в ноги: помилуйте, мол, батюшку и меня с ним.
Но Ксенофонт разошелся. Где уж тут до милости, если Ларивон посмел поганым словом очернить духовника Калистрата!
– Бейте, праведники, пса Филаретова! Бейте его, бейте! Чтоб долго помнил. А ты, Михайла, и я ружья возьмем. Ежли он хоть рукой двинет, двумя пулями в башку ему!..
И тут началось поучение «Филаретовой собаки», Ларивона, самого ненавистного для всей общины – тупого и упрямого, ревностного исполнителя воли батюшки Филарета.
– Бей и ты, праведник, бей! – призвал Ксенофонт Лопарева, но Лопарев отвернулся и пошел в степь.
С него довольно! Довольно! Ему наплевать, кто теперь духовник общины – Филарет-мучитель или Калистрат многомилостивый, именем которого лупцуют Ларивона.
«Одну крепость заменили другой и возрадовались. Ко всем чертям!» Пусть хоть сам Христос явится к ним в духовники. Лопарев не отдаст Ему поклона и не перекрестится ни кукишем, ни ладонью.
Единственное, что еще тянуло Лопарева в общину, – Ефимия. Надо же узнать, что с ней. О, до какой дикости и изуверства могут дойти люди! Надо вырвать Ефимию из общины. Пусть она узнает, что жить можно и без всенощных молитв и радений, без тьмы-тьмущей. Если бы Лопарев сам не был беглым каторжником, он бы увел Ефимию в город. Может, удастся скрыться в Варшаву? Достать бы подорожную бумагу и добраться до Варшавы. Там у него есть друзья. Он не предал их, нет!..
О чем только не думал Лопарев, бредя по степи. Третьяк нагнал его. На поводу еще одна лошадь – для Лопарева.
– Зело борзо! Садись, Александра!
Лопарев вскарабкался на лошадь.
– Нету теперь крепости мучителя, Александра! – возвестил Третьяк. – Калистратушка сбил рога с Филарета, зело борзо. И ружья отняли у верижников. Пусть таскают на хребте бороны или железяки. Прижмем собак, прижмем! Вся крепость на верижниках держалась. Ох, што они вытворяли в Поморье, кабы знал!
Лопарев помалкивал.
– Жалко благостную. Мучение приняла за всех…
– Ефимия?!
Лопарев дернул коня за ременный чембур и помчался рысью к становищу общины.
Возле избы Третьяка – бабий вопль по убиенному Веденейке…
Лопарев протиснулся в избу. Маленький стол убран. На лавке – тело Веденейки, того самого Веденейки, который перепугался, впервые увидев чужого человека. Кудрявая светлая головка, восковая свечка в ручонках, и около сына на коленях – Ефимия, укутанная по шею в тонкий холст: платья не могла надеть на пожженное и пораненное тело.
Посмотрела на Лопарева долгим-долгим взглядом.
Как она изменилась, Ефимия! Ни кровинки в лице. Удивительно спокойная и какая-то сумная, отрешенная.
Лопарев опустился перед ней на колени.
– Молилась за тебя, – тихо промолвила. – Пытали звери? Вижу, вижу! – А по щекам слезы, как горошины.
– Если бы я мог знать, Ефимия!.. Обманом увели в степь!
Ефимия смигнула с ресниц слезы, вздохнула, как будто что-то припоминая.
– Нету у меня сына Веденейки. Удушили.
Что же ей сказать? Чем утешить? И есть ли утешение для матери, когда она стоит на коленях перед телом убиенного сына?
– Думала, убили тебя. Молилась, чтоб защитила тебя Матерь Божия. Ни о чем больше не просила Богородицу!.. Ни о чем более!.. За Веденейку молилась, чтоб вырос да проклял старца-душителя!.. Не вырастет Веденейка. Не вырастет!
Слезы высохли на глазах Ефимии. Ей бы надо плакать сейчас, стенать, а глаза сухие, дикие, горящие холодным огнем.
– Жить надо, Ефимия! Ты помнишь, говорила так?
Ефимия покачала головой:
– Нету Ефимии. Нету. Огнем сожгли, погаными устами оплевали. Нету, нету!
Мгновенье помолчав, попросила:
– Отдай поклон Веденейке и ступай. Не зри меня, не зри!.. Тяжко мне. Тяжко. Сыми тяжесть жизни с меня, Мать Пресвятая Богородица. Сжалься!.. Не надо жить мне, не надо!.. Не хочу!.. Иди, иди, Александра… Иди!.. Не песнопениями жизнь повита, а слезами да горем, да смертью. Иди!
Лопарев наткнулся на какую-то старуху, ударился плечом о косяк и не вышел, а вывалился из сеней.
…Синели воды Ишима. Веяло свежестью реки. На отмели под водой сверкали камушки. Так же, как всегда, порхали над рекой птицы, а чуть поодаль, под навестистыми рябинами, резвилась рыба. А там, за Ишимом, равнинная степь, и нет ей конца-края. Есть ли там люди, на том берегу? Деревни, города? Ну а дальше? Что там дальше? Персия, что ли? Шахи с гаремами и со своей крепостью? И у них своя вера? Магометанская, кажется. Ну а что, если во дворце шаха кто-нибудь скажет: «Нету Магомета!» – на огонь поволокут или будут пытать каленым железом?
А река бормотала о чем-то, и кто знает, как далеко неслись ее прохладные воды.
Завязь пятая
Жизнь, как и река, – с истоком и устьем.
У каждого – своя река. У одного – извилистая, петлистая, с мелководьем на перекатах, так что не плыть, а брести приходится; у другого – бурливая, клокочущая, несущая воды с такой яростью, будто она накопила силы, чтоб пролететь сто тысяч верст, и вдруг встречается с другой рекой, теряет стремительность, шумливость, и начинается спокойное движение вперед, к устью.
Есть не реки, а ручейки – коротенькие и прозрачные, как жизнь младенца: народился, глянул на белый свет, не успел налюбоваться им и – помер. Таким ручейком была жизнь Веденейки…
Если глянуть с истока, иной думает: нету конца-края теченью его реки – и он радуется.
В истоке не оглядываются назад. За плечами – розовый туман, и в том тумане – игрища, потехи, мать да отец, братья да сестры, бабушки да дедушки, прилежание иль леность, – чем любоваться? Зато вперед глядеть радостно. Неведомые берега тянут к себе, новые люди, встречи и разминки – жизнь!..
С той поры, когда человек начинает ходить, он уже жизнеиспытатель, землепроходец, меряющий землю двумя стопами, а не четырьмя, как скот какой.
Только птица разве сродни человеку…
И чтобы ни в чем не уступать птице, человек еще в сказках взлетел на ковре-самолете. И тогда же подумал: есть ли кто равный мне? И ответил: нету. В том его сила и слабость.
Гордыня, властолюбие возносит иного на высоченную гору, и тогда начинается беда…
Гордыня вознесла Филарета, и он возомнил о себе, что в него вселился Святой Дух и ему нет равных.
Попрал многих, оплевал, ожесточил, и его попрали. Тою же хитростью, какой он правил.
Калистрат перехитрил Филарета и сбил с него рога…
Опамятовался старец связанным и с кляпом во рту.
На другой день явился Калистрат с апостолами и объявил, что пустынники-верижники приговорили Филарета к епитимье на три года.
И тут Филарет подумал: устье близко…
Глянул вперед – страшно: смерть-то вот она, рукой достать.
Отогнал прочь окаянное видение и стал глядеть назад, в прошлое. Увидел себя парнем, холопом барским – нерадостно. На губе пробился ус, а в сердце любовное тление. Огонь еще не зачался, а только чуть тлел уголек. Тот уголек заронила ему в душу холопка Дуня.
Вспомнил, как ждал, что из уголька возгорится пламя, да не дождался: холопку Дуню барин Лопарев выдал замуж за старого сластолюбца, приезжего из Орла.
В сердце Филарета образовался камень. От тяжести того камня кровью налились глаза и отяжелели руки. Поджег барскую маслобойню и убежал. Куда? По белу свету.
Потом странники. Такие же ожесточенные, обиженные жизнью.
– Спасение в старой вере! – вопили они, и молодой Филарет охотно принял старую веру, только бы не угодить в барские иль царские холопы.
С того пошло…
Река в излучине точит берег, рвет его; обида и несправедливость ожесточают сердце. День ото дня сердце холодеет, твердеет постепенно, и тогда уже в нем не вздуешь огня радости.
И Филарет отторг радость.
– В мучениях пребывать должны мы, рабы Божьи. Спасение на Небеси будет!
Старая вера затмила небо и звезды, и жизнь.
Свиделся с равным себе по лютой злобе к барам и дворянам – с Емелей Пугачевым, беглым хорунжим из казанской тюрьмы. Принял его как «осударя Петра Федоровича» и помог собирать войско…
Пламенем восстания обожгло щеки и душу – возрадовался.
Силушку употребил в дело.
Пережил разгром праведного войска и ушел в странствие. Не один, с бабой. Казачку Прасковеюшку прихватил с собой. Синеглазую казачку писаной красоты. С казачкой Хлопуша баловался. Хлопушу повязали, а Прасковеюшка Филарету досталась. Не роптала на судьбу праведница. Любви не было, обида и горечь поражения жгли сердце. Прожил с Прасковеюшкой сорок годов и ни разу не поцеловал в медовые уста.
…В 1694 году в Поморье на речке Выге, при впадении в нее реки Сосновки, Данило Викулов основал первую староверческую пустынь. Раскольники там имели два главных монастыря – Выговский и Лексинский. В каждом из них была своя часовня с колокольней, кельи для белиц и монахов, больница для престарелых и убогих, гостиница для приезжих и много хозяйственных построек.
Монастыри подчинялись раскольничьему Церковному собору, где и занял почетное место духовника Филарет Боровиков.
Все важные дела – торговые, строительные, административные, религиозные и нравственные – обсуждались Церковным собором. Власть собора была всеобъемлющей. Особенно строго собор следил за тем, чтобы ни в чем не нарушалась старая вера. Всякого уклоняющегося от старой веры доставляли в собор под караулом, принуждали к временному отлучению от общества, публичному покаянию, запирали в смирительную камеру с донной водой, а особо упорствующих живьем сжигали либо сажали на цепь, избивали палками, пытали огнем. Воров и насильников клеймили каленым железом и гнали прочь с Поморья.
Пустынь занималась скотоводством, морскими промыслами, торговала со многими городами, с Сибирью и даже с заморскими странами.
Жили богато, прибыльно, на широкую ногу. А те, что правили Церковным собором, слыли за земных богов, перечить которым нельзя и опасно.
Податей не платили, а сами получали мзду со всех раскольничьих монастырей: с Волги, Камы, Белой и Малой Руси, Лифляндии; из Сибири получали медь и железо и в большом количестве золото.
Выговская пустынь стала потом центром всех раскольников.
Раскольники – участники многих бунтов…
Филарет в соборе вершил суд над еретиками с той же лютостью, какую перенял от существующей власти царя-анчихриста.
«Такоже крепость держать надо! Милосердия нету».
И гордыня свила гнездо в сердце.
И вот низвергнут… Легко ли?
Тяжко.
Длинная-длинная ночь. Впереди – забвение…
На запястье левой руки – железное кольцо на заклепке. Обновка от Калистрата. От кольца – толстая цепь в десять аршин длины. В стену вбита скоба. К скобе цепь примкнута на увесистый замок. Микула Юсков услужил-таки!
Семнадцать суток на цепи. Люто. Люто.
И вспомнил, как в каменных подвалах Выговского монастыря по пояс в донной воде годами сидели еретики и он, Филарет-духовник, наведываясь в подвалы, думал: обвыклись, собаки!..
Гремя цепью, Филарет сполз с лежанки и встал на молитву.
У оконца еще одна лежанка, и на ней верижник Лука, блудливый пес, которому Калистрат доверил приглядывать денно и нощно за Филаретом.
Лука проснулся от звона цепи, поднял голову от подушки. Филарет ехидно скрипнул:
– Что узрился, сучий сын?
Лука приподнялся на локте, отпарировал:
– Али те не спится без рогов-то Сатаны? Благостно вышло: два раза трахнул посохом святой Калистрат – и роги сбил. Хвально.
– Пес рваный.
– Горбись, горбись, сатано! Молись, покель рука есть. Не будет руки – ногой будешь молиться.
У Филарета все молитвы вылетели из головы.
– Кабы общину на моленье призвать, я бы тебя с Калистратом по костям разобрал в едный час!
Лука заржал:
– Кабы у тебя рога выросли до неба, по тем рогам Ларивон поднялся бы на небеси, а с небеси головой вниз бы. Там Елисей встретил бы твово Ларивона чугунной гирей в тыщу пудов. Го-го-го!
Филарет вскочил на ноги, кинулся на Луку, да цепь удержала.
Лука покатывается от хохота:
– Тако, тако! Рви ее! Зубами спытай. Зубами. Спомни, как праведника Митрофана три недели держал на чепи и заставлял рвать ее зубами. Таперича сам рви! Ну, чаво?
У Филарета тряслись руки и ноги – до того он рассвирепел. Долго не думая, повернулся задом, спустил холщовые портки, нагнулся и присоветовал:
– Глядись в зеркало, собака грязная! Рожу видишь али нет?
Лука слетел с лежанки и – за железную клюшку, а Филарет в тот же миг, придерживая левой рукой портки, ухватил припасенную доску и успел отбить удар.
Поглядели друг на дружку, выругались, как умели, и разошлись по своим местам.
Так каждую ночь – мира нету…
Низвергнутый святой духовник – да под надзором блудливого Луки! Кто такое умыслил? Иуда Калистрат.
«Ох-хо-хо! Явился бы Мокеюшка со своей силушкой да вызволил бы меня из неволи, огнем пожгли бы отступников от крепости!» – стонал еженощно Филарет.
Еще до того, как Микула оборудовал Филарету надежную цепь, чтоб век не износил, побывал в избушке Лопарев…
Калистрат с Третьяком в тот вечер выпытывали у Филарета, где он припрятал бумажные деньги и общинное золото, кроме того, что носил в кармашках пояса-чресельника. Филарет упорствовал, прикидывался беспамятным, но когда сам Калистрат сунул в печку железную клюку и растопил печку, Филарет сдался и указал место в избушке, где было закопано в кованом сундучке общинное золотое достояние, скопленное за всю жизнь в Поморье.
Тут и появился Лопарев. Под левым затекшим глазом темнел синяк с грушу, губы еще не поджили, с коростами, но Лопарев покривил их в ядовитой ухмылке, когда взглянул на Филарета.
– «И возлюбил тя, аки сына родного», – напомнил Лопарев.
Филарет не оробел и ответил с достоинством:
– Яко сына, сиречь того – еретика и нечестивца. Тако же, барин.
– Что ж вы притворились? И милость оказали, и курицу убили в пост, и прятали под телегой? По нашей вере так: «Алчущего – накорми, жаждущего – напои!..»
Филарет прищурился:
– Свинью поганую, какая рылом навоз роет, такоже хвально кормят: и в пост, и в мясоед, а потом на потребу тела пускают. Ведаешь ли то, барин чистенький?
Лопарев ответил со злостью:
– Теперь ведаю. Испытал и милость вашу, и доброхотство.
– Спытал, гришь? – Филарет поднялся с лежанки и, потрясая кулаком, заговорил: – Когда твой дед православный мово батюшку, холопа, да руками холопов батогами насмерть забил за едное слово, я такоже спытал и милость вашу барскую, и доброхотство ваше дворянское!
Сколько же горькой и жестокой правды было в ответе старца, что не обойти ее, не перешагнуть словоблудием!
«От барской крепости только и могла народиться вот такая Филаретова крепость, – невольно подумал Лопарев. – Где же правда-истина? Как ее утвердить на Руси, чтоб люди навсегда позабыли и про крепость барскую, и про ненависть Филаретову? И наступила бы жизнь вольная да радостная!»






