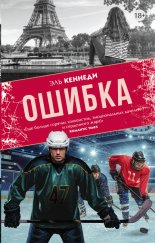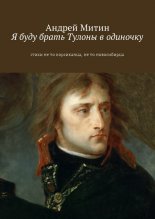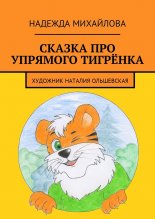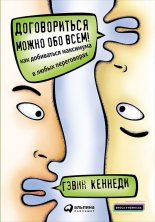Конь Рыжий Черкасов Алексей
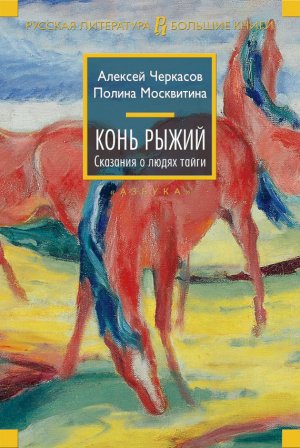
– Само собой.
А вот и Федосья с кипою белья: подштанники, нижняя льняная рубашка для Ноя, штаны суконные, рубаха плисовая; Дуне белье и платье старшей дочери Курбатова.
– Ты это, таво, Дуня, переодевайся, а я буду покель там, – кивнул Ной на соседнюю комнату и был таков.
X
Баня! Парное царствие для костей и тела. Не жить русскому человеку без бани, ну никак не жить. Да еще такая вот, как у Курбатова. Просторная, что дом, с двойными рамами на больших окнах за плотными занавесками, с огромной каменкой и дымовой трубой, чтоб топилась по-белому; над каменкой специальные жерди для прожарки одежды, там и наряды Дуни, и штаны с лампасами, и все прочее; веники заварены в соленой воде, чтобы березовые листья хорошо льнули к телу, пробирая паром до косточек, шесть широких скамеек – для двоих каждая, с медными тазами, лавки для отдыха возле стен, кадки с холодной и горячей водой и со щелоком для женских волос, потолок и стены струганые, с крючьями для белья. Ну а про полок для парки особо сказать надо: в четыре яруса; на верхнем полке чешет себя веником Селиверст-шорник, а на нижних еще семеро мужчин; хозяин отсиживается на парадной лавке, угревается перед паркой; Павлушка-кучер не успевает поддавать воды в каменку. Ной покуда терпит на одной из скамеек; он отродясь не парился: донские редко жучат себя вениками.
А Селиверст-шорник наяривает:
– Ах ты! Ух ты! Едрит твою!.. Ишшо поддай, Павлуха! Ишшо! Ах ты! Ух ты! Ишшо маленько! Ишшо! Квасом плесни. Квасом. Ах ты! Ух ты!.. Тятенька! Ах, господи! Святые угодники-сковородники!.. Ах ты, ух ты!..
Ной только что намылил рыжечубую голову, дюжил, крепился, потом слез со скамейки на пол, а Селиверст-шорник поддает да поддает. Мыло разъедает глаза, горячий сухой пар из каменки жжет уши, печет спину – терпенья нету, вот-вот сжаришься, а Селиверстшорник подкидывает:
– Ишшо маненько! Ишшо!.. Ах ты! Их ты!.. Матушки-патлатушки! Угодники-сковородники!.. Ишшо, Павлуха! Ишшо. Шибче плесни! В зев плесни! Ишшо! Ишшо! Такут-твою!..
Паровозный котел лопнул, не иначе, до того нестерпимо жжет тело. Не баня, пекло Сатаны. Ной схватился за уши, и носом, носом по полу к бадейке с холодной водой; достал пригоршню воды и в глаза, чтобы белый свет увидеть, а Терентий Гаврилыч ржет:
– Вот погоди, служивый, я поддам после Селиверста да в снегу покатаюсь, вот это будет баня.
– К лешему! – послал Ной и ползком в предбанник. Ну нет, такая баня не для него. Отпыхался кое-как, мотая башкой, быстренько натянул кальсоны, но не успел застегнуть, лопнули по втокам, и пояс на полчетверти не сошелся. Экое! И нижняя рубаха еле-еле налезла, руки потяни в обхват плечей – расползется. Кое-как собрался – и в дом.
Белесая, дородная хозяюшка Павлина Афанасьевна удивилась:
– Так скоро?
– В экой бане быка сжарить можно.
Дуня ходила по передней с малым Кешкой на руках; глянула на голову Ноя.
– Ой, боженька! Да у тебя голова в мыльной пене.
– Говорю же: отродясь не мылся в таком пекле.
Хозяйка с Федосьей хохочут:
– О, це чоловик! У нас, на Украине, нема таких бань. Ширяют, ширяют себя, молотять, як скаженные! Ой, як молотять! Це ж Сибирь!
Хозяюшка умилостивила:
– Ладно, Ной Васильевич. Вот мы – женщины – помоемся и попаримся, тогда вы пойдете с Дуней. И Кешу помоете. Он у нас тоже не терпит пару.
Дуня хохотнула в нос, а глаза, глаза – искрами, черными искрами так и сыплют, так и сыплют, и жгут, жгут Ноя до пяток, и он чувствует, как кровь стучит в висках, вскипает, насыщая богатырское тело неведомым доселе буйством чувств.
Дуня к бане припасла заморскую рубашку из запасов, добытых Ноем, французские чулки и бордовое шерстяное платье, ни разу не надеванное, с бельгийской этикеткой, хотела поднарядиться, чтобы понравиться Коню Рыжему.
Мужики пришли из бани до того разопрелые, разморенные, будто варили их в красном причастном вине, чтобы подмолодить лет на двадцать. Выпили по ковшику кваса, и хозяин прошел к себе в опочивальню, чтоб отдохнуть перед ужином. Ужинали они все вместе – хозяин с работниками за одним большим столом в гостиной.
Женщины мылись долго; известное дело – умостительная, чистоплотная и обиходливая половина людского рода.
Когда перемылись женщины, хозяюшка сказала, что пар теперь сошел и они, гости, могут идти; если их не обременит, пусть возьмут с собою малого Кешку, тем паче, он будто прилип к Дуне.
– Пойдем, Дуня, – позвал Ной, и голос у него вроде осип.
– Сейчас. Сейчас! – А сама что-то ищет, тычется по своей комнате, хотя все собрано.
«Господи прости, эко привелось! Да ведь мужик я, язви тя, а все как вроде мальчонка. Сколь смертей повидал, сколь всякого разного хлебал, а вот, якри ее, робость одолела!» – пыхтел себе в бороду Ной.
XI
Они шли огородом между сугробами. Дуня мелко и часто, Ной – широко, размашисто с Кешкою на руках, с хрустом затаптывая ее маленькие следы.
В теплом предбаннике, где горела лампа, ни слова друг другу, Ной повесил на сохатиные рога бекешу, папаху, френч с накладными карманами, рубаху, одеяло, в которое был завернут белоголовый Кешка, и ушел первым в баню с мальчонкой, поддерживая одной рукой лопнувшие подштанники.
В бане светло от пузырчатых фонарей, подвешенных на крючья у высокого потолка. Дуня вошла в одной рубашке, и Ной, успев раздеться, отвернулся от нее, от греха подальше. Она опять хохотнула под нос, сняла рубашку, села на скамейку; взяла к себе малого, чтоб заслониться крохой от стесняющегося Ноя. Кешка сопел, фыркал, но не плакал.
– Кешку вымыли? – спросила Глафира Терентьевна из предбанника.
– Вымыли.
– Несите, пожалуйста, одену.
Дуня вынесла Кешку, закрыла дверь, обернулась и замерла возле каменки. Ной сидел к ней грудью на широченной лавке из цельной лиственной плахи и как-то странно смотрел на нее. С его медной бороды стекала вода. Но не борода, не мощная шея и грудь, не размах плеч поразили Дуню. На широченной груди Ноя, чуть пониже ямочки, зловеще сиял золотой крест на чуть видимой цепочке. Такого креста Дуня отродясь не видела. От него неслись лучики: тонюсенькие, белые, как вроде стеклянные – из верхней точки, и кроваво-красные в четырех местах. Никак не могла уяснить, что же это такое светится? Над Ноем свисал пузырь фонаря. Может, капля воды так сверкает? Тогда откуда красные лучики из четырех точек? На Дуне давным-давно не было нательного креста; жила как бусурманка, нехристь, а тут – эвон какое чудо! Дуня даже забыла про стыд и не закрылась рукою.
– Боженька! – ахнула она. – Это что у вас? Крест-то почему так сверкает?
– Экое! – Ной взглянул на крест, точно сам видел впервые. – Нательный крест деда моего. Архиерей пожаловал. Каменья в нем. Бриллиант и четыре рубина. Один генерал сказывал: каменья потому так сияют, что молодые еще, не утухли. Каменья драгоценные, так и люди: сияют до той поры, пока молоды. Погляди.
Дуне стало до того страшно, хоть беги из бани. Вспомнились молитвы деда Юскова, страхи Божьи, а что, если Ной – вовсе не Ной, а и вправду Конь Рыжий? И все, что случилось: спанье вчуже друг от друга, бегство с поезда – было ли оно? Может, и поезда не было? Где она, Дуня? С кем она? А что, если все будет так, как грозился дед Юсков? Что настанет день и час, когда свершится над ней суд Господний за все ее грехи тяжкие, за прелюбодеяние, за торг своим телом, за непочтение отца и матери и за другие мелкие и всякие грехи, про которые сама не помнит? И вот Конь Рыжий затащил ее в баню, а может, не в баню, а в чистилище?
– Боженька! – вскрикнула Дуня, закрыв лицо руками.
– Чего ты?!
Ной подскочил к ней, схватил на руки и прижал к груди. Она пыталась вырваться, что-то бормоча сквозь слезы про свои грехи и что не по своей воле стала великой грешницей и запамятовала про Бога, а Ной уговаривал, прижимал к себе, защищая ее от всех для него неизвестных напастей, затаившихся в ней. Ее сухие, кудрявящиеся волосы рассыпались по плечам и спине. Тонкая в перехвате, упругая, белая, она прилипла к его мокрому телу, мало-помалу успокаиваясь от щедрой и бесхитростной ласки.
– И в самом деле, Дунюшка, папаша твой чистый зверь, если толкнул тя в яму, и ты потом сама себя потеряла. А ты вылези из ямы, вылези! И я помогу, Дунюшка. Ты для меня самая что ни на есть благостная и самая что ни на есть чистая: в душе чистота-то, в душе!
– Нет, нет, нет! Я же… я же… ты не знаешь, где я побывала, боженька!
– Со мной теперь. Где бывала – там нету тебя.
– Потом плеваться будешь!
– Господи прости, или я сослепу спас тебя от казаков? Один у меня теперь прислон: к тебе вот, какая ты есть. Поженимся честь честью.
– Нет. Нет!
– Пошто?
– Дурная я, дурная. Не буду я тебе женой! Не буду! Ты найдешь чище. Ты хороший…
– Кабы сам, Дунюшка, чистым был. Кругом закружился.
– Это я закружилась!
Как раз в этот момент ладонь Ноя нащупала рубец на шее Дуни, возле ключицы. Рана, кажись? Но это была не фронтовая рана… Пьяный клиент в заведении, домогаясь, чтоб красотка Дуня принимала бы только его, и никого больше, да еще жадничал – умойся трешкой, дьявол патлатый, – саданул ножом. Слава богу, успела откачнуться – так бы и перехватил горло. Ох, каких повидала! Брр!..
– Ну, пусти!..
– Не пущу, Дунюшка. Не пущу.
– Нет, не надо, Ной Васильевич. Не надо!
– Экое! От тебя табаком пахнет. Откуда эдакий запах? Не кури, Дунюшка, не кури!..
– Не надо! Не надо!.. Не пачкайся, ради бога!.. Э? Не пачкайся!.. Грязная я, грязная!..
В ее мягком размытом взгляде мерцало что-то странное, недовольное и обиженное. Она с чем-то боролась в себе и не могла это высказать. Руки ее расслабленно опустились, маленькие груди исчезли, словно он их стер ладонью, торчали только черные пуговки. Она боролась с собой. То, что было просто с другими, оказалось таким трудным с Ноем. Он спросил, откуда у нее рубец на левой ключице, где ее так ранило? Она сильнее стиснула зубы, зажмурилась, отвернулась.
– Как вроде штыковая рана.
– Пусти!
Она упорно отворачивалась, закусывая губы, не отвечала ему. Не сопротивлялась и не была с ним. Лучше, если бы он не спрашивал про рубец, тогда, быть может, она не вспомнила своего прошлого. Они приходили в заведение голодные, жадные, иногда бешеные, накидывались, как волки, рвали тело, долго и люто насыщались, и потом, когда уходили, желтые лисы уползали к себе в норы, массировали тело, чтобы не было синяков, и не раз, бывало, плакали от бессилия и отвращения, проклиная свою страшную работу и все на свете. И этот, от которого она ждала после Самары чего-то особенного, был таким же сильным, неодолимым, и ей стало плохо – в голову ударило.
– Ты что, Дуня?
Он поцеловал ее в мокрую щеку – хорошо еще, не ударил со щеки на щеку, как били недовольные клиенты, если желтая лисица отдавалась не с жаром и пылом. Ной Васильевич утешал ее, допытываясь, отчего она расплакалась, подсунул руки под спину, поднял, бормоча:
– Погоди, мы еще вот как жить будем! Понимаешь? Еще вот как! Ну, что плачешь? Ну?
– Я же просила… мне надо отдохнуть… забыть… – И совсем как ребенок: – Ну, не сердись, пожалуйста. Я буду другая. Вот увидишь, буду. Потом. Когда все пройдет.
– Сиди, сиди. Я тебя вымою.
– Я сама. Посижу немножко.
– Сиди, сиди, «сама»! Наклони голову.
– Ой, мылом нельзя голову. Такие волосы – войлоком скатаются. Мыльной водой надо. Или щелоком. Федосья сказала, в кадке щелок.
Он набрал в шайку щелоку – горячей воды, настоянной на березовой золе. Она сидела перед ним на лавочке, стиснув ноги, склонив голову до округлых коленей, а он мыл, старательно намыливая кудряшки, потом окатил теплой водой, и еще, еще, чтобы водой расчесать волосы. Потом она скрутила мокрые волосы, отжала и уложила узлом на темени. И когда он повернул ее, чтобы смыть спину, облегченно вздохнула на всю грудь. Так с нею никто еще не обращался из мужчин.
– Ной!
– Ну?
– Ты хороший, Конь Рыжий.
– Ладно, ладно.
Тело ее было горячее и до того промытое, что скрипело под его ладонями.
– Порядок. Давай ноги.
– Дай же я сама! – Винтом повернулась и повисла у него на шее, повалив на спину.
– Живая?
– Живая! – хохотнула она, прижимаясь к нему своим горячим телом. – Теперь я другая, видишь?..
Узел ее волос распался и упал ему на лицо. Он убрал мокрые пряди от глаз, смотрел прямо и близко в ее светящиеся, сияющие глаза. Она что-то еще бормотала, неузнаваемая, жадная, как будто в нее влили ковш браги…
– Какие у тебя сильные плечи! Ты такой здоровый, Конь Рыжий! А я-то думала – монах-казак. А ты ловкий. Если бы я была казачка, ей-богу, влюбилась бы. Будешь меня вспоминать, скажи?
– Пошто вспоминать? Или мы не сроднились за дорогу, а так и в Гатчине?
Дуня разом поостыла, поднимаясь, сказала:
– Вот уж сроднились! Спас меня от расстрела – спасибо на том, но нам никогда не сродниться, Ной Васильевич. Разные мы люди. Ни мне за тебя замуж, ни тебе на мне жениться. Куда кукушке до Коня Рыжего! Сроднились! Век бы нам так не родниться и не креститься – ни двумя перстами, ни кукишем, как ты молишься. Ты ведь совсем не знаешь перелетную кукушку. Смешно просто. Ужли ты и вправду подумал, что мог бы удержать в казачьих руках кукушку, которой век суждено куковать и из гнезда в гнездо летать?
– Ни к чему оговариваешь себя, Дунюшка. Если родитель, как ты сказала, изгнал тебя из дома, дак не все же на миру злодеи. Есть и добрые люди. А как по мне – жили бы мы с тобой в мире и согласии, и было бы хорошо. Не позволил бы никому срамить тебя. Оборони бог!
Дуня опять захохотала:
– Срамить меня! Да если я сама себя посрамила, как же ты меня обелишь? Или не слышал: черного кобеля не отмоешь добела! Уж как-нибудь одна буду век вековать. А ты женишься на казачке, в своем Таштыпе или из какой другой станицы возьмешь – мало ли красивых казачек по станицам? Зла тебе не пожелаю – живи и радуйся в крестьянстве. Ты же будешь землю ворочать, на сборы выезжать, а казачка детишек тебе нарожает, хозяйство будет вести, коров доить, кур щупать… А у меня, Ноюшка, пальцы не так сработаны, чтоб куриц щупать да коров доить.
Ной приуныл – чужая душа с ним, будто не сидят друг возле друга на лавочке. И у этой чужой души свои заботы, а ему, Ною, от ворот поворот указан.
– Что ты так вздыхаешь? – спросила Дуня.
– Мои вздохи со мной останутся, Дуня. Только сказать хочу: в крестьянской жизни есть радость, а не токо щупанье кур. Меня, к примеру, земля радует. Сами себе хлеб добываем и городчан кормим. А того, чтоб насмехаться над кем-то, в заведенье нету.
– Боженька! Рассердился! Да не со зла я говорила так, не думай. Выросла при городе, а не в крестьянстве. Да еще доченькой миллионщика навеличивали!.. Я вот еще спрос учиню с папаши. Я ему припомню в горький час его жизни все свои мытарства и муки! Ох как припомню. Обгорела я, как выброшенная из каменки головешка.
Ной ничего не сказал. Окатил себя шайкой воды, провел ладонями по бороде, долго и тщательно протирал тело полотенцем, а потом не спеша стал одеваться.
Было воскресенье – день в истоке.
Морозная мгла с туманом кутала енисейские просторы, и только цокот копыт по ледяной дороге да гиканье кучера Павлуши на облучке нарушали дремотный покой в холодном и неуютном пространстве.
Силушку-Ноя подмывала забота: как он встретится с батюшкой Лебедем и со своими родными, тем паче с казаками-одностаничниками? «Про собеседование в Смольном с красными комиссарами молчать надо, – думал Ной. – Не понять ни батюшке-атаману, ни казакам, какой переворот свершился в России! Вчерашнее, кажись, навеки отзвонило в царские колокола! Да и где они, наши казаки? Терентий Гаврилыч сказывал: дивизион атамана Сотникова задержался в Даурске; двигаются на Минусинск. И батюшка с одностаничниками, должно, в дивизионе. Ох-хо-хо! Как бы не взыграло здесь побоище, как в той Гатчине, господи прости!..»
Дуня, спрятав лицо в лохматый воротник дохи (Терентий Гаврилович обрядил гостей из Питера в собачьи дохи, чтоб не перемерзли в дороге), думала про встречу с Дарьюшкой. Сколько лет не виделись! И так много, много разного и всякого намоталось за эти годы, что всего враз не выскажешь. Да и можно ли говорить про свои мытарства, как миллионщик Востротин бросил ее на произвол судьбы в Питере! Разве все это поймет счастливица Дарьюшка?
«Она-то не мыкалась и по углам не тыкалась, – кручинилась Дуня. – За что меня исказнила судьба-злодейка? Как жить мне?! У Дарьюшки на притычке?..»
Но если бы знала Дуня, что произошло именно в это мглистое утро в Белой Елани!..
Завязь шестая
I
В далеком, неведомом Петрограде царь отрекся от престола и к власти пришло Временное правительство, а у людей тайги все так же выгребали хлеб, забирали скотину, расплачивались пустопорожними керенками и посулами вечной свободы и счастья. И вдруг шумнуло: пихнули временных, и объявилась Советская власть, а заглавными воротилами – большевики. Кто такие? Откуда? Не иначе как от анчихриста. А тут еще на сходке в Белой Елани сын старого Зыряна, Аркадий, заявил, что он-де натуральный большевик. Хоть так жуйте, хоть этак, а я – вот он, не от анчихриста, а от мирового пролетариата. А что обозначает «пролетариат» – не обсказал.
Ладно бы, жить можно, да кругом разруха такая – ни гвоздей, ни мануфактуры, не говоря про сахар там или конфеты, а товарищи из продовольственных отрядов тоже наседают: «Хлеба, хлеба, хлеба!»
Бедствие и нищета опоясали деревню – портки на бедных мужиках не держались. А богатые попрятали хлеб – попробуй сыщи!
Смутность напала: что, к чему? В башку не помещалось.
А старый тополь все шумел и шумел, и кто знает, какое он лихо навораживал!..
II
…Служба шла своим чередом.
Молились. Молились. Молились.
Подбежал запыхавшийся мальчонка в мужичьем полушубке и, еле переводя дух, заорал:
– Ой, чо случила-а-ся! Учительша-то, Дарья Елизаровна, уто-о-оп-ла-а!.. – И перекрестился по-старообрядчески на всю грудь ладонью, касаясь лба, живота и плеч двумя перстами.
Прокопий Веденеевич прицыкнул на мальчонку, но праведница Лизаветушка, костлявая сухостоина в рыжем полушубке и черной суконной шали, насунутой до бровей, остановила духовника грубоватым, драгунским басом:
– Погоди ужо, духовник. Погоди. Пущай скажет. – И, поднявшись с колен, отряхнула снег, подошла к парнишке, взяла его рукой за подбородок, предупредила: – Не ври токо, чадо. Мотряй! Грех будет.
Тополевцы уставились на парнишку. Тот сдернул шапку и, вскинув светлые кудряшки на высоченную Лизаветушку, наложил на себя большой крест с воплем:
– Вот те крест свята икона Спаса Суса, утопла. Я тама-ка был, на берегу Амыла. Петли на зайцев смотрел. Вижу: учительша идет Амылом. Подошла к полынье возле больших камней. Постояла. Самую малость. Перекрестилась. Опосля сняла шубу и положила на лед. Потома-ка кохту и потома-ка платью. И власы распустила, как еретичка вроде. Страхота. Ипеть помолилась. Без платка, а – помолилась. Вот те крест! А ветер на Амыле рвет, рвет и власы ейные раздувает, как гриву у коня. Я гляжу так. Потома-ка подошла к полынье и обувки сняла. Закрыла вот так ладоньями лицо и – бух в воду. Ажник брызнуло. Истинный Бог. Я гляжу. Вынырнет аль не вынырнет? Нету-ка! Страхота! Потома-ка голос слышу: «Дарьяааа!» Это ейный дед Юсков базлал. Костыляет по льду, костыляет. Подошел к ейной одежке и смотрит, смотрит. Потома-ка снял шапку и пополз на коленях к ейным катанкам. А сам молится, молится. «Тута-ка лед, – грю, – шибко тонкий». А он молится, молится. Не слышит вроде. Потом-ка упал лицом на лед и лежит. Я кричал, а он лежит. Вот те крест свята икона Спаса Суса!
Тополевцы сбились в кучу вокруг мальчонки, слушали, помалкивали.
Лизаветушка возвестила:
– Анчихрист сгубил мученицу Дарью.
– Анафема нечистой силе!
Прокопий Веденеевич, духовник, голосу не подал и крест на себя не наложил. Как там ни суди, а Дарья Юскова – федосеевка, еретичка. Хоть и помогла святому Ананию, а крепости тополевой не обрела: не приобщилась к праведнику. Ну а про анчихриста, какой заявился ночью, хоть и сыном доводится, говорить нече. Филимона уволок в тюрьму, да и сам Прокопий Веденеевич сколько времени скрывается от ареста. Выдалось вот воскресенье – ревкомовцы уехали в Минусинск на какой-то там уездный крестьянский съезд. А завтра, чего доброго, схватят Прокопушку за бороду и упрячут в тюрьму: милости от такого сына, как Тимофей, не ждать, анчихрист со звездою во лбу. «Ох-хо-хо! Много мучительства сотворил проклятущий безбожник», – трудно подумал старик.
Единоверцы меж тем, не спросясь духовника, сорвались, как овцы с пригона, побежали поймой к Амылу.
III
Лизаветушка неслась как рысистая кобыла – удержу нет. За нею – сивобородый старик, Меланья с малым Демкой на руках, еще два мужика, которые обогнали Меланью, старики и старухи.
Лизаветушка до того вошла в раж, что не подумала о предосторожности на тонком льду возле взбуривающей полыньи. Она спешила первой взглянуть на деда Юскова: жив ли? Лед звонко и сухо треснул под ее ногами, и она, едва успев вскрикнуть: «Господи», ухнула в воду по шею. Бурлящая кипень сбила ее с ног у подводного камня, вокруг которого всхлипывала ледяная вода. Рядом с нею, на обломке льдины, плавал скрюченный в три погибели дед Юсков. Его седые жиденькие волосы все так же раздувались ветром, на спине вздулась шуба, не успев намокнуть. Лизаветушка вцепилась обеими руками в шубу Юскова. Бабы истошно вопили, не смея подойти близко. Один из мужиков пополз к полынье, но когда раздался треск подмытого снизу льда, отпрянул вспять. Под руками ни у кого не было ни палки, ни веревки. Покуда мужики сообразили снять самотканые опояски, Лизаветушку утащило под лед, а вместе с нею и скрюченного деда Юскова. Некоторое время крутились в бурлящем водовороте Дарьюшкины фетровые сапожки, шапка деда Юскова, но и они, намокнув, ушли под лед. Какая-то старушонка, бормоча молитву, тыкаясь возле полыньи, подобрала вещи Дарьюшки и отнесла их подальше в сторону. Некоторое время все молчали. Опомнясь, бабы заголосили. Мужики сопели в бороды. Как там ни суди, а по их нерасторопности утащило под лед праведницу Лизавету. Шутка ли! Не иначе как водяной схватил за ноги – и поминай как звали!
– Беда-то, беда-то, гли!
– В одночасье!..
– Подо мной как треснет, треснет. Ишшо бы чуть замешкался, был бы таперяча тама-ка с имя вместе.
– На каменюге-то эка взбурливает.
– И то!..
Подошел и сам Прокопий Веденеевич. Выслушал единоверцев и неторопко, но без видимого страха направился к полынье.
– Поберегись, духовник. Лед-то нонече…
Прокопий Веденеевич остановился у полыньи, перекрестился:
– Не лед зримый, а крепость веры должна быть в помыслах ваших, праведники. Али неведомо, как пророк морем шел и люд за собой вел – и никто ног не замочил?
– Дык, Лизаветушка-то… – начал было кто-то, но духовник, подняв руку, призвал к молитве.
«Как разуметь то, что свершилось на глазах людей? – размышлял старик. – Была праведница – и нету. Ни хладного тела утопшей, ни свечечки в скрещенных на груди руках. Утопла. А можно ли утопленницу почитать яко праведницу? А кто зрил, что Лизаветушка сама собой утопла? Разве нечистая сила не оборачивается ветром, водою, огнем летучим и даже петухом кукарекующим? Истинно так. Праведница, должно, не успела сотворить молитву, как нечистый погубил ее. За что? Да чтоб порушить веру праведников. Старик Юсков с нечистым знался, паскудную веру правил, а Лизаветушка кинулась спасать его. Вот и сгила. Полынья ли то?»
– Али не зрите, праведники, котел Сатаны? – показал старик на полынью. – Тут он, котел, зрите! Ярится нечистая сила, злорадствует. Пенные губы вскидывает. К погибели то, грю. Али не ведаете: где лежит ваш меч, а где пух летит? И где ваш меч, вопрошаю? Где ваши ружья? Много ли припасли ружей и провианту, чтоб на нечистых ревкомовцев с огнем кинуться?
Единоверцы пыхтят. Нет у них ни мечей, ни ружей.
– Али не сказывал: близится день сражения? Рушить надо безбожников. Подчистую рубить. Глите: котел Сатаны кипит! Али ждете, когда ревкомовцы повергнут всех в котел? Чаво ждете? Сказываю: нынешнюю неделю подымемся. Ружья припасите, топоры, железные вилы. Старые и малые – все соберутся в одно войско, и святой Ананий будет с нами, яко спаситель. Огнь будет, огнь! И будет нам спасение, и крепость веры утвердится от века в век. Аминь.
– Аминь! – подхватили единоверцы.
– А хто из слабых сил скажет про слово Божье ревкомовцам, – пугал старик, – тому смерть будет. Тут он котел, зрите! И пусть нечистый сгубил праведницу Лизавету – не слезы расточать будем, а силу копить. Сотворим праведнице службу, яко убиенной, и душа ее в сонме ангелов возликует. И крест воздвигнем тричастный. Аминь.
IV
Вопль стелется желтым дымом… Бегут, бегут из деревни поймою Малтата…
Черная молния ударила в сердце Белой Елани…
Беда-то, беда-то экая! Три смерти – и ни одного покойника; хоронить некого. А Дарья-то! Дарья-то Елизаровна! Светлая да разумная, кроткая и беззлобная, ей ли должно так помереть? Не она ли была первой учительницей в Белой Елани, и вот не стало ее, радостной и улыбчивой, одежда на льду да заморские золотые часики на чьей-то шершавой ладони.
А часики-то, часики-то тикают, тикают.
– Истинный Бог, тикают!
От уха к уху – тикают, тикают. Стекло выпало, эмалевый циферблат треснул, а часы тикают.
– Вот диво-то! Живехоньки.
– В самом деле – живехоньки. Ишь ты!
– Сама идет.
– Игде?
– Ведут. Ведут.
– А самово-то нету: прячется где-то. Из ревкома ночесь стриганул с есаулом.
– Сыщут.
– Такого живоглота самово бы в полынью.
– В самый раз. Дарью-то он уездил.
– На школу рубля не положил, а на пакости разные мильена не пожалел. Банду содержит, живоглот.
– Известное дело, мильены упускать нелегко. С кровью рвал у инородцев в Урянхае.
– Новая власть живо подрежет крылья.
– Сорока гадала на сало, а оно, паря, к ногам ейным не пристало. То и с новой властью. Товарищи кумекают так, а оно, гляди, обернется вот эдак, навыворот.
– Не обернется. Вытряхнут Юскова с Ухоздвиговым из приисков, и баста.
– Фи! А мильены куда?
– Всему миру, для обчества, стал быть.
– Ишь как рассудил! А не выйдет, Васюха, как в той побаске: шел народ до броду, увидал воду да и повернул обратно. Мокрая, толкует, водица, портки жалко. Ехал богач, залетел в ту воду вскачь, перемахнул на другой берег, а тама-ка – видимо-невидимо золота лежит. Нагреб, сколь мог, пуще обогатился, а народишка к нему притулился: авось на чай перепадет. Как оно? Не выйдет эдак?
– Ленин говорит: не выйдет.
– Ленин? Слыхивал в Минусинске про него. Сказывают, что он, этот Ленин, ерманцам нас запродал. С потрохами, холщовыми штанами.
– Ну и врешь, Андрей Иванович!
– Оно так, Васюха. Один врет – лыко дерет; другой врет – лапти плетет. Третий подошел – лапти те надел да и ушел. Эх-хе-хе! Житуха настала – сопатому не в милость. Роздыху нет. Чистая погибель подоспела. То один переворот, то другой, оглобля ему в рот, а мужику – чистая растребиловка. Гли, вот у меня семьдесят пудов пашенички выгребли, а самому как жить-быть? При Николашке вроде легче дышалось.
– У тебя, Андрей Иваныч, всего не выгребешь. Известное дело: кто Лалетина на кривой кобыле объедет, кобыла та в одночасье сдохнет.
Ржут. Беззлобно. Добродушно.
– Сама! Сама!
Сама – Александра Панкратьевна, мать незадачливых дочерей, Евдокии и Дарьи, тяжелая, рыхлая, неуклюжая в длиннополом салопе, крытом черным бархатом, не идет, а ведут ее под руки – деверь Михайла Елизарович и горбатенькая дочь Клавдеюшка. Следом тянутся люди и приживальщики дома Юскова: домоводительница Алевтина Карповна, в нарядной, невиданной в деревне котиковой шубке и кашемировой шали с кистями, – надменнная и важная, за нею работники: кучер Микула, чернобородый, размашистый в плечах, в новеньком черненом полушубке и в поярковых расписных пимах, за ним – поселенец Мишухин, корявый до невозможности, стряпуха Аннушка и дочь ее Гланька с льняной косой через плечо, в полушубчишке с чужих плеч; самоход Евсей с бабкой Натальей, еще один работник Наум со своей бабой Акулиной, и за ними уже столь значительные, как и минувший день: Галина Евсеевна – супруга Михайлы Елизаровича, степенная, величавая, под руку с престарелым Феоктистом Елизаровичем, старейшим из братьев Юсковых.
Богачи идут, ни на кого не глядя, как с другой планеты вроде.
Снег по берегу и на Амыле почернел, словно обуглился от удара молнии.
Топчутся в валенках, и снег на льду не скрипит – прахом мира запорошен.
Утоптали…
Пасмурь с хиузом.
Посвистывает, посвистывает и стонет веревка в прибрежных пихтах и елях.
Сама еще не верит, глаза ее сумеречно-темные, немигающие, что-то ищут в немом и стылом пространстве, бледные, бескровные губы беззвучно шепчут молитву.
Протянулась чья-то бабья ладонь, как лодочка, и на чужой лодочке – золотая округлая слеза, а в слезе – бельмо с паутинкой трещин.
– Часики Дарьи Елизаровны. Живехоньки вроде. Тикают.
– Ма-аменька-а! – вскрикнула Клавдеюшка. – Знать, правда! Часики-то, часики-то Да-ашенькины-ы!
У маменьки подкосились ноги – Михайла Елизарович удержал ее.
– Ах, Господи! Ах, Господи!
– К полынье ведите, к полынье. Дайте мне хоть глянуть на полынью… на кого ты меня покинула… разнесчастную мою головушку… отзовись, откликнись!..
Не отозвалась. Не откликнулась.
Поздно.
Чернота.
Посвистывает. Посвистывает.
Красномордный кучер Микула, возвращаясь от полыньи с длинным шестом в руках, возвестил:
– Чаво искать? Уволокло.
– Может, пошарить в полыньях ниже по Амылу?
– Чаво шарить? Уволокло. Амба.
Кто-то из охочих на суды и пересуды сказал, что Дарья Елизаровна-де утопилась из-за Тимофея Боровикова, чрезвычайного комиссара из Петрограда, который увез ее из кутузки к бабке Ефимии и не иначе как измывался над несчастной.
– Оно так, Боровик-разбойник доконал. Он самый. Продразверстку выдавил из мужиков, вчистую сработал. Сколь ночей вы парились в ревкоме, а он, лешак, заявился и враз все выдавил. Сом.
– Порода известная!
– Лют, варнак. Лют.
Васюха Трубин, ревкомовский дружинник, говорит: