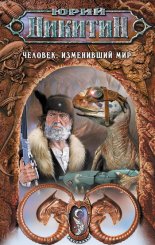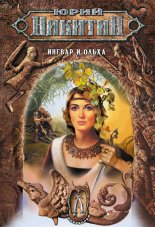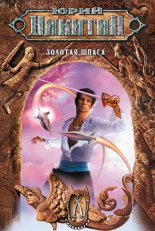Ущелье горного духа Васильев Владимир

Владимир ВАСИЛЬЕВ
УЩЕЛЬЕ ГОРНОГО ДУХА
Реальная история
1. БЛОКНОТ, НАЙДЕННЫЙ В ТАЙГЕ
"Я был тогда совсем еще мальчишкой, не помню даже возраст - то ли десять лет, то ли одиннадцать, а может, и все двенадцать. Именно поэтому вам покажется, что воспоминания мои порой слишком ярки, а порой совсем уж полустерты, но ведь прошло уже больше десяти лет!
Почему Буслаев выбрал меня меня в попутчики мог бы сказать только он сам, но вряд ли он жив. Наверное, потому что взрослые идти с ним не хотели, а совсем одному в тайге очень уж тоскливо. Буслаев много разговаривал со мной, серьезно, по-взрослому, и мне это нравилось. Я называл его Захарычем и мне это тоже нравилось. Задержать меня никто не мог: мать я не помнил (и не помню), отца - очень смутно. Все, что осталось от родителей - это ветхая избенка на краю поселка, пустая и разваливающаяся, да цепочка с медальоном в виде серебристой змейки с красными глазами-бусинами у меня на шее. В ту пору я жил у старой, как сам поселок бабки Матрены и вечерами читал ей Ветхий Завет, писанный в каком-то старообрядческом монастыре. Матрена кормила меня и даже подарила кое-что из одежонки, хотя прожил я у нее всего ничего - перезимовал только. До этого меня ютили поселяне. Отца моего не забыли и часто поминал добрым словом; когда я, четырехлетний, остался один-одинешенек в родительской избе, люди обо мне позаботились. Пожалуй, сыграло свою роль и то, что я уже тогда умел читать и писать, ведь мой отец был единственным учителем на сотни верст окрестной тайги. Во всяком случае в каждой семье, где мне приходилось жить, я много читал вслух толстые засаленные книги, совершенно не понимая содержания, и изредка писал "грамоты", как называли поселяне письма.
Буслаев был первым, кто ни разу не назвал меня "сироткой" и никогда не гладил по голове. Это сразу подкупило и решил я, что пойду за ним куда угодно, хоть к черту в зубы! Но тогда я еще не знал, что так оно и окажется.
Выступили мы в мае и тайга поглотила нас на целых четыре месяца. Первые пару недель нам изредка встречались охотники-якуты, а потом пошла такая глушь, что даже звери нас почти не боялись. Вещей у Буслаева было немного, практически все умещалось в ладном выцветшем заплечном мешке, который он всегда называл "сидор". У меня на спине болтался такой же, но поменьше и самодельный. Буслаев доверил мне нести все съестные припасы, спички и часть патронов. Меньшую, конечно, но мне и это ужасно льстило.
Чем занимался Буслаев в тайге я до сих пор не понимаю. На геолога он совсем не походил, хотя имел настоящий геологический молоток и часто пользовался лихим инструментом, смахивающим на подзорную трубу со странной сеткой на линзе. Крепился прибор на легкой алюминиевой треноге. Так же часто Захарыч копал неглубокие круглые ямки, ловко орудуя короткой саперной лопаткой и напевая всегда одну и ту же заунывную песню на незнакомом языке. Что это за песня я никогда не спрашивал. Жилось мне с Буслаевым неплохо - как я уже говорил, он держался на равных и относился ко мне вполне серьезно. Я помогал ему, чем мог, слушал его рассказы о тайге и о жизни в далеком и нереальном городе Киеве, смеялся историям, приключившимся некогда с самим Буслаевым или с его друзьями. До августа наша жизнь протекала спокойно и размеренно, как текут тихие таежные реки.
Изменился Буслаев резко и неожиданно для меня. Мы как раз карабкались по склону безымянного унылого гольца, неожиданно "начальник" замер и коротко выругался, чего с ним никогда прежде не случалось. Я проследил за его взглядом и увидел... как вам сказать? Овраг - не овраг, распадок - не распадок... В общем, представьте себе просто борозду длиной метров сто-сто пятьдесят. И это прямо посреди тайги. В жизни не видал ничего похожего, хотя вот уже лет десять лес покидаю только на зиму и дожидаюсь весну в поселке своего детства.
Короче, замер мой Буслаев и говорит:
- Леша... пять лосей твоей матери, это же ОНО! Ущелье Горного Ду... Гм!
Я совершенно не понял, при чем тут моя мать и поэтому переспросил:
- Что?
Буслаев кашлянул и осторожно закончил:
- В общем, одно интересное ущелье.
Минут пять он созерцал борозду и окрестности, я стоял да помалкивал, ожидая.
- Считай, что нам повезло! Кто его только не искал!
Внизу, у подножия гольца, Буслаев совершенно неожиданно повесил ружье на сосну и здесь же на сучке оставил все патроны, ссыпав их в кожаную сумку, похожую на большой кисет.
Я глядел на него с испугом, и он объяснил:
- Безоружных он, вроде, не трогает.
- Кто - он? - не понял я.
Буслаев замялся, и я ощутил, что впервые с мая месяца он не скажет мне правды.
- Ну... э-э-э... тот, кто ущелье охраняет.
- Зачем же охранять ущелье?
И снова Буслаев задумался.
- Там кое-что спрятано.
Я помолчал и вдруг неожиданно даже для себя тихо сказал:
- Захарыч! Мне кажется, что ты боишься.
Буслаев замахал руками:
- Вздор, Лешка! С чего ты взял?
Но я чувствовал, что он лжет.
Через минуту он убедительным тоном заявил, что если боялся бы, то ни за что не расстался бы с ружьем, но я молчал и вскоре он оставил эту тему.
Ущелье было вовсе не ущелье, а действительно просто глубокая борозда в теле земли. Причем, в центре она была глубже, чем с краев, словно кто-то громадный нехотя ковырнул когтем почву, коротко, с размаху. На край обрыва Буслаев меня не пустил. Сначала сам подполз и долго осматривался, потом разрешил подползти и мне.
Дно отстояло от нас метров на сорок, причем посреди отвесной стены виднелся широкий гладкий уступ. Спуститься на него удалось метрах в тридцати левее, но это случилось лишь через два часа, час из которых Буслаев валялся на краю ущелья и что-то разглядывал, час сидел на корточках у своего рюкзака, листая пухлый блокнот и загадочно бормоча.
На уступ Буслаев взял только моток веревки, молоток, да наспех срубленный и заостренный кол. Спускались мы минут десять, причем я дважды чуть не сверзился с отвесной стены. О Захарыче я ничего не скажу, собой был занят, но сопел тот громче обычного.
В общем, спустились мы еще более-менее сносно. Уступ хороший, просторный, метра два, а то и пошире.
Вот тут-то и начались первые странности.
Взглянул я наверх ненароком - батюшки-светы, вместо двадцати метров крутой земляной стены я увидел по меньшей мере двести! Небо осталось где-то неимоверно высоко, застряв в узкой щели между стенами. Я, кажется, даже икать начал - если мы десять минут спускались, то сколько же будем подниматься? Да и не могли мы так глубоко забраться, во-первых не успели бы, а во-вторых сверху ущелье выглядело куда мельче. Буслаев мне шепчет: "Спокойно, Леха, все нормально". А с самого пот в три ручья. "Как же, думаю, нормально..." Потом соображаю, что на такой глубине в такой узкой расщелине должно быть гораздо темнее, а тут светло, как и наверху.
Буслаев тем временем наладился кол в уступ забивать. Наклонил его к стене, чтоб не выворотило, загнал на три четверти и ну - веревку вязать. "Ага, - думаю, - спускаться будет."
Сбросил он веревку вниз, подергал - не оборвется ли. Веревка хорошая, крепкая, да и кол он вколотил на добрую сажень. Не должно, вроде, подвести.
- Слушай внимательно, - говорит. - Там, посреди спуска - пещера. Сейчас я потихоньку сползать начну, а ты здесь сиди. Если тихо будет, значит все отлично и я потом тебя позову. Ну, а если, не дай бог, закричу, тут уж лезь наверх и беги пошибче. Но! - Буслаев поднял вверх указательный палец. - Я просто уверен, УВЕРЕН! - что ничего подобного не произойдет. Понял?
Я кивнул.
- Это недолго, минут десять от силы.
Я опять кивнул. Буслаев странно посмотрел на меня и с шумом вздохнул:
- Ну, давай лапу.
Он пожал мне руку, ухватился за веревку и подошел к самому краю обрыва. Я заметил, что он трижды сплюнул через плечо. "Это еще зачем?" думаю.
Как только он исчез из виду, я снова вверх поглядел, но не успел я и всмотреться повнимательнее, послышался низкий тревожный звук. Гул - не гул, вой - не вой... И сразу же за ним дикий крик Буслаева. Я и не знаю, что нужно делать с человеком, чтобы он так кричал.
Я глядь, а веревка вместе с колом вниз полетела. Не знаю, уж какая пружина меня подбросила, но по стене я карабкался, ровно муха по стеклу. Вой сразу же смолк, я отчетливо услышал как что-то шмякнулось оземь и вслед за тем стон Буслаева: тихий такой, жалобный. Я застыл, вцепившись пальцами в неровности подъема.
Взобрался я к этому моменту метров на пятнадцать, не меньше. Верхний край стены оставался таким же далеким; я покосился вниз и обомлел: уступ был прямо подо мной, ногой можно дотянуться. Куда ж я лез все это время?
Помню, руки-ноги у меня сами собой разжались и обмякли, и я брякнулся на уступ, благо невысоко, носом прямо в дырку от кола. Дрожь меня бьет-колотит, и поделать ничего не могу. А внизу стонет Буслаев.
Тут меня следующая веселая мысль посещает. Веревка улетела вниз вместе с колом, это я видел совершенно ясно. А дырка в земле осталась маленькая, круглая и ровная - в аккурат нос мой только и влазит. Если кол вырвало, то почему не сковырнуло приличный ком земли? Забит-то он был с наклоном от обрыва, не меньше чем на метр в почву вогнан! Здесь же дырочка и ничего более. Выходит, кол просто выдернули, хотя как это можно сделать? "А что? - думаю. - Высовывается из стены рука, сильная такая рука, волосатая, хватается за кол, выдергивает и исчезает в стене."
Вы пробовали когда-нибудь вырвать забитый в землю кол? И не пробуйте. Все равно, что пытаться выпить Лену-реку.
Тут внизу опять стонет Буслаев.
Не знаю уж, о чем я потом думал, что делал? Очнулся внизу, рядом со стонущим Буслаевым. Тот жив, но без сознания, левая нога нелепо вывернута, как и не его. И воспоминание мимолетное: черный, тянущей затхлостью зев пещеры. На миг, на секунду. Но осмысливать некогда - хлопаю по щекам Буслаева.
Пришел в себя он на удивление быстро. "Нога!" - шепчет. "Сломана?" ужасаюсь. Сломать ногу черти-где, в глуши... Я ж его не дотащу! "Кажется, вывихнута. Ну-ка дерни!" Хватаю за ступню, рву на себя, что-то противно хрустит, Буслаев орет как... как... словом, громко и жутко орет, но нога у него, гляжу, уже вроде бы как своя. Прямо, то есть. А Захарыч-то мой о ней тут же и забыл. Глядь вверх, на пещеру и тихо так говорит:
- Помоги мне встать!
Помогаю. Кое-как проковыляли мы с полсотни метров. Буслаев оглянулся - пещеры отсюда уже почти не видно. Ковыляем дальше и тут соображаю я, что снизу ущелье выглядит куда мельче, чем с середины, с уступа. Как и сверху, метров на сорок. Голова идет кругом.
Через полчаса выбрались мы из этой чертовой борозды. Дно постепенно поднялось и ущелье незаметно сошло на нет.
- Отдохнем! - просит Буслаев и садится на выворотень. Я хотел тоже сесть, да, думаю, лучше за мешками сбегаю. Так и говорю:
- Я за сидором, быстро!
Буслаев вдруг весь побелел и впервые за все время как заорет на меня:
- Куда? Ну-ка, вернись! Не смей туда ходить!
Поворачиваюсь я, и холодно так ему:
- Шалишь, Захарыч. Пропадем ведь без ружья, без припасов...
И бегом по краю обрыва. Сбоку тянется ущелье, стараюсь туда не смотреть. Когда я вещи подбирал, вроде опять тот чертов гул послышался, но тише, чем в первый раз. Жуткий звук, надо вам сказать! Людям такие не по ушам.
Короче, подобрал я мешки - и деру. Сидор буслаевский за плечи закинул, свой спереди нацепил. После ружье лесиной с дерева сбросил, патроны тоже, и назад, к Захарычу. Тот, меня увидев, аж дышать снова начал от облегчения.
- Леха! Леха! - твердит.
Поковыляли мы дальше. Нога у Буслаева распухла, сапог даже не снимался, но дня примерно через три, говорит, пошла боль на убыль, а еще через неделю здоров был мой Захарыч, ровно огурчик с грядки, шагал, будто на параде. Правда, когда я на него не смотрел, все прихрамывал.
До поселка дохромали мы спустя месяц. Буслаев потом говорил мне, что вовек не забудет этого похода, что я - настоящий мужчина, что он мой вечный должник... А я нервно теребил медальон на шее, не зная куда девать руки от смущения. Рассказывал всем, как я тащил его почти десять дней, на себе, сквозь тайгу, хотя на самом деле какое там тащил? Поддерживал только. Но поставьте себя на мое место и поймете, что меня, мальчишку, просто распирало от гордости.
Лишь об одном Буслаев помалкивал: об ущелье. И мне запретил болтать, строго-настрого. Он ушел осенью с якутами куда-то на юго-запад, в сторону Сонгара. А оттуда, наверное, в далекий город Киев. А я остался зимовать в поселке. Сотни раз пересказывал я поселянам историю наших странствий. Но обещание, данное Захарычу, сдержал: в тот год ни одна живая душа не узнала об ущелье.
Объявился Буслаев в начале весны. Я радовался, ровно щенок при виде хозяина. Буслаев тоже лучился радостью; руку потряс, по плечу хлопнул, чуть с ног не сбил. И тихонько так спрашивает сразу же:
- Не проговорился?
Я отчаянно замотал головой.
- Мужчина! - похвалил Буслаев и по секрету сообщил: - Скоро снова туда отправимся.
Он уехал почти на месяц, а когда вернулся - стоял уже май. С собой Буслаев привез несколько длинных прямоугольных ящиков, не особо, впрочем, тяжелых. Нашли якута с оленями, незнакомого; договорились, что он нам поможет, потому что все ящики Буслаев вознамерился тащить с собой. Пока все приготовили да наладились в путь, уже и май прошел.
Якута звали Малча. Олени несли на спинах буслаевские ящики (мы вложили бездну фантазии и все же ухитрились приспособить покорных зверюг к этому нелепому, в общем, грузу). Мы сами шли пешком. Захарыч часто спорил с Малчей по поводу дороги и путь наш поэтому живо напоминал хаотичный след чернильной мухи на чистом листе. К унылому гольцу мы выбрели спустя месяц и неделю, и то, по-моему, случайно. Буслаев повеселел и напыжился, а якута едва не хватил удар от испуга. Я уловил его слова, потому что немного понимаю якутов. Малча сказал по-русски "ущелье" и по-якутски не то "горного духа", не то "желтого духа", затрудняюсь точно перевести. Тогда-то я впервые и услышал о Горном духе. Слова Буслаева год назад не в счет, он ведь их фактически так и не произнес, но теперь я их отчетливо вспомнил.
События прошлого лета представились мне совершенно в ином свете. Я не считал себя суеверным или боязливым, но не забывайте, сколько лет мне тогда исполнилось.
Малча в считанные минуты сбросил груз со спин своих олешек и поспешно удрал - другого слова я не подберу. Мы с Буслаевым остались наедине с тайгой, чертовым (вернее - духовым) ущельем и грудой продолговатых ящиков.
Дня три мы их перетаскивали к ущелью, еще пару дней Буслаев их распаковывал и собирал на краю обрыва какие-то диковинные конструкции, похожие на ажурные трехногие елки, оказавшиеся в итоге не более чем подъемником. Установили его на самом краю, над уступом. Три ящика остались нераспакованными и их спустили на уступ.
Потом разразилась жуткая гроза и мы долго отсиживались в палатке, которую на этот раз захватили. Безостановочно хлестал сумасшедший ливень, а в унылый голец раз за разом лупили ветвистые фиолетовые молнии. Ночью мне несколько раз чудился тот самый тревожный вой и я просыпался, подолгу вслушиваясь в шорох дождя. Еще с неделю мы бездействовали, потому что размокшая земля превратилась в полужидкое болото, а на дне ущелья сплошной мутной лужей пузырилась собравшаяся со всей окрестной тайги вода, причем весело журчащие ручейки постоянно эту лужу подпитывали. Как-то утром Буслаев спросил, не слышу ли я по ночам странных звуков. "Воя?" - напрямик спросил я, теребя отцову цепочку со змейкой и Буслаев отвернулся. Значит, не чудилось...
А вскоре у нас пропал котелок. Чудеса прямо, всю неделю оставался на ночь у кострища - и ничего, а тут вдруг словно сквозь землю канул. Куда он делся - ума не приложу! Захарыч неуверенно грешил на медведя, но я-то знал, что косолапый скорее унес бы нас двоих вместе с палаткой, чем пустой и выскобленный до блеска котелок. И потом: нашел чем успокоить мальчишку-подростка - медведем!
Пару дней мы шастали по округе с ружьями наперевес (я забыл написать: Захарыч еще весной подарил мне ружьишко тридцать второго калибра, чем привел в неописуемый восторг). Медведя, равно как и любых следов его пребывания, не нашли, зато подстрелили молодого изюбра и пекли куски мяса прямо на костре, насадив их на шомпола. По молчаливому соглашению ружья к обрыву мы не подносили, оставляя в палатке.
За это время тайга подсохла и мы вернулись к ущелью. Подъемнику дождь ничуть не повредил, а вот ящики на уступе до половины увязли в грунте, пришлось их откапывать. Всего за день, работая как одержимый, Буслаев собрал на уступе довольно странную вещь. Теперь я могу сравнить ее с буровой вышкой в миниатюре, хотя кое-что примешивалось и от все того же подъемника. Крепил и устанавливал Буслаев все на совесть, вгоняя металлические прутья в землю по самые шляпки, болты завинчивал до упора и даже чуть-чуть крепче. По-моему, свалить эту махину было было не под силу и пароходу "Амгуема", который я несколько раз видел на Лене-реке, пусть бы он и забрался на наш уступ. Буслаев повеселел, напевал свою заунывную песню; напряжение последних дней как будто спало...
Чертовщина началась неожиданно; я наблюдал все это сверху. Как раз опустил Буслаеву большой прямоугольный железный лист. Захарыч прислонил его к стене и повернулся к своей махине. Я гадал, куда он будет прилаживать эту пластину, и тут заметил, что она медленно отделилась от стены и падает на Буслаева и его конструкцию. Вернее, момент начала движения я пропустил, увидел пластину уже в падении.
Этот жалкий металлический лист, который я спустил одной рукой, весящий не больше тридцати килограмм, кто бы мог подумать! - смел с уступа все: и плоды буслаевского труда, и его самого. Я и вскрикнуть не успел, все оказалось на дне ущелья. "Опять!" - подумал я и со всех ног припустил вдоль борозды, чтобы попасть вниз кружным путем. Через пару минут я уже был там.
Бог мой! Машина выглядела так, будто свалилась вовсе не с двадцати метров на податливую, еще толком не просохшую почву. Казалось, она рухнула из поднебесья на гранитные скалы. Говоря грубо, машиной она более не выглядела. Так, разрозненные металлические обломки, искореженные до неузнаваемости.
Сам Буслаев, напротив, не пострадал. Он потерянно застыл на коленях перед останками. У меня отлегло от сердца. Машину, конечно, жаль, но главное - Захарыч цел. Каюсь, но второй раз вести его через тайгу мне ни чуточки не хотелось.
Я ждал, когда он опомнится. Дух и его пещера совершенно вылетели у меня из головы. А зря.
Здоровенный ком земли обрушился Буслаеву на спину, опрокинув его, словно жбан с квасом. Следующий сбил с ног меня. Лежа на спине и прикрываясь руками я взглянул наверх, на уступ. Там кто-то копошился! Комья земли летели в нас безостановочно; Буслаев шипел и кашлял, пытаясь встать.
Так продолжалось с полминуты, потом кто-то на уступе приподнялся и взглянул на нас. Я пытаюсь описать именно то, что чувствовал в тот момент, каким бы нелепым и странным мое чувство не казалось.
В общем, представьте, что на вас взглянула большая куча земли, только что добросовестно вынутая из вырытой вашими же руками ямы. Представили? А теперь примите во внимание наши взвинченные до отказа нервы, учтите память о прошлом разе и полную тишину? Учли? Ну, а теперь свалите себе на голову что-нибудь тяжелое и вы приблизитесь к нашему состоянию в тот миг.
Эта куча земли, что подглядывала за нами, взвилась в воздух и погребла нас под собой. Оглядываясь, мы выбрались из-под нее чуть живые, а новая уже глядела на нас с уступа. Я уже приготовился ко вторичному погребению, но Буслаев вдруг, странно крикнув, схватил ком земли и швырнул на уступ.
Куча тут же спряталась!!!
Я чуть не упал. Не успел: секундой раньше на нас стала падать ВСЯ СТЕНА УЩЕЛЬЯ. Медленно и неумолимо.
- В сторону! - закричал Буслаев с надрывом.
Но все бесполезно. От этой лавины убежать мы уже не успевали, а выбраться из-под нее я не надеялся. Тем не менее я отпрянул и жалко прикрылся руками. Вопль мой был истошным и безнадежным.
Говорят, перед смертью вся жизнь проплывает перед глазами. Не знаю, ни о чем, кроме смерти, тогда не думал.
А она не мешкала.
С легким хрустом стена проломилась на мне и обратилась в пыль, осев на дно ущелья большим облаком.
Некоторое время я не мог вдохнуть. Сердце бешено колотилось; должно быть, стук его доносился до самого верха, на обрыв.
От стены на самом деле отделился всего лишь тонюсенький пласт, не толще граммофонной пластинки, но мы-то этого знать не могли! Знакомый низкий вой зазвучал на этот раз без злорадства. А что же Буслаев? Я обернулся, нашаривая его взглядом.
Не Захарыч мой родной стоял рядом - не представляю как вам и сказать... Тварь, чужое создание, воплощение детских страхов. Я не смогу ее описать, человечество не придумало таких слов. Но взгляд твари я, наверное, запомнил навечно: он способен любую живую душу обратить в пепел.
Мне показалось, что цепочка на моей шее превратилась в струйку раскаленного металла, а змейка в сплошной комок непрерывной боли. Я бросился прочь, совершенно не помня себя, куда понесли ноги и ЭТО - я знал! - бросилось за следом. Никогда я не бегал так быстро и так отчаянно.
А сзади настигал топот, все ближе и ближе, но нет, нет, успокойтесь, это был просто Буслаев. С перекошенным лицом, потный и испуганный, он бежал совсем рядом.
Не знаю, кто заставил меня увидеть его ТАКИМ... И каким он увидел меня, тоже не знаю, спрашивать не хочу и никогда не захочу.
Бежали мы, задыхаясь и хрипя, часа два. Вокруг было тихо. Проклятое ущелье не хотело отпускать нас: справа и слева все так же тянулись сорокаметровые стены и только вверху, чистая и голубая, виднелась полоска неба, желанного и безопасного.
Ущелье отпустило нас через четыре дня. К этому времени я дошел до грани бреда. Отчасти - от пережитого, отчасти - от голода и усталости. Когда не осталось сил бежать, мы просто брели; тело работало само, без участия разума.
Читая эти строки вам не представить наш ужас, для этого нужно попасть в ущелье и разозлить Горного Духа.
Потом мы долго тащились через тайгу. Питались ягодами и грибами, а это не очень сытная диета. Потеряли счет дням, скитались, словно дикие звери, пока не вышли к какой-то речушке, там еще был заброшенный прииск. Здесь нас подобрали, изможденных и полусвихнувшихся, геологи.
Окончательно я пришел в себя поздней осенью, в поселке, когда прощался с Буслаевым. Он вновь уезжал на запад, в Киев.
- Прощай, Леха! - говорил он. - Мы снова выкарабкались из этого ущелья. Знай, я вернусь летом и уже не буду таким дураком. Я вернусь не один, и не с пустыми руками, и мы выкурим Горного Духа из его векового логова.
- Зачем? - спросил тогда я.
- Зачем? - повторил Захарыч. - А затем, что в той пещере есть то, ради чего стоит вернуться, несмотря на на все, что мы пережили. Поверь мне.
Я поверил. Наверное, Горный Дух вселяется в каждого, кто осмелился побывать в этом ущелье.
Буслаев не вернулся. Разразилась война и я напрасно ждал его каждую весну. Десять лет. Я еще надеюсь, хотя не уверен, ведь если бы он был жив, давно приехал бы.
Десять лет я искал это ущелье. Так получилось, что дороги к нему я совершенно не запомнил. Десять лет поисков, чтобы знать потом куда идти. Не знаю, на что я рассчитывал, соваться туда в одиночку, по-моему, глупо. А расскажи кому - поверят ли?
Не знаю.
Но тем не менее я пишу эту историю в свой блокнот - тот самый, что подарил мне Буслаев. Потому что вчера я набрел на место, откуда виден Унылый голец. Это гораздо дальше, чем я предполагал, и намного севернее. Я ходил туда, но приближаться не стал. Ущелье на месте и палатка наша все еще стоит. В бинокль я разглядел даже что-то поблескивающее в входа, не иначе некогда пропавший котелок. А вот подъемника у обрыва не видно и я совершенно не помню, приключилось ли с ним что-нибудь тогда, или это дела минувших десяти лет.
Сейчас допишу и пойду. Только посмотрю повнимательнее, я ведь не собираюсь туда спускаться. А хочется: проклятый Горный Дух крепко засел во мне. Но я вернусь. Посмотрю и вернусь. Заберу свой блокнот, дойду до поселка, поговорю с людьми. Наверняка что-нибудь знают, слышали, видели... Может, даже экспедицию сюда пришлют, здесь же что-то важное, я знаю! Ну, а если вдруг не вернусь, останется мой блокнот, его обязательно кто-нибудь отыщет.
Но я непременно вернусь.
И еще мне кажется, будто слышен далекий низкий вой; теперь он звучит как зов. Но ведь это только кажется...
Все! Я пошел! Жди меня, мой блокнот, мой сидор, мое ружье! Дух не трогает безоружных - мы дважды спускались в ущелье и дважды сумели уйти.
Помоги мне, Горный Дух!"
2. ШУРА КОПТИН
Этот голец и впрямь выглядел очень унылым. Коптин долго его разглядывал, чувствуя, что уныние начинает переползать в душу. Левой рукой он машинально поглаживал шершавую обложку блокнота, лежащего в кармане, в правой привычно вертел ружейный патрон, желтый, как масло.
- Надо же! - прошептал он и зачем-то огляделся. Еще утром тишина совсем не действовала на него, теперь же она казалась зловещей.
Забросив за спину мешок и подобрав ружье, Коптин нерешительно потоптался, потом пересилил себя и пошел к гольцу. Стланик здесь был густой, пробираться сквозь него стоило больших трудов. Когда над самым ухом гнусно заорала сойка, Коптина передернуло; несколько минут он чувствовал и, вроде бы, даже слышал неистовый стук сердца.
- Эй, Шура! Ты что же, всерьез воспринял эту историю? - спросил он сам себя. Слоняясь по тайге в одиночку Коптин свыкся с тем, что разговаривать приходилось только с собой. С утра собрался поболтать пару часов с якутом, случившимся навстречу, да не вышло: якут вручил "лючи", Коптину то есть, этот самый блокнот, заявил, что "рузе и месок на суцек повесила, а грамоту тебе" и что самому якуту "шибко спешить надо, мало-мало здут!" Словом, якут уехал, понукая оленя, а Коптин остался читать блокнот, гоняя в ладони неизменный патрон.
Вскарабкавшись почти на самую вершину гольца Коптин взялся за бинокль. До этого он нарочно не смотрел по сторонам.
Ущелье нашлось быстро и по виду действительно очень походило на борозду невероятных размеров. Нашлась и палатка, невдалеке, в подлеске. Котелка, правда, Коптин не заметил, далековато, но в целом все было именно так, как описывал Леха в своем блокноте.
"Пойти? - подумал Коптин. - Боязно что-то в одиночку... Они-то вдвоем здесь шастали."
Верить - не верить? Вот ведь задача! С одной стороны ерунда, конечно, мистика, поповщина, а с другой - похоже ведь на правду.
Духи в двадцатом веке? Чушь! Но ведь в остальном блокнот правдив. Все, как есть. Коптин даже якута Малчу знал лично. И совершенно не сомневался, что в описанной ситуации повел бы себя именно так: сбросил груз и оперативно смотался от греха подальше.
У подножия гольца возникла проблема: оставить ружье, как поступали Буслаев с Лехой, или с собой захватить? Поколебавшись, решил - до палатки с ружьем, а там по обстановке.
Растяжки у палатки сильно ослабли, но сама она держалась еще очень браво. "Странно, что за столько лет не рухнула", - подумал Коптин рассеянно. Споткнувшись у входа о котелок, он заглянул внутрь.
Одеяла, пара ружей и мешки - кроме этого в палатке ничего не нашлось.
Сидор Буслаева - это, конечно, вон тот, побольше. Коптин вдруг обрадованно хмыкнул - в мешке вполне могли оказаться разгадка. Записи Буслаева, вещи какие-нибудь. Просто и безопасно, оставалось только порыться в нем. Шура совсем уж было вознамерился, даже руку протянул, но помешал негромкий шорох.
Сердце вновь заколотилось, шумно и часто. Ладони враз взмокли.
Как можно мягче Коптин обернулся - в палатку заглядывал медведь. Лохматый такой, ушастый. На морде у него явственно читалось любопытство и неодобрение. Неприятный звериный запах влип в ноздри.
Мысли завертелись волчком, затеяли сумбурный рваный хоровод, и вдруг исчезли, как по команде.
Медведь не двигался, просунув в палатку морду, и Коптин, наконец, вспомнил о ружье. Медленно, плавно... Главное - не дергаться... Еще медленнее и мягче.
Он прицелился, собираясь спустить курок, но неожиданно медведь сердито рыкнул и резво скользнул вбок, исчезнув из поля зрения. Теперь Коптин видел лишь стволы и желтеющую траву.
В любом случае нужно было покинуть палатку. Но где прятался зверь? Кубарем выкатился Шура наружу и сразу же оказался на коленях, быстро поводя стволом в поисках цели.
Медведь стоял на задних лапах за палаткой и сердито сопел. Потом, сопя еще громче, вцепился когтями в плотный выцветший брезент и стал тянуть палатку на себя. Две растяжки лопнули от первого же рывка, медведь был явно сильнее, чем подгнившие веревки. Не обращая внимания на человека, он поволок к обрыву бесформенный ком, в который превратилась палатка вместе со всем содержимым. Для медведя он справлялся довольно неплохо.
Коптин, разинув рот, наблюдал.
Подтащив свою ношу к самому обрыву медведь спокойно отправился следом за палаткой. Если и имелась в буслаевском сидоре разгадка, она стала недоступной. Впрочем, можно спуститься, но...
Коптин долго стоял с ружьем наперевес и глядел в сторону обрыва. Ему показалось, что на груди зверя виднелась тонкая светлая полоска и он лихорадочно соображал: бывает ли такое у бурых медведей? У гималайских знал, бывает. А у бурых?
Ветер тихонько шевелил траву и шумел в кронах.
Кто-то взял Коптина за затылок, обхватив голову, как человек держит яблоко. Шура вскрикнул, силясь обернуться, но держали его крепко. А за спиной раздались престранные звуки: десятки голосов, шорохи, топот, повизгивание, вой и скулеж, скрипучий хохот, глухой хохот, звонкий хохот, треск, вжиканье, улюлюканье, щелчки...
Позади происходило нечто непостижимое, а Коптин мог только беспомощно дергаться да бестолково махать руками. От напряжения и страха сводило мышцы.
Что надоумило его выстрелить в воздух? Трудно сказать. Звуки позади сразу же смолкли, будто радио выключили; Коптин ощутил сильный толчок, от которого выронил ружье и ушел носом в землю. Всего на миг, потому что тут же судорожно приподнялся и бросил взгляд за спину. Там ничего и никого не было.
Пот катился по испачканному землей лицу, как дождевые капли по стеклу во время ливня; поджилки тряслись, а зубы непроизвольно постукивали, словно в стужу.
Никого вокруг, тихо и спокойно.
Не вставая с колен Коптин затравленно озирался. Ружье валялось рядом и он потянулся за ним. Вернее, попытался потянуться, так как с места сдвинуться не удалось.
Через минуту Коптин понял, что некая сила неумолимо подталкивает его к обрыву. В эту сторону он мог двигаться совершенно свободно и беспрепятственно. А вот в противоположную не получалось ни шагнуть, ни наклониться, будто возвел кто-то невидимую кирпичную стену, не позволяющую вернуться. Каждый проигранный шаг сдвигал его к обрыву, ближе и ближе.
Повинуясь внезапному порыву, Коптин испробовал направиться вдоль ущелья. Вышло нечто среднее: идти можно, но с трудом, словно сквозь густой кисель. В тот же миг сопротивление пропало и Шура замер. Потом медленно обернулся; ружье лежало в пяти шагах на жухлой осенней траве.
"Ну его к черту, это местечко! - искренне решил он. - Уберусь, пока не поздно, покажу блокнот кому надо, они пускай головы и ломают, а мне что-то недосуг..."
Думал Шура зло. Злила в основном собственная беспомощность.
Подцепив ружье за ремень, Коптин нарочито неторопливо направился к гольцу, оставляя ущелье за спиной. Каждую секунду он ждал подвоха, но, похоже, ему позволяли уйти.
Впрочем, скоро он наткнулся на знакомого медведя-труженика. Недоверчиво глядя на него, Коптин постарался разминуться, но тот заворчал и поплелся навстречу. Пришлось отступать, все быстрее и быстрее; спустя минуту Коптин уже удирал во все лопатки. Медведь трусил шагах в тридцати сзади.
Дороги Шура не разбирал, и неудивительно, что с разгону вскочил в речушку, неожиданно возникшую на пути в неширокой ложбине. Зверь приближался. Когда вода достигла пояса, Коптин схватился за ружье, вспомнив, как отпугнул медведя от палатки. Но на этот раз косолапый лишь презрительно оттопырил нижнюю губу и неохотно вошел в холодную уже воду. Коптин попятился, но речушка становилось все глубже; отступать стало некуда.
"Неужели понимает, что разряжено?" - запаниковал Шура. Но это же всего-навсего медведь!
Вдруг его осенило - патрон, тот, что вечно вертел в ладони! За ним не нужно лезть в мешок, болтающийся за спиной. Где же он? В кармане?
Медведь приблизился шагов на семь-восемь.
Ружье мигом оказалось переломленным, рука сама-собой скользнула в карман.
Пусто.
"Боже, неужели потерял? А в другом?"
Мысли и руки мелькали быстрее стрижей.
"Только бы не намок!"
Вода лизала низ широкого брючного кармана, Коптин лихорадочно нашаривал в нем спасительный желтый цилиндрик.
"Он! А, ч-черт!"
Что-то мешало вытащить руку из кармана и Коптин сердито рванул ее так, что затрещала плотная материя. Раздался легкий всплеск, но Шура не обратил на него внимания.
Вогнав патрон, он прицелился, ожидая, что медведь остановится или отступит. Тот и впрямь стал, подрагивая то ли от холода, то ли от неустойчивости. Течение все-таки...
Взгляд Коптина оторвался от мушки и сфокусировался на груди медведя.
Светлая полоска на груди была цепочкой, на которой висел маленький медальон - серебристая змейка с красными глазами-бусинками.
Ружье едва не выпало из рук.
Медведь глядел куда-то в сторону, задумчиво, словно бы с сомнением. Никогда доселе Коптин не встречал задумчивых или сомневающихся медведей. Невольно Шура глянул туда же.
Злополучный блокнот, намокая, неторопливо уплывал прочь. Он быстро тяжелел и скоро скрылся в волнах, гуляющих по реке.
Вот что мешало достать спасительный патрон.
Медведь резко развернулся и отправился восвояси, не взглянув на Коптина. Вода зябко хлюпала при каждом его шаге. Выбравшись на берег, он растворился в лесу.
Коптин решился покинуть реку только минут через пять, когда поутихло сердце и стало невмоготу торчать в холодной воде. Ноги основательно замерзли, но он постарался уйти подальше отсюда.
Наверное, потому что глянул во второй раз медведя, когда тот поворачивался, и заметил только полоску седой шерсти в виде буквы V у того на груди.
Вечером, отогреваясь меж двух костров, Шура не знал что и думать. Без Лехиного блокнота ему никто не поверит, ясно. Таежные мужички такие басни сказывали долгими зимними вечерами, что, бывало, и не поймешь - плакать или смеяться. Да и сам себе он верил ли?
И посоветоваться не с кем, поговорить. А самое странное - все сильнее хотелось разобраться - пойти в ущелье и найти ответы на мучающие вопросы.
Один, один, вот что плохо. Сгинешь, никто и не вспомнит о тебе, никто не узнает. Даже блокнота после тебя не останется. А пропадать зря кто же захочет?
Что делать-то?
Коптин думал, блуждая взглядом по россыпи звезд, тусклых в ярком свете костров. Где-то позади осталась непонятная борозда, именуемая почему-то ущельем, Унылый голец, коварная речушка в ложбине... Вдали ухал филин и завывал неутомимый странник-ветер.
И тогда Шура Коптин, покопавшись в своем мешке, извлек потертую ученическую тетрадь, пробормотал: "Надеюсь, это не будет ложью...", решительно вывел на обложке: "Ущелье Горного Духа", и задумчиво склонился над пока еще чистым листом.