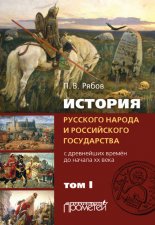Император Мэйдзи и его Япония Мещеряков Александр

Ёсю Тиканобу. Мэйдзи в окружении иноземных монархов (1879 г.)
Нетерпение художников было так велико, что они временами изображали японского монарха в окружении руководителей других государств – даже если он с ними никогда не встречался. На гравюре (верхний ряд, крайний справа) – «император России». Американский президент (слева от Мэйдзи) назван «королем Соединенных Штатов Америки». Слово «президент» не было, похоже, знакомо художнику.
Все предложения Калакуа японцы отвергли. Даже если бы Япония и осмелилась на антизападный союз, она все равно не обладала достаточным авторитетом и мощью для его организации. Прокладку кабеля до малозначительного государства сочли нецелесообразной, а отправку рабочей силы – преждевременной. Династические браки не были в японской традиции, и ранее двор настоял на расторжении брака принца Ёсихиса и немецкой аристократки, который был заключен во время пребывания принца в Европе. Тем не менее предложения, полученные Мэйдзи, казались весьма лестными. Еще несколько лет назад никто не мог бы предположить, что кто-то может посчитать Японию серьезным игроком на мировой арене.
Калакуа тоже остался очень доволен оказанными ему знаками внимания. Жаль только, что грандиозный бал, на который он был приглашен, не состоялся. 13 марта был убит Александр II, и японский двор погрузился в траур.
Несмотря на высказывавшиеся в прошлом году сомнения относительно целесообразности путешествий императора, 30 июля Мэйдзи отправился в очередную поездку по стране. Это было его самое длительное путешествие. Оно продолжалось 74 дня. На сей раз маршрут проходил по северо-востоку страны и Хоккайдо. Теперь школьники рассказывали императору не про Цицерона, а про японскую историю и китайскую философию. Исправно поработали и связисты: телеграфные провода окутывали Японию все гуще, и теперь новости со всего света доходили до Мэйдзи быстро. И теперь уже никому не приходило в голову использовать телеграфные столбы и провода не по назначению. Наоборот – им находилось все новое и новое применение.
Честь изобретения одного из них принадлежит, возможно, отцу Николаю. В Касивадзаки (район Тохоку) не было священника, а потому местные прихожане просили у отца Николая позволение, чтобы катихизатор, в случае похорон, мог надевать стихарь – «в простом платье хоронить не представительно в глазах язычников». Николай не позволил и велел в каждом случае извещать его телеграммой, а он тогда будет – тоже по телеграфу – давать благословение[157].
К этому времени стала окончательно ясна судьба бывшего сословия самураев. Они не смогли найти себя на пути самостоятельного предпринимательства. Начав свое дело, большинство из них не выдерживало конкуренции, превращаясь в наемную рабочую силу. Зато государственная служба смогла обеспечить им достойное существование. Тем более что при приеме на нее самураям оказывалось предпочтение. По данным за этот год, две трети центрального и префектурального чиновничьего аппарата составляли выходцы из самурайских семей. Среди учителей их было 40 процентов. Основу полиции и армии также составили самураи. В государственный аппарат эти люди вошли вместе со своими ценностями. К их числу следует отнести честность, порядочность, верность, дисциплину, самопожертвование, гордость, нетерпимость, обидчивость, склонность к решению конфликтов силовым путем. Государство Мэйдзи сумело в конце концов интегрировать самураев в новую жизнь, но оно стало государством, в котором основные ценности были выработаны военным сословием. Можно сказать и так: самураи интегрировали государство в свои ценности. Этот факт многое объясняет в последующей истории Японии.
К этому времени либеральное движение уже понесло первые потери. Като Хироюки, защищавший ранее идеи о свободе каждого индивидуума и участвовавший в работе журнала «Мэйроку дзасси», обратился в Министерство внутренних дел с просьбой изъять из продажи свои прежние сочинения. Крупный правовед Иноуэ Коваси (1843–1895) не постеснялся заявить, что миссия народа – «стелиться, словно трава под ветром». Охранительные настроения набирали силу. Голоса защитников традиционных ценностей становились все слышнее. Один известный врач повесил перед своим домом табличку, извещавшую о том, что он отказывает в приеме лицам в европейской одежде[158].
В августе потомки рода Фудзивара – Сандзё Санэтоми и Кудзё Мититака – организовали фонд своего родового буддийского храма Кофукудзи, находящегося в Нара. Храм успел прийти в запустение, следовало привести его в порядок. Буддизм вновь начал признаваться одним из компонентов национальной традиции. Его реабилитация происходила без лишнего шума, но она происходила. Опыт по полному исключению буддизма из культурного пейзажа страны не удался.
После того как под более жесткий государственный контроль были поставлены школы, настала очередь и для высших учебных заведений. Раньше Токийский университет был рассадником западничества и либерализма, теперь его преподаватели из ученых превращались в государственных чиновников. Они были обязаны давать присягу на верность правительству.
В цитадели японского «либерализма» – префектуре Коти (бывшее княжество Тоса) – слово «свобода» («дзию») продолжало пользоваться популярностью. Дзию – так там называли мальчиков, девочек и даже кошек. Однако в центре административном – в Токио – говорили о «свободе» все меньше, чиновники всей страны стали реагировать на это слово, как на красную тряпку. Некий парикмахер не уловил веяний времени и повесил на своем заведении вывеску «Свобода». Он думал привлечь новых клиентов, но только распугал прежних. В то время главными посетителями парикмахерских были чиновники[159].
Это газетное сообщение, появившееся в мае, больше всего похоже на «утку». Однако оно верно характеризует и общую атмосферу в стране, и расклад политических сил, и накал страстей. По Японии прокатилась волна протестов против «олигархического правления» выходцев из Сацума и Тёсю. Выход виделся в принятии конституции и созыве парламента, куда бы избирались представители со всей страны. Поскольку на политические сборища и митинги были наложены строгие ограничения, движение приняло форму публичных лекций. В токийском театре «Синтоми», где выступал Фукути Гэнъитиро, было продано пять тысяч билетов. «Движение за свободу и права народа» организовывало такие лекции по всей стране. В момент своего создания основную силу «Движения» составляли бывшие самураи, теперь оно захватило горожан и богатых крестьян. На этих собраниях принимались многочисленные резолюции с требованиями о введении конституции. Правительственные репрессии не помогали, и тогда правительство сочло за благо сменить гнев на милость.
12 октября был обнародован указ, согласно которому Мэйдзи обещал стране конституцию. Но не сейчас, а через девять лет. Как это столь часто бывало в Японии, власть стремилась к компромиссу. Сторонники конституционного правления получали конституцию, противники – отсрочку для того, чтобы лучше подготовиться к переменам. Все узнали, чего им ожидать в будущем.
На решение о введении конституции повлияло и обстоятельство, которое не имело к ней непосредственного отношения. Дело в том, что несколькими месяцами раньше в прессу попали сведения относительно коррупции на Хоккайдо. Государство занималось там освоением целинных земель, а многие высокопоставленные чиновники готовили почву для того, чтобы за бесценок приобрести там обширные участки. Эти чиновники были ярыми противниками народовластия, ибо бесконтрольность была им только на руку. Особенно досталось от журналистов Курода Киётака, главе ведомства по освоению Хоккайдо. Утечку данных о готовившейся сделке приписали Окума Сигэнобу. Среди правительственных чиновников он был наиболее ярым сторонником немедленного введения конституции. Организовав утечку информации в прессу, он попытался шантажировать своих противников. Шантаж удался, сделки с землей отменили, самого Окума вывели из правительства, но его конституционное дело одержало стратегическую победу.
Перспектива. Скандал не помешал ни Курода, ни Окума в самом ближайшем будущем продолжить их блестящие политические карьеры. К моменту провозглашения в 1890 году конституции Курода оказался премьер-министром. В высшем эшелоне власти отношения могли быть самые неприязненные, но открывать дверь для новых людей никто не собирался.
Оппозиция не дремала, и в конце прошлого года Итагаки Тайсукэ вместе с Гото Сёдзиро организовали Либеральную партию (Дзиюто), выступавшую за «суверенные права народа». И это при том, что народа как такового в стране еще не было. В агитационной деятельности участвовали самые разные люди. В том числе и не слишком уравновешенные. Уроженец Коти, Уэки Эмори (1857–1892) являлся одним из самых активных членов «Движения за свободу и права народа», он колесил по стране со страстными «лекциями» за созыв парламента, писал в газеты, защищал права женщин. Правда, злые языки говорили, что свой знаменитый памфлет, ратовавший за запрет проституции, он написал в публичном доме[160]. Но для того, чтобы идти против течения и правительства, нужно было обладать крепкими нервами. К концу своей короткой жизни Уэки уже воображал себя императором, ему снилось, что он возлежит с императрицей.
Предшественником Либеральной партии было «Общество самопомощи», названное так вслед за книгой Смайлса «Самопомощь». Итагаки создал его в Коти в 1874 году, когда идеи о формировании сильной и самостоятельной личности пользовались поддержкой на самом верху. Теперь же государство сопротивлялось «гнилому» индивидуализму изо всех сил. В этом году были введены наградные знаки на лентах разных цветов. Зеленая лента говорила о том, что награжденный отличался преданностью императору и заботился о своих родителях, медаль с красной лентой давалась за спасение жизней, с голубой – «за общественный вклад». Среди обладателей зеленой ленты было особенно много бедных, но высокоморальных крестьян.
1882 год
15-й год правления Мэйдзи
Мятеж в гвардейской части, случившийся в августе 1878 года, не остался без последствий – стало понятно, что дисциплину надо подтягивать. Воспоминания о юго-западной войне были тоже свежи. В этой войне по первому слову Сайго Такамори его вассалы подняли свои мечи против правительственной армии, которую возглавлял принц и которая сражалась под императорским знаменем.
Этот год начался с обнародования 4 января императорского указа, адресованного военным. Вплоть до окончания Второй мировой войны он был основным документом в деле воспитания верных воинов императора. Текст указа непременно фигурировал в записных книжках, которыми каждый год снабжались все военнослужащие.
Указ можно считать уникальным документом. Во-первых, он был необычайно длинным, подробным и конкретным. Во-вторых, указы обычно адресовались политическому истеблишменту и становились известны населению в форме распоряжений правительства. Но на сей раз это было прямое обращение Мэйдзи к своим подданным.
В тексте указа утверждалось, что в древней (мы бы назвали ее мифической) Японии императоры сами стояли во главе армии, в которой участвовали все подданные. Однако затем ввиду наступившего мира двор утратил свой прежний мужественный дух, перешедший к профессиональным воинам – самураям. И тогда крестьяне лишились права на ношение оружия. В течение семи веков военные правили страной, хотя это и шло вразрез с желаниями императорского дома. И только император Мэйдзи при помощи своих сторонников сумел вернуться к управлению, основанному на древних принципах, – теперь именно он и стоит во главе армии.
От военнослужащих Мэйдзи требовал безоговорочной верности себе и стране, скромности и честности. Долг перед своей страной – тяжел, как гора, но смерть за нее – легче птичьего перышка. В рамках столь любимой на Дальнем Востоке телесной метафоры Мэйдзи уподоблял себя голове, а армию и флот – рукам и ногам. Таким образом еще раз подчеркивалась неразрывная связь между монархом и его подданными, но одновременно давалось понять, кто кого должен слушаться. Рукам и ногам, то есть армии, категорически запрещалось участие в политической деятельности без особого указания «головы». Указ окончательно разрушал феодальную иерархию, согласно которой самурай подчинялся только своему непосредственному начальнику. Принципу «сюзерен моего сюзерена – не мой сюзерен» был положен конец.
Как и «Высочайшая клятва в пяти статьях», нынешний указ состоял из пяти пунктов. Они соотносились с пятью первоэлементами (дерево, огонь, земля, металл и вода), из которых составлен этот мир. Мир меняется в зависимости от сочетаний пяти элементов, но сами они остаются неизменными.
Одним из авторов указа был Фукути Гэнъитиро. Указ обличал сёгунат. Ирония заключалась в том, что до Реставрации Фукути был прямым вассалом Токугава и даже успел посидеть в тюрьме за его поддержку. Но власть ценила яркий стиль журналиста. Совсем недавно он яростно обличал правительственных коррупционеров, теперь он усиливал императорскую армию. Никакого противоречия здесь не существовало. Свою задачу Фукути видел в том, чтобы его государство было сильным. Тем более что оно поддерживало его газету «Нити-нити симбун». Стоило Ито Хиробуми шепнуть нужным и состоятельным людям, как они купили львиную долю акций газеты, и она окончательно стала рупором антилиберализма. Слово «кокутай» становится на страницах газеты едва ли не самым частотным. «Кокутай» – это «государственное тело», уникальная сущность японской государственности, основывающаяся на центральной роли всеблагого императора-тэнно, к которому беспредельно лояльны его подданные.
Этот термин был введен в оборот еще при сёгунате учеными из школы Мито, пользовались им и деятели Реставрации во время свержения Токугава Ёсинобу. Потом про него подзабыли, теперь для него настала новая жизнь. Она оказалась долгой – вплоть до окончания Второй мировой войны пропагандисты повторяли и повторяли его, наполняя все более и более шовинистическим содержанием.
Главная характеристика кокутай – его неизменность. Время реформ проживалось под лозунгами «движение», «развитие» и «прогресс». Поэтому акцент на «неподвижности» был вызовом эпохе. Жизнь разделялась на две части. Внешняя часть могла стремительно менять свой облик, но внутренняя, невидимая часть была призвана оставаться неизменной. Европейское политическое движение напоминало мельтешение, оно вело к социальным потрясениям, которых Япония может и должна избежать. Раньше Фукути проповедовал постепенные перемены, теперь он сделал главный акцент на апологии неизменности.
Покушение на Итагаки Тайсукэ
Итагаки Тайсукэ колесил по стране, разъяснял цели своей Либеральной партии, вербовал новых членов. 6 апреля после выступления в городе Гифу на него набросился с кинжалом молодой учитель. Итагаки воскликнул: «Итагаки умирает, но свобода не умрет никогда!» Опасаясь мести властей, местные доктора отказались пользовать Итагаки, но раны оказались легкими, а слова Итагаки облетели страну. Мэйдзи послал раненому 300 иен.
Это было хорошо продуманное и логичное решение. Ни сам Итагаки, ни его ближайшие соратники не выступали за демонтаж монархии. Они страшились кровавых антимонархических революций Европы, они выступали вовсе не за конституционную республику, а за конституционную монархию. Парламент был им нужен для того, чтобы «верхи» и «низы» стали ближе друг другу, а не для того, чтобы они поменялись местами. В правительстве же должны быть представлены посланцы всей страны, а не только землячества Сацума и Тёсю. Именно в этом они видели залог укрепления государства, которое представало как непререкаемая ценность. И в этом вопросе вся страна была солидарна с ними.
Лекционное собрание сторонников «Движения за народные права»
Полиция прерывает собрание
Да, движение за народные права было неоднородным, на собраниях иногда допускались даже антимонархические высказывания, но их сторонники находились в абсолютном меньшинстве. В этом году, похоже, они разыгрывали «китайскую карту». На нескольких собраниях ораторы утверждали, что первоимператор Дзимму – это пришелец из Китая, который завоевал Японию. Полиция таких ораторов обрывала на полуслове, штрафовала, арестовывала, слушателям приказывали разойтись[161]. И они расходились по домам. Мало кто сочувствовал «китайской теории» происхождения японской императорской власти. А вот насчет «китайской порчи», наведенной на Японию, стоило серьезно подумать.
В апреле Окума Сигэнобу создал свою политическую организацию – Партию конституционных реформ (Риккэн кайсинто). Он тоже выступал за введение конституции. По большому счету, Партию конституционных реформ, точно так же как и Либеральную партию Итагаки, нельзя назвать «настоящей» политической партией. Ведь ни та, ни другая не ставили своей целью приход к власти. Больше всего Окума опасался «экстремистов», которые заставят Мэйдзи возглавить правительство, так что император будет реально ответствен за все возможные промахи[162]. А это может поставить под угрозу сам институт императорской власти. Политики – как в самом правительстве, так и оппозиционеры – подыскивали себе место рядом с Мэйдзи. Сам монархический институт не подвергал сомнению никто.
Хотя Мэйдзи и стоял во главе императорской армии, она еще явно не соответствовала имперским задачам. Несмотря на то что со дня введения воинской повинности прошло уже девять лет, задачи по призыву оставались невыполненными. В армии едва насчитывалось 40 тысяч человек. В докладе начальника генерального штаба Ямагата Аритомо отмечалось, что в условиях «нестабильных» отношений с Китаем и Кореей в этом году следует непременно заполнить армейские вакансии. Добавим от себя, что это была «нестабильность» особого рода, ибо ни одна из этих стран и не помышляла о нападении на Японию.
Впрочем, о какой «империи» могла идти речь, если Япония до сих пор не смогла упросить Запад пересмотреть неравноправные договоры? Приобретение Рюкю служило недостаточным утешением. С января по июль в Токио проходили переговоры с представителями западных держав. 1 июня Япония устами министра иностранных дел Иноуэ Каору заявила: мы разрушили феодализм и дали всем японцам равные права; мы разделили административную и судебную власть; мы создали новую образовательную систему; мы сняли запрет на христианство; мы создали современную почту и протянули телеграфные провода; мы построили железные дороги и маяки. И мы сделаем еще больше – только давайте пересмотрим договоры, отменим экстерриториальность и разрешим Японии самой определять таможенные тарифы! В обмен на это мы немедленно позволим иностранцам путешествовать по стране, а через пять лет разрешим им жить и торговать не только в открытых договорами портах, но на всей территории Японии. Мы разрешим им приобретать недвижимость и строить заводы – если только они будут выполнять японские законы.
Подавляющее большинство представителей западных стран, включая Россию, согласились поначалу на отмену договоров. Разрешение свободно путешествовать по стране казалось немалым завоеванием. Ведь в данный момент для этого нужно было получать специальное разрешение. При этом путешественнику не позволялось разводить в лесу костры, наблюдать пожары, сидя на коне, ходить по засеянным полям, перелезать через заборы, оставлять граффити на стенах храмов и святилищ, стрелять и заключать торговые договоры с местным населением. Все это казалось вопиющим нарушением прав западного человека.
И только Британия, великая и гордая Британия, твердо отказалась признать аргументы Иноуэ. Гарри Паркс заявил, что пять лет повиноваться японским законам и не иметь при этом никаких привилегий – несправедливо. Кроме того, в Японии до сих пор отсутствуют административный и торговый кодексы. Голос Паркса оказался решающим, вопрос в который раз отложили до лучших времен.
Разумеется, дело было не только в «принципиальности» Англии. Из всех западных стран Великобритания имела в Японии наиболее серьезные экономические интересы, а потому установленные договорами низкие тарифы были больше всего выгодны именно ей.
Япония все еще не смела требовать у Запада, она только просила. В ее распоряжении находилось только четыре современных военных корабля. Но и их оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать Дальнему Востоку свои претензии на роль местного гегемона. При этом Япония действовала в полном соответствии с западными геополитическими технологиями.
23 июля в Сеуле вспыхнуло восстание. Оно началось в войсках, недовольных тем, что вместо нормального рисового пайка им выдали малосъедобную смесь из проса и отрубей. Япония была, разумеется, ни при чем, но мятежники, захватив арсенал и правительственные учреждения, освободили из тюрьмы заключенных и обратили свой гнев на японскую миссию. Ее военный атташе лейтенант Хоримото Рэйдзо занимался обучением сотни аристократических сыновей военному делу. Восставшие убили лейтенанта в его квартире, здание миссии и находящиеся там секретные документы японцы сожгли сами. Под покровом клубов дыма сотрудникам удалось сбежать. Они добрались до побережья, где корейские солдаты напали на них. Шестеро сотрудников миссии были убиты, пятеро – серьезно ранены. Но уцелевшим японцам все-таки удалось погрузиться на какое-то суденышко и скрыться. Через три дня их подобрал английский корабль «Flying Fish» («Летучая рыба»), который доставил их в Японию. В Симоносэки Иноуэ Каору вручил главе миссии Ханабуса Ёсимото (1842–1917) письменную инструкцию и велел ему возвратиться в Сеул. А Китай тем временем послал в Корею войска и усмирил мятежников. Корея считалась его вассалом, усмирять бунтовщиков было прямой обязанностью сюзерена.
После серии переговоров, проведенных под дулами японских корабельных орудий, 30 августа в Чемульпо был заключен договор. Корейский король признавал свою вину за то, что не сумел обеспечить безопасность подданных императора Мэйдзи, обещал изловить преступников и заплатить компенсацию: 50 тысяч иен семьям погибших и раненых и 500 тысяч – японскому правительству. Поскольку эта сумма составляла около одной шестой части бюджета страны, ее разрешалось вносить равными долями в течение пяти лет. Кроме того, здание миссии должны были отныне охранять японские солдаты.
Ханабуса вернулся в Токио национальным героем и получил аудиенцию у Мэйдзи. Капитану корабля «Летучая рыба» Мэйдзи подарил пару бронзовых статуй и несколько книжек на японском языке, одна из которых была посвящена древним походам японцев на Корею. Имя лейтенанта Хоримото и других убитых внесли в поминальные списки святилища Ясукуни. 23 декабря Мэйдзи обнародовал указ, в котором говорилось о намерении Японии добиваться признания Кореи в качестве самостоятельного государства. Поскольку до сих пор корейский король находился в вассальных отношениях с китайским императором, это означало, что рано или поздно между Японией и Китаем должна разразиться война.
В этом году принц Арисугава посетил Санкт-Петербург. Это был первый официальный визит в Россию члена японского императорского дома. Александр III дал ему аудиенцию. Узнав, что в Петербургском университете изучается японский язык, принц прислал в следующем году более 3000 книг. За этот щедрый дар ему присудили звание Почетного члена ученого совета. В основном это были книги по истории и литературе (прежде всего поэзии)[163]. К этому времени Япония уже неплохо знала Запад. Теперь она хотела, чтобы Запад получше узнал ее. Книжные коллекции дарили и в другие европейские и американские университеты. Подобные дары были составной частью кампании по улучшению имиджа Японии за рубежом. Принятый в этом году семейный кодекс служил, в частности, и этой цели. Полигамные нравы японцев служили предметом постоянных упреков со стороны европейцев. Теперь многоженство было официально упразднено. Если раньше вторая жена признавалась в качестве родственницы «второй степени», то теперь правом называться родственницей обладала только одна женщина. Все остальные попадали в разряд бесправных любовниц.
1883 год
16-й год правления Мэйдзи
Этот год выдался для монарха тяжелым. 20 июля скончался правый министр Ивакура Томоми. Вместе с его смертью киотосская аристократия потеряла своего последнего влиятельного представителя в политической элите. Правый министр Сандзё Санэтоми всегда оставался фигурой церемониальной, его использовали как символ единения аристократии и самураев.
Мэйдзи знал Ивакура почти с момента рождения – он служил камергером с 1854 года и являлся одним из немногих членов правительства, кто имел неограниченный доступ к императору. В отличие от подавляющего большинства «худородных» политиков того времени Ивакура был настоящим киотосским аристократом. Упадок аристократии привел к упадку и самого города, что постоянно беспокоило Ивакура. Недаром его последним проектом государственной важности было возрождение древней столицы. Многие говорили: нужно сделать так, чтобы Киото не превратился во «вторую Нара». Имелось в виду, что после переноса в конце VIII века императорского двора из Нара в Хэйан (Киото) оттуда ушли почти все жители и только в нескольких буддийских храмах продолжала теплиться жизнь. А после гонений на буддизм, предпринятых в начале правления Мэйдзи, город пришел в еще большее запустение.
В мае Ивакура отправился в Киото и представил свои соображения о том, как можно сделать увядающий город вновь процветающим. Предполагалось, что в Киото будет открыт филиал Министерства двора. Этот филиал станет отвечать за связи со святилищами и храмами. Во дворце Госё в память об основателе города императоре Камму (781–806) будет построено святилище. Часть церемонии интронизации будущего государя (ритуалы сокуи и дайдзёсай), а также церемония посвящения супруги государя в сан императрицы должны проводиться в Киото. Ивакура предложил также построить в городе специальный храм (ёхайсё), в котором можно было бы поклоняться святилищу Исэ и гробнице первоимператора Дзимму «издалека» (в традиционном синто обряда поклонения «издалека» не существовало – совершение обряда допускалось только там, где расположена святыня). Многие другие важные ритуалы и церемонии также следовало, согласно предложению Ивакура, проводить в Киото. Причем правый министр ратовал за то, чтобы на эти ритуалы допускался и народ. Старые храмы предполагалось отремонтировать, а возле реки Камо построить гостиницу для иностранцев, чтобы они тоже могли наблюдать церемонии государственной важности. Ивакура напоминал старую конфуцианскую истину: без соблюдения ритуала государство приходит в упадок.
Именно там, в Киото, Ивакура и почувствовал себя плохо. Его перевезли в Токио, доктор Бёльц определил, что у него запущенный рак пищевода. Ивакура попросил врача сделать все возможное, чтобы хоть чуть-чуть отсрочить развязку. Он хотел непременно увидеть еще раз Ито Хиробуми, который в тот момент находился в Европе, куда был командирован для изучения тамошних конституций. Но Бёльц уже ничего не мог поделать. Понимая, что смерть совсем близко, он сказал об этом правому министру. И тогда Ивакура вызвал советника Иноуэ Каору и на ухо сообщил ему свое политическое завещание. Бёльц находился рядом, но слов Ивакура он не слышал. Иноуэ никому не рассказывал о том, что сообщил ему Ивакура. Вероятно, и мы тоже никогда не узнаем о последней воле Ивакура Томоми.
В своем панегирике Мэйдзи уподобил Ивакура своему отцу, назвал его учителем и «столпом страны». Посмертно он присвоил ему титул «главного министра». Ивакура было 57 лет.
В этот год Мэйдзи потерял не только своего преданного министра, который сыграл выдающуюся роль в проведении реформ.
26 января у Мэйдзи родилась дочь. Ее матерью была Тигуса Котоко. Тремя годами раньше она уже осчастливила императора принцессой Акико. Обе девочки умерли от менингита в сентябре этого года с разрывом в два дня. Придворный педиатр подал в отставку. На три дня двор погрузился в траур, флаги в армейских частях были приспущены.
Ивакура Томоми
Смерть детей совпала с приступом менингита у самого Мэйдзи. Врачи в очередной раз посоветовали императору проводить побольше времени вне Токио на природе, но он продолжал вести привычный образ жизни. Однако для будущих детей в красивейших местах Японии – Хаконэ и Никко – загородные усадьбы были все-таки построены.
В этом году Мэйдзи пришлось попрощаться и с Гарри Парксом. Его перевели на службу в Китай. Хотя он был человеком грубым и высокомерным, Мэйдзи, вероятно, помнил ту поддержку, которую оказал ему сэр Гарри в его противостоянии с сёгуном Ёсинобу. В конце концов, он был едва ли не первым европейцем, увидевшим лицо юного и тогда еще безусого императора. И потому, несмотря на то что Паркс яростно защищал унизительные для Японии договоры, Мэйдзи наградил его Большим Орденом Восходящего Солнца. Но британское правительство не разрешило своему сотруднику получить иностранный орден. Оно было не менее гордым, чем сам Паркс. Однако Мэйдзи все-таки отметил расставание особым образом: подарил Парксу цветочную вазу и курильницу для благовоний, которыми до того пользовался сам.
Теперь, когда император объездил практически всю страну, настало время для того, чтобы обосноваться в собственном дворце. Раньше Мэйдзи совершал длительные путешествия – ритуал, направленный на то, чтобы «присвоить» страну и стать ее легитимным обладателем. За время поездок ему поднесли тысячи снопов риса (японский аналог хлеба-соли) – свидетельство того, что люди признали его за своего повелителя. О том же говорили и подаренные ему географические карты. Мэйдзи ночевал в сотнях домов, которые теперь почитались в качестве священных мест. Теперь вся страна была отмечена его присутствием, Мэйдзи внес существенный вклад в «сакральную разметку» пространства империи.
Нужно сказать, что люди воспринимали Мэйдзи в качестве божества весьма охотно. Этому способствовали фольклорные представления о синтоистских божествах – покровителях земледелия. Синтоистские святилища расположены, как правило, в горах. Считалось, что божество должно находиться там зимой, когда урожай уже собран и помощи божества больше не требуется. С началом сельскохозяйственных работ символ божества помещали в паланкин (переносная модель храма) и несли на поле. Именно там и должно было находиться божество. Процессии, в центре которых находился паланкин Мэйдзи, должны были производить впечатление явления божества, покровительствующего сельскохозяйственным работам и получению богатого урожая. Деревенские жители выходили встретить императора с праздничным сакэ и рисовыми лепешками-моти. Точно таким же образом они встречали и паланкин с божеством[164]. Именно поэтому поездки Мэйдзи по стране совершались в разгар полевых работ – чтобы усилить ощущение встречи с «настоящим» божеством через привычное для крестьянина время ритуала. Императору приходилось нелегко – поездки совершались в самое жаркое и душное время года, но этого требовали высшие, поистине божественные интересы, которые совпадали с интересами государственными. В воспоминаниях очевидцев встреча императорского экипажа неизменно предстает как настоящий синтоистский праздник – с употреблением сакэ и ритуальной пищи.
Торговая улица, украшенная флагами и праздничными фонариками
Все, чего касался император, шло в ход. Люди собирали гальку, по которой пронесли его паланкин; они собирали землю, на которой стоял его трон; они собирали осыпавшиеся иголки с ветвей криптомерий, которые использовались для украшений. Эти амулеты должны были обеспечить урожай и здоровье. Женщины терлись о внутренние столбы в доме, где останавливался Мэйдзи, чтобы обеспечить себе легкие роды. Газеты сообщали даже о некоем человеке, вылечить которого отказывались врачи. И тогда ему принесли объедки с подноса, с которого обедал Мэйдзи, и он, разумеется, выздоровел[165].
Всюду, куда бы ни направился Мэйдзи, его встречали национальные флаги и белые бумажные фонарики с изображением красного солнца. Символы государства становились атрибутами религиозного действа. Повсюду можно было увидеть и императорский герб – изображение 16-лепестковой хризантемы.
Однако теперь время «кочующего императора» уходило в прошлое – более «нормальной» ситуацией для японской «оседлой» модели управления следует признать постоянное нахождение монарха в сакральном центре – дворце, куда являются его подданные и гости со всего света. Движение должно было приобрести другой вектор – из центробежного превратиться в центростремительное.
Дворец Акасака официально именовался «временным», он был слишком скромен для правителя страны, которая провозглашала себя «великой Японией». Мэйдзи прожил в нем уже 10 лет.
Официально называемой причиной отсрочки строительства нового дворца было традиционное для идеального конфуцианского правителя нежелание возлагать на плечи трудового люда дополнительное бремя. Однако дело не только в этом. В первые полтора десятилетия реформ политтехнологи делали ставку на создание имиджа подвижного, мобильного и вездесущего правителя европейского типа. Теперь стала ощущаться недостаточность такой трактовки. Облику Мэйдзи следовало придать несколько больше статуарности, неподвижности, тяжести, веса. Этой-то задаче и должен был отвечать новый дворец.
12 февраля заместитель отдела строительства императорского дворца Сисидо Тамаки подал докладную записку, в которой, в частности, говорилось: «Назначение императорского дворца отнюдь не ограничивается тем, что он является вместилищем священного тела императора. Дворец – это место, предназначенное для великих дел по управлению страной, люди – как здесь, так и за границей – должны взирать на него с чувством почтения и восхищения. Это место, где отправляются ритуалы для [процветания] Поднебесной. В последние годы к нам приезжает все больше королевских особ и благородных людей из Европы и Америки, с каждым днем отношения становятся все более тесными. Дела в этом мире зависят от ритуала. Если говорить об управлении страной, то уже прошло то время, когда император мог править Поднебесной из крытой соломой хижины, в которую ведут земляные ступени»[166].
Фукудзава Юкити поддержал идею возведения впечатляющего сооружения. Он полагал, что славившиеся своей скромностью мифические правители Китая Яо и Шунь, а также японский император Нинтоку жили в нецивилизованные времена. Теперь же, во времена прогресса и цивилизации, Японии требуется такой дворец, за который не было бы стыдно перед иноземцами.
Среди политической элиты господствовали похожие настроения – с ростом имперского самосознания стране требовалась и соответствующая ему столица, в сердце которой находился бы великолепный дворец. При этом все обращали внимание, что во всех «настоящих» державах (будь то монархии или республики) такие архитектурные символы уже имелись. Было решено, что дворец будет построен ко времени провозглашения конституции.
Пока обсуждались планы по возведению нового дворца, полным ходом шло строительство Дома приемов, задуманного как витрина новой Японии.
Министр иностранных дел Иноуэ Каору в своей докладной записке писал: «Как мы можем воздействовать на умы нашего 38-миллионного народа, чтобы он проникся духом смелости, научился независимости и самоуправлению? По моему мнению, единственным средством для достижения этих целей может быть только общение с европейцами, чтобы люди на собственном опыте убедились в своей неуклюжести, осознали свои недостатки, впитали в себя западную одержимость… Полагаю, что для этого необходимо обеспечить свободное общение между японцами и иностранцами. Только так может наша империя встать вровень с западными странами. Только так сможет наша империя стать независимой, процветающей и сильной».
Идея Иноуэ Каору о свободном общении между японцами и иностранцами приняла форму конкретного архитектурного проекта. В этом году английский архитектор Д. Кондер (1852–1920) завершил строительство двухэтажного каменного здания Рокумэйкан – Павильон Кричащего Оленя. Название Дома приемов было призвано вызвать ассоциации со стихотворением из «Книги песен» – классики китайской поэзии. В нем рассказывается, как вином, изысканными кушаньями и музыкой привечают гостей из дальних стран, а гости повествуют в ответ о своих землях. Здание Рокумэйкан располагалось в районе Хибия (неподалеку от императорского дворца), на месте склада оружия, принадлежавшего когда-то княжеству Сацума. С помощью этого оружия сацумцы когда-то рассчитывали изгнать иностранцев. Теперь здание Рокумэйкан стало одним из главных символов открытости Японии.
Иноуэ Каору
Д. Кондер
Рокумэйкан
Открытие Рокумэйкан состоялось 28 ноября. До этого времени спонсируемые правительством светские мероприятия устраивались в помещениях Энрёкан. Здание отнюдь нельзя было назвать соответствующим нынешним имперским потребностям. Оно было построено еще сёгунатом в качестве военно-морской школы.
За исключением сада с прудом и традиционными каменными фонарями, ничто в архитектуре эклектичного (космополитичного?) здания Рокумэйкан не напоминало о том, что вы находитесь в Японии. Моряк и писатель Пьер Лоти (1850–1923), создатель французского «колониального романа» и автор нашумевшего произведения из японской жизни «Госпожа Хризантема», жестоко сравнивал это здание с второразрядным французским казино. Однако для японской элиты и главного вдохновителя проекта Иноуэ Каору здание Рокумэйкан служило подтверждением того, что Япония стоит на одной ступени с Западом. В строительство были вложены огромные по тогдашним понятиям деньги – 180 тысяч иен (здание МИДа обошлось в 40 тысяч).
Всего пару десятилетий назад лозунгом Японии было изгнание иностранных варваров. Теперь же сотни иностранных гостей регулярно являлись в Рокумэйкан, и японская правящая элита не боялась, что они оскверняют священную землю страны богов. В двухэтажном кирпичном здании размещались бальный зал, библиотека, ресторан с поваром-французом, там музицировали, играли в бильярд. Светская жизнь кипела, в Рокумэйкан устраивали концерты, благотворительные базары и балы, на которых танцевали вальс, мазурку, польку, кадриль. Французские и немецкие музыканты наигрывали мелодии из последних европейских оперетт.
Всего пару десятилетий назад, в 1860 году, когда японская миссия посетила Америку, танцы произвели на делегацию чудовищное впечатление. Но сейчас все высшее общество посещало балы и танцклассы, можно было увидеть, как военный министр кружится в паре вместе с губернатором Токио (на балах, устраиваемых в Рокумэйкан, количество мужчин обычно превышало количество женщин). Правда, в отличие от европейских балов высшей знати, сам император Мэйдзи никогда не танцевал. Танцевать могли только перед ним – потому что танец в присутствии императора традиционно считался изъявлением покорности.
Мэйдзи неизменно появлялся на людях в военной форме западного образца. Политическая элита щеголяла в сюртуках и цилиндрах. В этот исторический момент власть желала выглядеть в глазах народа немного иностранной. Именно «иностранность» отделяла власть от простых людей и придавала ей дополнительную внушительность и авторитетность. Рокумэйкан являлся свидетельством страстного желания элиты быть принятой на Западе в качестве равного партнера.
Женщин в Рокумэйкан не хватало, но они все-таки были. Женщины, способные к светскому общению. Раньше японские жены развлечением гостей никогда не занимались, их уделом было воспитание детей и кухня. Другое дело – гейша, профессией которой было общение. Гейша умела вести непринужденную беседу, играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать. А потому никто в Японии не был способен к общению лучше гейш. Видимо, в этом заключена причина того, что столько японских ведущих политиков избрали себе в качестве жен именно гейш. Профессия политика – бесконечная коммуникация, его жена была должна помогать ему в этом. Политики хотели выглядеть достойно в глазах европейцев во всех отношениях.
И это несмотря на то, что до этого времени социальный статус гейши был чрезвычайно низок. Балы в Рокумэйкан показывали женщинам всей страны пример того, что и женщина может (должна!) выйти «на свет». Эта задача была весьма актуальна: доля женщин даже в такой «женской» профессии, как учитель, составляла всего около 4 процентов.
Несмотря на то что политическая элита с охотой кружилась в вальсе, консервативные газеты находили танцы занятием разнузданным: «Прекрасная женщина склоняет голову на плечо мужчины и поворачивает свое чудесное лицо к его уху. Ее обнаженная рука обвивает мужскую шею, а ее выпуклая грудь, вздымаясь и опускаясь, касается груди мужчины. Ее ноги обвивают ноги мужчины, словно лиана – сосну. Сильная правая рука мужчины плотно охватывает спину женщины; с каждым движением он прижимает ее все ближе к своему телу. Сияние, льющееся из прекрасных глаз женщины, изливается на мужчину, но сама она настолько ослеплена, что не видит ничего вокруг. Музыка подстегивает ее, но она не слышит ее звуков. Вместо этого ей чудится шум далекого водопада, она движется, словно во сне, она прижимается к мужчине. Когда женщина находится в таком состоянии, как можно говорить о врожденной скромности добродетельной девицы?»[167]
И это говорилось в стране, где публичные дома были неотъемлемой частью жизни, а сам император содержал настоящий гарем! Обратим, однако, внимание, за что критикует автор статьи танцевальную пару. Во-первых, он предъявляет претензии только женщине. Во-вторых, его возмущает ее страсть. Относясь достаточно спокойно ко всем проявлениям телесного, включая секс, традиционная японская конфуцианская мораль находила любовь слепой силой, разрушающей понятие о верности и долге. Главное – это не предполагающая равные отношения любовь, а семья во главе с мужчиной, семья, предполагающая прежде всего продолжение рода. Христианская же моногамия, по мнению традиционно образованных японцев, может оставить семью бездетной.
Однако следует отдать традиционалистам должное. Они выступали не только против европейских танцев, но и против японских. Они полагали, что любые танцы возбуждают похоть. Выступали они и против «развратности» классической японской литературы. В сентябре Нисимура Сигэки издал «Вновь избранное собрание ста стихов ста поэтов». Антологию танка «Сто стихов ста поэтов» («Хякунин иссю») составил Фудзивара Тэйка (1162–1241). Однако Нисимура решил подправить прославленного стихотворца – ведь в ней, как и в других поэтических собраниях того времени, множество стихов было посвящено любви. Антология пользовалась огромной известностью, ее заучивали наизусть, стихи антологии использовались в популярнейшей игре в поэтические карты. Однако это не помешало Нисимура Сигэки выбросить из антологии два десятка «неприличных» стихов и заменить их другими, которые не имели отношения к любви. Примеру Нисимура последовали и другие ревнители морали, они не стеснялись заменять даже стихи императоров[168]. Наступление на «разврат» происходило по всем фронтам.
Жорж Биго. Понедельники в Рокумэйкан: между двумя кадрилями (1887 г.)
Жорж Биго. Выход в свет (1887 г.)
На европейцев собрания в Рокумэйкан зачастую производили странное впечатление. Тот же Лоти окрестил их «обезьяним шоу», а французский карикатурист Жорж Биго не упускал случая, чтобы поиздеваться над гостями Рокумэйкан. Он публиковался в малотиражных изданиях в Иокогаме, там не действовала цензура.
Иноуэ Каору полагал: свободное общение в Рокумэйкан может убедить европейцев, что японцы «дозрели» до «настоящей» цивилизации, и это якобы может сыграть свою роль в деле пересмотра договоров. Однако в глазах европейцев мало что изменилось с переездом Дома приемов из Энрёкан в Рокумэйкан. Как показали последующие события, гораздо более эффективным средством признания «цивилизованности» Японии послужили не балы, а пушки.
Перспектива. Европейцы напрасно обвиняли японцев в желании «понравиться», которое они находили «наивным». Вспоминая много лет спустя о веселых и пышных балах, проводившихся в Рокумэйкан, Окура Кихатиро (1837–1928), сделавший свой капитал на поставках армии вооружений, отмечал те истинные цели, которые ставили перед собой очень многие представители правящей элиты. Он вспоминал знаменитого персонажа японской истории Оиси Кураносукэ. Он был одним из 47 самураев, которые решили отомстить обидчику за смерть своего господина. Чтобы ввести в заблуждение своих врагов, ему пришлось надолго поселиться в «веселом квартале» Киото. И только когда они поверили в его окончательное падение, он приступил к решительным действиям. Для политиков времени Мэйдзи балы в Рокумэйкан были вовсе не развлечением, они преследовали «высшие» политические цели.
В этом году началось исполнение восьмилетнего военного плана. Он включал в себя строительство 32 военных кораблей и модернизацию береговой обороны в районе Токийского залива.
Перспектива. Возведение береговой линии обороны в Токийском заливе было закончено только в 1929 году. Это говорит о том, что Япония готовилась к войне на чужой территории.
Флот был призван покорять морские просторы. В традиционной официальной культуре море не играло никакой роли – японское государство придерживалось идеологии земледельцев, оно думало о крестьянах и пренебрегало рыбаками, считая их людьми второго сорта. И это несмотря на огромную роль морского промысла в пищевой диете страны. Для японской геополитики море представляло ценность только в том отношении, что оно отделяло страну от континента, от которого можно было ожидать только неприятностей.
Однако новые геополитические отношения совершили в душах идеологов настоящий переворот. И теперь государство на самом высоком уровне стало думать о море. И не только о военно-морском флоте, но и об увеличении его пищевой продуктивности. В мае была открыта Первая выставка морских промыслов, обращение к участникам которой послал сам Мэйдзи! Общение императора с рыбаками с точки зрения традиционных ценностей было делом абсолютно немыслимым. В своем адресе Мэйдзи отметил: «Полагаем, что морские ресурсы нашей страны отличаются богатством, но мастерство, которое могло бы обеспечить процветание рыболовства, еще далеко от совершенства. Это и является причиной проведения данной выставки. Рассчитываем на дальнейшее улучшение этого мастерства и его развитие, желаем его процветания»[169]. Население страны росло, производство мяса тоже росло, но слишком медленно, японцам был по-прежнему нужен животный белок. Кроме как из моря, взять его было неоткуда.
В сентябре на территории императорского дворца открылся зал для соревнований по фехтованию на мечах. Искусство самураев допустили во дворец, самурайский дух становился всепроникающим. Зал назывался «Совершенное спокойствие». В этом названии отражена суть боевых искусств Японии: они предназначены для самосовершенствования и победы над самим собой. Только после того, как такая победа достигнута, можно выходить на «настоящее» поле боя.
В деле внедрения воинских искусств в придворный обиход огромная роль принадлежала Ямаока Тэссю (1836–1888). Он был одним из тех, кто в 1868 году помог договориться о мирной сдаче Эдо императорским войскам, за что его назначили камергером Мэйдзи. Теперь Ямаока предстал как один из влиятельнейших сторонников повсеместного внедрения искусства фехтования, которому, наравне с другими воинскими искусствами, он отводил выдающееся место в воспитании несгибаемого японского духа.
В июне, после почти годичного пребывания за границей, Итагаки Тайсукэ вернулся домой. За время его отсутствия Либеральная партия и Партия конституционных реформ переругались насмерть. Товарищи Итагаки по партии рассчитывали, что теперь-то их лидер, обогащенный передовыми идеями, вдохнет новую жизнь в их движение, но Итагаки вернулся совсем другим человеком. Он заявил, что в деле политического устройства Япония весьма хороша, а работать нужно над повышением уровня жизни населения и укреплением военно-морского флота. От его либерализма не осталось и следа.
Итагаки Тайсукэ
Властям удался хитроумный план по нейтрализации своего главного соперника. Не умея утишить страстные речи Итагаки Тайсукэ дома, в прошлом году Ито Хиробуми решил отправить Итагаки и его ближайшего соратника Гото Сёдзиро в Европу. Ито рекомендовал им поучиться демократии и парламентаризму в преддверии принятия конституции в Японии. Оба лидера Либеральной партии одушевлялись европейскими республиканскими идеями, но никогда не пересекали государственной границы.
Ито и Иноуэ Каору уговорили банк «Мицуи» выделить на поездку доморощенных либералов 20 тысяч фунтов стерлингов. Взамен они пролоббировали продление контракта банка с армией. Итагаки и Гото с готовностью обманулись и дали уговорить себя – тем более что сам Ито тоже отправился в Европу с теми же самыми познавательными целями. В отличие от самого Ито, либералы иностранных языков не знали, они во всем зависели от шпионившего за ними правительственного переводчика. Итагаки с удовольствием повстречался с Клемансо, Виктором Гюго и Спенсером, осмотрел множество достопримечательностей. Но Европа все-таки разочаровала его. Как и многие другие побывавшие за границей японцы, он обнаружил, что японские реалии, критике которых он отдал столько сил, все равно ему ближе. Ито Хиробуми вернулся в Токио в августе. Время в Европе не прошло для него даром – он уже знал, какой быть японской конституции. Она должна напоминать прусскую.
В июле вышел первый номер «Правительственного вестника» («Кампо»). Раньше власть полагалась на верных ей издателей, которые публиковали официальные сообщения и свои комментарии к ним. Комментарии, согласованные с правительством. В обмен прикормленные газетчики получали привилегии и деньги. Однако управление «свободной» прессой было все-таки делом хлопотным, и правительство решилось на издание собственной газеты. Для Фукути Гэнъитиро, который раньше занимался озвучиванием точки зрения правительства (или, что точнее, его крыла во главе с Ито Хиробуми), это решение означало катастрофу. Все знали, что раньше он получал информацию из первых рук, чиновники и учреждения охотно подписывались на его «Нити-нити симбун». Теперь они стали подписываться на «Кампо», тираж «Нити-нити» быстро сократился с восьми с половиной тысяч до 4300 экземпляров[170]. Газет в тогдашней Японии издавалось множество, но тираж каждой из них был настолько незначителен, что малейшая неожиданность могла поставить любую в крайне тяжелое положение. Снижение накала политических страстей, связанных с решением о подготовке конституции, привело к сокращению тиражей и других газет, но оно не было таким значительным.
Как бы ни высмеивали европейцы манеры озападнившихся японцев, никто не мог отрицать, что жизнь в Японии все больше становится похожей на европейскую. В этом году на улицах столицы появились первые электрические фонари, а газеты стали публиковать прогнозы погоды. Тем не менее многие иностранцы, щеголяя знанием японской истории и испытывая тоску по той, старой и нетронутой иноземными влияниями Японии, упорно предпочитали употреблять прежнее название Токио – Эдо. Эти люди принадлежали к нарождавшейся «партии японофилов», которым новая Япония казалась всего лишь сильно ухудшенной копией Запада.
1884 год
17-й год правления Мэйдзи
В этом году у Мэйдзи снова случилась депрессия, похожая на ту, что поразила его в год восстания Сайго Такамори – он отказывался от участия в совещаниях и не принимал министра внутренних дел Ито Хиробуми. Но тогда, в 1877 году, небрежение императора своими обязанностями можно было оправдать: выступление верного соратника Сайго и вправду явилось событием крайне огорчительным. На сей раз никаких причин для хандры вроде бы не существовало, но тем не менее Мэйдзи не желал встречаться со своими министрами. Он сказывался больным, а правила двора запрещали кому бы то ни было входить в покои занемогшего монарха.
Ито Хиробуми через своего доверенного подговорил дворецкого Фудзинами Кототада (1852–1926) сообщить Мэйдзи его просьбу об аудиенции. Для дворецкого это было большим испытанием, поскольку он преступал границы дозволенного. Но Ито сказал ему: прошу вас рискнуть своей жизнью. Фудзинами счел за благо предупредить о своем поступке императрицу Харуко и наложниц. Улучив удобный момент, он обратился к императору с настоящим поучением, заканчивавшимся такими словами: «Я читал, что священные правители древности одевались должным образом и с уважением выслушивали доклады своих министров… Я прошу ваше величество дать аудиенцию Ито Хиробуми». Император пришел в ярость от такого урока, но потом сменил гнев на милость, принял Ито, а дворецкого наградил золотыми часами и шелковым отрезом[171].
Несмотря на то что Мэйдзи временами отлынивал от дел, жизнь в стране кипела. Все решения принимались от его имени; считалось, что он в курсе всех событий, которые творятся в Японии и за рубежом. О депрессии императора знали только самые близкие люди.
Э. Феноллоса
Окакура Тэнсин
В этом году в префектуру Нара направилась комиссия во главе с Окакура Тэнсин (Какудзо, 1862–1913), Кано Тэссай и американским профессором Эрнестом Феноллосой (1853–1908). Ее задача заключалась в обследовании буддийских храмов и синтоистских святилищ с целью каталогизации находившихся там предметов культа, которые можно было бы квалифицировать как шедевры искусства. Феноллоса приехал в Японию преподавать в Токийском университете в 1878 году. Он по достоинству оценил японское искусство, заставив многих японцев поверить, что и в Японии есть что-то хорошее.
В храме Хорюдзи комиссия «открыла» деревянную статую Гудзэ Каннон. Эта статуя была вырезана в VII веке корейскими мастерами. Вот как описывает Феноллоса посещение храма.
«Центральное правительство снабдило меня бумагами, которые предоставляли право открывать хранилища и храмы. Центральное место в восьмиугольном павильоне Юмэдоно занимало большое закрытое святилище, устремлявшееся вверх подобно колонне. Священники Хорюдзи сказали, что, согласно традиции, в этом святилище находится произведение корейских мастеров времени правления Суйко (592–628. – А. М.), но само святилище не открывалось больше двухсот лет. Воодушевленные перспективой обнаружения такой уникальной ценности, мы всячески убеждали священников продемонстрировать нам ее. В течение долгого времени они отказывались, утверждая, что в наказание за святотатство землетрясение уничтожит храм. В конце концов нам удалось убедить их; я никогда не забуду, что мы почувствовали, когда ключ после столь многих лет со скрипом повернулся в заржавленном замке. В святилище мы увидели нечто высокое, тщательно забинтованное кусками хлопчатобумажной материи, в которую въелась пыль веков. Развернуть статую было непростой задачей, поскольку длина материи составила около 500 ярдов; наши глаза и ноздри были буквально забиты едкой пылью»[172].
Феноллоса стал в Японии одним из самых знаменитых иностранцев. Он не только открывал японцам глаза на японское. Пользуясь недооцененностью японского искусства, он собрал богатейшую коллекцию из 20 тысяч предметов. Большинство из них хранится ныне в Бостонском музее изящных искусств.
Помимо Феноллосы, огромная роль в процессе «открытия» японского искусства принадлежала Окакура Тэнсин. Он утверждал, что сама земля Японии и ее климат благоприятствуют развитию в людях эстетического начала: океан и горы, разнообразие климатических зон создают идеальные условия для процветания искусств. «Если искусство не процветает в этой островной стране, то тогда вообще не может быть другого места [в мире], которое рождало бы искусство»[173].
Идеологи «национальной школы» («кокугаку») утверждали и раньше, что уникальность Японии состоит в том, что на ее территории «проживают» синтоистские божества. Теперь этот «божественный код» был переведен в плоскость искусства, но при этом связь с территорией архипелага сохранилась. Японцы – люди особенные, с особым чувством прекрасного, потому что они живут на особенной земле, – утверждал Окакура. О несомненном успехе этого тезиса свидетельствует следующий факт. До сих пор встречается немало японцев, которые убеждены: развитость поэтической традиции в Японии объясняется тем, что в этой стране необыкновенно четко выявлены четыре времени года.
Окакура оказался одним из главных творцов и другого мифа. Он утверждал, что уникальной особенностью японцев («людей Ямато») является их способность адаптировать иностранное, гармонизируя его с местным. Он определял Японию как «музей Азиатской цивилизации». В своем развитии, которое в значительной степени есть история заимствований и их адаптации, Япония только приобретает и не теряет ничего. Утверждение особенно значимое для национального самолюбия. Оно было сделано в период, когда страна столько заимствовала с Запада.
В этом году было налажено производство специальной «шпионской» бумаги для школ. Ученик обмакивал кисть в обычную воду и выводил иероглифы – они мгновенно «проявлялись» на бумаге. Через несколько минут, когда вода высыхала, иероглифы исчезали, а бумагу можно было использовать снова. Японцы того времени жили бедно, бережливость почиталась ими едва ли не за основную добродетель. Графитовые карандаши появились тоже в 80-х годах, но еще долго оставались предметом роскоши[174].
Однако учеников ждали и более серьезные новшества. В момент введения школьного образования, в соответствии с призывами Фукудзава приоритет отдавался позитивистскому знанию, однако теперь все больше внимания стало уделяться моральному совершенствованию и военно-физической подготовке. Школа учила любить императора и родину, на школьных дворах ученики упражнялись с гантелями и деревянными мечами. Школа постепенно становилась инструментом «культурного террора», когда все служит одной задаче: воспитанию максимально послушного правительству народа, а не свободного человека.
В ноябре в начальных школах появился составленный Министерством образования учебник по этике. Он открывался восхвалением сыновней почтительности и пестрел конфуцианскими максимами. «С самого детства почтительность к родителям является первейшим долгом». «Тот, кто исповедует почтительность по отношению к родителям, естественным образом ведет себя правильно и в другом». В этих высказываниях не было ничего необычного. В течение многих веков маленьких японцев учили сыновней и дочерней почтительности. В своих первых указах Мэйдзи неоднократно называл своих подданных «младенцами», т. е. подчеркивал свою ответственность за них. Но от младенцев невозможно ожидать заботы о родителе…
Теперь же младенцы «подросли», от них можно было и требовать. Теперь метафора долга по отношению к отцу была распространена и на императора: «Мы должны почитать императора так же, как почитаем своих родителей». «Почтительность на службе у правителя – это верноподданничество; верноподданническое сердце – ворота к почтительности». «Правитель подобен отцу. Никогда не забывай о своем долге перед ним». Иными словами: семейные ценности становились ценностями государственной значимости, а император представал в качестве строгого и справедливого отца всех семей в Японии. Семей, которые образовывали нацию.
В первоначальном варианте учебника, составленном поборником строгих конфуцианских норм поведения Нисимура Сигэки (1828–1902), присутствовали образцы высокоморального поведения европейцев. В окончательном варианте остались примеры только из японской и китайской истории. В качестве одной из тем занятий предлагался Токугава Ёсимунэ, занимавший должность сёгуна в 1716–1745 годах. Он удостоился похвалы за то, что исправно посещал гробницу основателя сёгунской династии Иэясу[175].
Положительные примеры из истории дома Токугава знаменовали собой определенный идеологический откат, который одновременно можно назвать и прорывом. Составители учебника как бы говорили первоклашкам: военные правители были не так плохи, как то доказывало правительство вашим родителям. Бывшие самураи, ставшие основными поставщиками кадров для государственного аппарата, внедряли в сознание школьников свои ценности и мысли. Ползучее оправдание режима Токугава было в какой-то мере неизбежным, ибо именно история самураев предоставляла наиболее яркие примеры верности своему сюзерену. Сюзерену, место которого занял теперь Мэйдзи.
Именно императоры представали как главные объекты изучения на уроках по истории. Авторы учебников описывали деяния и достоинства благодетельных императоров, их дворы и битвы. Хотя предмет изучения назывался «историей Японии», жизнь простых людей, общество, экономика авторов интересовали мало. В этом смысле школьные учебники больше напоминали древние официальные хроники, которые, хотя и назывались «национальными», отражали почти исключительно реалии дворцовой жизни. Именно поэтому Фукудзава Юкити в свое время заметил: «В Японии есть правительство, но нет народа».
В самом начале правления Мэйдзи особой популярностью пользовался лозунг «Один правитель – десять тысяч простых людей». Под этим лозунгом понималось внесословное равенство обитателей страны, у которых есть один-единственный повелитель. И перед этим повелителем все равны. Однако японское общество привыкло быть статусным. Уже в 1869 году в особую группу были выделены аристократы (кадзоку). Это были киотосские аристократы и князья-даймё. Звание кадзоку не предполагало внутреннего деления. Однако излишняя однородность претила сознанию элиты, в преддверии создания парламента нужно было подстраховаться и обеспечить себе такие привилегии, которые не зависели бы от превратностей выборного процесса. Кроме того, нынешние «худородные» политики в состав знати формально не входили. А им хотелось не только власти, но и потомственных почестей. И потому 7 июля аристократию разделили на пять групп. В переводе на европейские языки аристократы именовали себя князьями, маркизами, графами, виконтами и баронами. Но на самом деле названия аристократических групп были взяты из древнего Китая. В категорию «князей» первоначально попали только пять аристократических семей из Киото, нынешний глава дома Токугава – Иэсато, Сандзё Санэтоми, Ивакура Томоми (посмертно), семьи Симадзу и Мори (бывшие даймё Сацума и Тёсю). Все они имели право на привилегированное положение и в прошлом. Однако теперь, помимо прежней знати (киотосской аристократии и князей), к привилегированным группам было разрешено приписывать и тех людей, которые оказали выдающиеся услуги отечеству (императору) в политической и военной сферах. Подавляющее большинство «новых аристократов» были выходцами из Сацума и Тёсю (28 и 23 человека соответственно).
В стране теперь насчитывалось 576 титулованных особ. Признание возможности того, что заслуги перед отечеством могут принадлежать не только выходцам из благородных семейств, было большим новшеством. Правда, в категорию аристократов могли попасть только политики и военные. Ни ученым, ни артистам, ни промышленникам такая честь оказана не была.
Последняя статья указа министра двора Ито Хиробуми относительно введения титулов вменяла в обязанность давать аристократическим отпрыскам хорошее образование. К чести элиты, она прекрасно понимала, что прочное положение в обществе обеспечивается не только наследственными привилегиями.
В этом году возле пруда Синобадзу в Уэно построили ипподром. Правительство уделяло большое внимание развитию коневодства, имея в виду роль кавалерии в войнах того времени. Сам Мэйдзи подавал пример своим подданным и занимался верховой ездой. Правда, европейцы находили его посадку не слишком ловкой.
Поскольку японские лошади были низкорослыми, лошадей стали завозить из Европы. Чтобы местные особи не испортили импортную породу, ничего лучше не придумали, как кастрировать их. В плане пропаганды конного дела и было принято решение о строительстве ипподромов. Непосредственное руководство строительством было возложено на принца Комацу Акихито (1846–1903). На открытии ипподрома «Объединенного клуба скачек» присутствовал и сам Мэйдзи, наблюдавший за заездами из ложи. Вся атмосфера должна была создавать приподнятое настроение. Национальные флаги, императорские хризантемы, бумажные фонарики. В воздухе кружили выполненные из легчайшей промасленной бумаги фигурки людей, животных, птиц и рыб, вылетающие прямо в небеса из вертикально поставленных карнавальных пневматических пушечек, сделанных из ствола бамбука. Предварительно сложенные фигурки раскрывались на высоте и, наполняемые воздухом, медленно опускались на праздничную землю. Часто они бывали привязаны к подобию раскрывавшегося вместе с ними парашюта. Иностранцы называли это «дневным японским салютом». Ничего подобного они в Европе не видели.
В Токио Мэйдзи открывал ипподром, а в этот же самый день в Титибу (нынешняя префектура Сайтама к северо-западу от Токио) вспыхнуло настоящее восстание. Элиту и крестьян волновали разные проблемы. Подавляющее большинство жителей Титибу занималось разведением шелкопряда. Однако три года назад цены на шелк резко пошли вниз, жить крестьянам стало труднее, многие из них влезли в долги. Поскольку Титибу – горный район, пахотной земли там почти не было, альтернативных источников дохода у жителей деревень не существовало. Крестьяне подавали властям прошения: предоставить им рассрочку, уменьшить налоги, умерить процентные аппетиты ростовщиков, предоставить материальную помощь. И даже закрыть на три года школы, чтобы уменьшить семейные расходы и привлечь в хозяйство дополнительные руки. Но ничего сделано не было, наступила осень – время расплаты с кредиторами. Крестьяне, число которых достигло 10 тысяч человек, принялись громить дома ростовщиков и уничтожать долговые расписки. Они врывались в суды и полицейские участки и жгли документы. Восставшие были неплохо организованы, но перед лицом присланных из Токио солдат они мгновенно рассеялись. Традиции вооруженной борьбы с властью у японских крестьян не было. Они никого не убили, но четырех зачинщиков восстания приговорили к смертной казни.
Тоёхара Тиканобу. Окрытие ипподрома «Объединенного клуба скачек» в Уэно
Открытие ипподрома состоялось 1 ноября. Казалось бы, самое время любоваться кленами. Но поскольку за Уэно к этому времени прочно закрепилась слава места, знаменитого своими бесподобными сакурами, художник счел возможным изобразить эти сакуры цветущими (на заднем плане), хотя им полагается цвести в конце марта – начале апреля. Это была логика, присущая японской поэзии, когда за каждой местностью закреплялся постоянный эпитет (макура-котоба). При упоминании в стихотворении той или иной местности этот эпитет был «обязан» встать во фразеологическую пару рядом с топонимом. Так получилось, что на гравюрах, где изображался парк Уэно, сакуры цвели круглый год. Киото традиционно называли «столицей цветов» (хана-но мияко), где под «цветами» подразумевалась сакура. Токио не должен был уступать Киото и в этом отношении. И в этом виден определенный комплекс «токийской неполноценности».
Некоторые лидеры восставших входили в Либеральную партию. Скорее всего, они не знали, что ее руководство 29 октября уже приняло решение о самороспуске. Восстание в Титибу оказалось самым серьезным и самым последним крестьянским выступлением. Во многих таких «беспорядках» активную роль сыграли рядовые члены партии. Итагаки Тайсукэ и его ближайшие соратники не были приверженцами силового решения проблем. Но обуздать своих возбужденных партийцев они оказались не в состоянии, поэтому и решили похоронить свою партию.
Самороспуск Либеральной партии и поражение восстания в Титибу поставили точку в истории «Движения за свободу и права народа». Партия конституционных реформ о своем роспуске не объявляла, но с уходом Окума Сигэнобу с поста председателя фактически тоже прекратила свое существование. Окума тоже испугался вспышек насилия. Либералы пришли к выводу, что их партийная деятельность ведет к хаосу. А они хотели порядка.
1885 год
18-й год правления Мэйдзи
В первую половину этого года Мэйдзи, похоже, снова одолевала тоска. Хотя в последующем за ним закрепилась слава человека трудолюбивого и ответственного, в этом году он часто находился в своем рабочем кабинете всего пару утренних часов – с 10 до 12. Он проводил время в разговорах со своими немногими приближенными, а Ито Хиробуми снова не мог получить аудиенции. В раздраженном письме, адресованном Сандзё Санэтоми, он обвинял императора в пренебрежении своими прямыми обязанностями, что является недостойным его предков и потомков. Ито Хиробуми, сделавший так много для возвеличивания императора в глазах простых японцев для придания ему статуса живого божества, в глубине души относился к Мэйдзи как к обычному смертному человеку со всеми его достоинствами и недостатками.
Принц Ёсихито
Тем временем жизнь семьи императора тоже требовала решений. Мэйдзи распорядился, чтобы его единственный сын Ёсихито воспитывался не во дворце, а по-новому. В сентябре следующего года его надлежало отдать в привилегированный лицей Гакусюин, где он должен был обучаться вместе с сыновьями принцев и аристократов. Однако принц, как и все его предшественники, виделся с родителями только в особых случаях и только на людях.
26 июля Мэйдзи отправился в свою последнюю поездку по стране. Император посетил префектуры Ямагути, Хиросима и Окаяма. Это было шестое по счету путешествие Мэйдзи. Оно оказалось самым коротким – всего 18 дней. Видимо, становилось ясно, что агитационные возможности таких путешествий в значительной мере исчерпаны. По всей вероятности, сыграли свою роль и проблемы со здоровьем императора. Однако более важным представляется другое. Видимый во всех сферах жизни дрейф в сторону традиции сказывался и на позиционировании императора. Образ мобильного монарха европейского типа прибавлял в статуарности.
В этом году японское правительство позволило отправиться на Гавайи первым сельскохозяйственным рабочим. Со времени, когда гавайский король Калакуа посетил Японию, прошло 4 года. Японские власти думали медленно, но зато выезд рабочих был организован хорошо. Иноуэ Каору настоял на том, чтобы на гавайские плантации выезжали в основном крестьяне из юго-западных префектур. Тамошние жители казались ему наиболее дисциплинированными и трудолюбивыми. Разумеется, в тогдашних условиях это можно считать за привилегию – зарплаты за океаном были в 8—10 раз выше японских, так что японские рабочие могли помогать своим семьям. Видимо, руководство страны, большинство членов которого сами были выходцами с юго-запада, отдавало себе отчет в том, что «земля богов» все еще не является идеальным местом для обеспеченной жизни простых крестьян.
Перспектива. В конце XIX – начале XX века ежегодная эмиграция из Японии составляла около 10 тысяч человек. Вместе с присоединением Гавайев к США многие японцы стали оседать в Калифорнии. Их трудолюбие и готовность работать за сравнительно низкую зарплату сделали японцев серьезными конкурентами для местного населения. Антияпонские выступления привели к заключению джентльменского соглашения между США и Японией: Япония добровольно обещала ограничить число эмигрантов. С введением в США нового эмиграционного закона 1924 года выезд японцев в США практически прекратился. Во время Второй мировой войны более 100 тысяч японцев, проживавших в США, очутились в концентрационных лагерях. Значительная часть отправившихся на заработки японских рабочих осела на Гавайях, западном побережье США и в Южной Америке, где до сих пор проживает немало потомков переселенцев того времени. Некоторые из них в той или иной степени сохранили японский язык и связи с исторической родиной. В то же самое время следует помнить: несмотря на все трудности переходного периода, крупномасштабной эмиграции Японии удалось избежать. А для нынешних обитателей Японского архипелага Гавайи остаются излюбленным местом пляжного отдыха. В то же самое время некоторые потомки японских переселенцев конца XIX – начала XX века стремятся вернуться на историческую родину (особенно это касается проживающих в странах Латинской Америки). Теперь уже в Японии жизнь стала богаче и лучше[176].
Японцы были упоены реформами, модернизацией и экономическими успехами. В марте Фукудзава Юкити в основанной им газете «Дзидзи симпо» опубликовал свою знаменитую статью «Бегство из Азии» («Дацуа рон»), в которой он говорил о том, что «цивилизованной» Японии не имеет смысла дожидаться, когда ее примеру последуют соседи, – она оторвалась настолько далеко, что ей по дороге не с азиатскими, а с европейскими странами. Фукудзава додумал эту мысль до конца – он предлагал обращаться с Китаем и Кореей, которых он назвал «дурными друзьями», точно так же, как поступает в таких случаях Запад. Он призывал подчинить эти «отсталые» страны, в которых «ничего не меняется в течение столетий».
Спящий Китай.
Несмотря на нападение французских войск, Китай продолжает предаваться своим опиумным грезам. Считается, что идея рисунка принадлежит Фукудзава Юкити
«Двигаться – хорошо, стоять на месте – плохо» – такова была логика Запада последних столетий. Неподвижность стала означать для Запада не стабильность, а смерть. Фукудзава оказался хорошим учеником, метафора движения превратилась у него в руководство к действию. В начале своей писательской карьеры Фукудзава призывал учиться у Запада, теперь он призывал преподать урок Востоку. Стоило потереть японского либерала, как за понятием «свобода» отчетливо обнаружилось: он желает свободы действий только для себя, «цивилизованного». С человеком же «нецивилизованным» следует поступать по законам военного времени. Теперь многие властители дум японского будущего станут попадать в ряды «цивилизованных националистов», минуя либеральную стадию.
Фукудзава искренне желал Корее и Китаю лучшей доли. Он полагал, что без модернизации по японскому образцу они не сумеют сохранить независимость. Политика европейских держав не оставляла в этом никакого сомнения. А потому Корее и Китаю следовало «помочь». В отличие от Сайго Такамори и ему подобных Фукудзава не говорил о том, что кого-то следует наказать за «непочтительность». Зато он заложил теоретические основы японской экспансии с «цивилизованной» точки зрения. Люди самых разных убеждений сходились в одном: соседей надо «уплотнить».
Общий настрой японского общества постепенно менялся: журналисты стали все чаще писать о корейцах и китайцах с чувством брезгливости и презрения. В японской культуре всегда было сильно противопоставление «своего» и «чужого». Свой дом, своя деревня, свой цех, свое княжество… Теперь это противопоставление стало пролегать по государственной границе.
Как известно, очень часто комплекс превосходства – это оборотная сторона комплекса неполноценности. Действительно, в это время японцы все еще мучились от комплекса неполноценности, многим казалось, что японская культура уступает западной во всех отношениях. Газета «Хоти симбун» писала: «Если попробовать сравнить японца с англичанином или американцем, легко понять, кто из них является более трудолюбивым, лучше образованным, более мужественным и понятливым. Какая разница между Японией и Англией или же Соединенными Штатами в мощи, богатстве и цивилизованности!»
Горячие головы даже предлагали программу по скрещиванию японцев с европейцами для «улучшения породы». Или же ратовали за введение английского языка в качестве государственного. Как бы подзабыв про былые обиды, японцы назвали один из заливов возле Иокогамы в честь флагманского корабля коммодора Перри – «Миссисипи».
Однако контрнаступление «японского» уже началось. В этом году японские школьники отбросили чернильные ручки, которыми они пользовались последнее десятилетие. Теперь их снова стали учить писать с помощью кисти и туши. Иероглифы выходили из тени и приобретали прежнюю объемность.
Кобаяси Киётика. Комический катехезис (1886 г.)
Цивилизация манила японцев, но они находили силы и для того, чтобы посмеяться и указать на относительность тех благ, которые приносит европейская цивилизация. На этой гравюре художник сопоставляет достоинства и недостатки японского и западного. Европеец выше, но зато ему требуется больше материи для пошива костюма. Кирпичный дом больше, но деревянный вентилируется лучше. Иностранец гордится своими часами. «Я никогда не опаздываю!» – восклицает он. На что японец спокойно отвечает, что никогда не опаздывает с приемом пищи, не имея никаких часов. В отличие от кровати, с татами невозможно свалиться.
22 декабря был упразднен прежний верховный орган управления – Дадзёкан. Теперь его функции перешли к кабинету министров. Такая реорганизация была совершенно необходима, потому что в Дадзёкан самые высокие должности (главного, левого и правого министров) могли занимать только киотосские аристократы. Однако со смертью Ивакура Томоми среди них (во всяком случае из тех, кто был на виду) не осталось ни одной фигуры, которая могла бы быть настоящим «мотором» реформ.
Первым премьером стал Ито Хиробуми. В состав кабинета входили министр иностранных дел Иноуэ Каору (выходец из Тёсю), министр внутренних дел Ямагата Аритомо (Тёсю), министр финансов Мацуката Масаёси (Сацума), министр сухопутных войск Ояма Ивао (Сацума), министр военно-морского флота Сайго Цугумити (Сацума), министр юстиции Ямада Акиёси (Тёсю), министр просвещения Мори Аринори (Сацума), министр сельского хозяйства и торговли Тани Кандзё (Тоса), министр освоения Хоккайдо Эномото Такэаки (бывший вассал сёгуна). Министерство двора было выведено из структуры кабинета министров. Это ставило его в совершенно особое положение. Император же еще больше дистанцировался от практических дел управления, а значит, и от возможной критики.
Правительство стало называться по-другому, но оно по-прежнему находилось под полным контролем землячеств Тёсю и Сацума. Ито Хиробуми совмещал премьерство с должностью министра императорского двора. Эта должность давала ему теоретическую возможность чаще видеть императора.
Премьер-министры будут меняться часто – до смерти Мэйдзи в 1912 году кабинетов будет сформировано пятнадцать. То есть «продолжительность жизни» одного кабинета составляет менее двух лет. Кабинеты приходили и уходили, но доминирование землячеств Сацума и Тёсю по-прежнему сохранялось. Премьера и его министров критиковали – зачастую ожесточенно – газеты и политики, они становились мишенью для террористов, отставки были часты, но все это не могло радикально изменить кадровый состав правительства. Несмотря на нюансы проводимой разными кабинетами политики, стратегические цели также не изменялись. Создать сильную страну и армию, сформировать единую нацию, изжить комплекс национальной неполноценности и стать вровень с Западом – с этими задачами не спорил никто.
Критика правительства и кадровые перемены абсолютно не затрагивали авторитета Мэйдзи. Он был выведен за пределы поля, где кипели политические страсти, никто не имел ни права, ни смелости подвергать сомнению его священное происхождение и статус. И в этом смысле мало что изменилось по сравнению с древностью.
1886 год
19-й год правления Мэйдзи
В феврале Вильгельму I исполнилось 90 лет. Сайондзи Кинмоти, японский посланник в Австрии, направил Ито Хиробуми письмо, в котором утверждал, что настал подходящий момент для путешествия Мэйдзи за границу. Ни один японский император даже не помышлял о такой возможности. Несмотря на то что Мэйдзи отказался от многих обычаев прошлого, вопрос о его путешествии за границу всерьез даже не рассматривался.
Однако этот год все равно был отмечен серьезными уступками веяниям нового времени. Супруга Мэйдзи, Харуко, стала появляться на людях все чаще и чаще. Временами она даже замещала императора, когда тот не мог присутствовать на каком-либо мероприятии. Так, 30 марта Харуко отправилась на борту военного корабля в Ёкосука, где спускали на воду броненосец «Мусаси».
Заинтересованность Мэйдзи армейскими делами передалась супруге. Глядя на ее портрет, который, казалось бы, служит олицетворением мира и покоя, трудно представить, что в ноябре этого года Харуко сложила танка под названием «Пуск торпеды»:
- Если час такой наступит,
- Для блага страны
- Потопим любой корабль,
- Что приблизится к нам
- По бурным волнам.
Иноуэ Танкэй. Достопримечательности Токио. Мост Адзума на фоне взрыва торпеды (1888 г.)
Вообще-то поэтика классической танка рекомендовала, чтобы авторы воспевали прежде всего природу и любовь. Однако, как мы видим, поэзия была делом живым – она приспосабливалась к изменившимся обстоятельствам.
Судя по этому стихотворению, в памяти Харуко болью отзывалось полное бессилие Японии перед пушками «черных кораблей». Однако справедливости ради отметим, что Япония в это время уделяла намного больше внимания развитию наступательных, а не оборонительных вооружений. Их основой стал флот.
В апреле был готов к эксплуатации плац в токийском районе Аояма. На этом плацу станут отныне проводиться все главные смотры второй половины правления Мэйдзи. Император делал смотры в Аояма 32 раза.
В марте Токийский университет переименовали в Императорский. Его выпускникам была предоставлена немыслимая привилегия – они принимались на государственную службу без экзаменов. Это стало одной из причин того, что поступить в университет было невероятно сложно. Хотя, похоже, обучение там не стало лучше, а дух свободомыслия постепенно улетучивался.
В марте же весь холм Уэно стал собственностью императорской семьи. Теперь она владела парком площадью в 700 тысяч квадратных метров. Четыре года назад там открылся Государственный музей со ста тысячами естественнонаучных, исторических и художественных экспонатов. Двухэтажное кирпичное здание музея построил Кондер – архитектор Рокумэйкан. Предполагалось, что через какое-то время японский музей станет соперником Британского. С самого начала в правительстве договорились, что музей отойдет к правящей фамилии. А пока что он числился за Министерством двора и в его названии отсутствовало определение «императорский».
Симадзу Такако
30 июля Харуко впервые показалась на публике в европейском платье. Она присутствовала на выпускных экзаменах в школе для дочерей аристократов – Кадзоку Дзёгакко. Императрица подала знак всей стране: теперь в европейской одежде следует ходить не только мужчинам, но и женщинам. Вслед за самим императором императрица начинает выходить из «тени» на «свет». Вслед за своим супругом, который показал на себе, что будущее Японии будет скроено по военной форме европейского образца, императрица выступала в качестве модели в витрине престижного магазина.
Поданный императрицей сигнал был истолкован правильно, и уже осенью этого года дамы из высшего политического света перешли на европейские наряды. Переход был совершен с поразительным единодушием – на балу, посвященном дню рождения Мэйдзи, присутствовало около 900 гостей, и только две дамы щеголяли в кимоно!
Для того чтобы сравняться с европейцами по силе и стати, наиболее передовые подданные Мэйдзи наращивали потребление мяса. Будучи привычны к коллективным формам поведения, они объединялись в общества едоков мяса. Газеты сообщили о такой же женской ассоциации, члены которой взяли за правило есть блюда европейской кухни три раза в месяц[177]. Женщины становились вровень с мужчинами и начинали приобретать европейский лоск и вес.
В области семейных отношений наблюдался дрейф в сторону христианской моногамии. На гравюрах этого времени Мэйдзи и его супруга стали часто появляться вместе. В это время они начинают позиционироваться как образцовая супружеская моногамная и чадолюбивая пара. Еще совсем недавно Мэйдзи спокойно рисовали в окружении наложниц, но теперь это обыкновение сочли «нецивилизованным». Правительство имело достаточно возможностей для того, чтобы художники отказались от изображения императорского гарема.
Теперь император очень часто предстает на гравюрах в окружении своей семьи – императрицы и престолонаследника, принца Ёсихито. При этом почти каждое из этих изображений было призвано подчеркнуть: императорская семья выступает за обновление страны при сохранении старого. В качестве «традиционного» неизменно выступает природный фон. Так, за спинами императорской семьи, которую без особых усилий воображения можно принять за европейскую, появляются «три друга зимы» – сосна, бамбук и слива. Мальчики забавляются европейскими парусниками в пруду, берега которого поросли сакурой и сосной. А со дна водоема поднимаются такие же традиционные карпы. Вряд ли художник имел в виду именно это, но все же предложу интерпретацию этой сценки, какой она видится из сегодняшнего дня: европейский парусник бороздит поверхность, но в глубинах вод заключено еще нечто, на что западные технические инновации повлиять не в силах.
Хотя художники часто изображали принца Ёсихито на своих гравюрах и выглядел он на них вполне дееспособным мальчиком, на самом деле его здоровье вызывало самые серьезные опасения. Поскольку все боялись припадков, сопровождавшихся конвульсиями, воспитание Ёсихито было делом нелегким. Мальчику позволялось вести себя самым неподобающим образом, он прерывал занятия, когда ему только заблагорассудится. Один из его учителей вспоминал, что, когда он сделал принцу замечание, тот запустил в него кистью, которую предусмотрительно окунул в красную тушь.
Тоёхара Тиканобу. Зерцало японской знати (1887 г.)
Тоёхара Тиканобу. Мальчики, пускающие в пруду кораблики (1887 г.)
Ёсихито, однако, оставался на тот день единственным выжившим ребенком императора. Поэтому решили подстраховаться и прибегнуть к обычной практике: усыновлению. 1 мая этого года Мэйдзи усыновил отпрыска принца Акихито – Ёрихито. Он был военно-морским офицером.
Отца Николая волновали совсем другие заботы. В ноябре он записал в дневнике: «Колоссами высятся везде Католичество и Протестантство! Какие массы людей! Какие неоглядные, неистощимые фаланги деятелей! А здесь – хоть бы кто на помощь… Как ни закручиниться, как ни прибедниться? Разве чудо сотворит Господь, наставив Японию на Православие! Но какое же основание ожидать чуда? Достойна ли Россия того, и достойна ли Япония? Первая спит на своем бесценном Православии, а вторая – самое небо готова обратить в деньги или выкроить из него иностранный пиджак»[178].
В этом году, однако, над головами сторонников безоглядной вестернизации стали сгущаться тучи. 24 октября возле берегов префектуры Вакаяма напоролся на рифы и затонул английский корабль «Нормантон». Английские моряки спаслись, но они не сделали ничего, чтобы спасти 12 матросов-индийцев и 25 японских пассажиров. Разразился грандиозный скандал, англичан обвиняли в расизме. Возмущение оказалось столь велико, что японское правительство обратилось с призывом подвергнуть суду капитана Джона Дрейка. Однако ввиду принципа экстерриториальности сами японцы судить его не имели права. Суд, состоявшийся 8 декабря в британском консульстве в Иокогаме, признал Дрейка виновным в преступной халатности и приговорил его к трехмесячному заключению. Приговор казался настолько мягок, что общество сочло его еще одним доказательством того, что европейцы «не уважают» японцев, несмотря на все усилия последних «понравиться».
11 декабря Нисимура Сигэки прочел первую из трех своих публичных лекций, посвященных японской морали. Совпав по времени с пиком возмущения по поводу шокирующего приговора, они произвели на публику сильное впечатление. Нисимура восстал против «бездумного» копирования западных образцов и утрате японцами национальных моральных основ, под которыми он подразумевал конфуцианство и «путь воина» (бусидо). Утрата почтительности и уважения к старшим по возрасту и положению, отсутствие чувства справедливости и смелости, бесстыдство и развращающая роскошь казались ему чертами наступающего века, того чудовищного омута, в который затягивает страну Запад. Государство становилось богаче и сильнее, но кривая преступности ползла вверх. Дух индивидуализма и соревновательности подтачивал общественные основы, обязанности уступали место правам. Рим пал из-за потери им моральных принципов. Польша подверглась разделу из-за отсутствия внутреннего единства. Задача Японии – объединить японцев с помощью вечных моральных принципов.
Министр просвещения Мори Аринори хотел ввести текст лекций в школьную программу, но Ито Хиробуми посчитал книгу вредной и обскурантистской. Тем не менее успех лекций свидетельствовал, что у «прозападного» правительства существует множество оппонентов.
Традиционалисты критиковали власти за вестернизацию, а Фукути Гэнъитиро – за верность средневековым принципам управления. С началом выхода «Правительственного вестника» он лишился государственной поддержки, и его реакция не заставила себя ждать. Теперь он обрушился на правительство, из рук которого он раньше подкармливался. В пяти номерах своей газеты «Нити-нити» он опубликовал статью «О Сацума и Тёсю». В ней он клеймил правительство за то, что оно представляло собой землячество двух феодальных кланов, которые по-средневековому не доверяли уроженцам других частей Великой Японии. Эта публикация была повторением прожитого: двадцать лет назад Фукути начал свою журналистскую карьеру с того, что осудил узурпацию власти выходцами из Сацума и Тёсю. Тогда его посадили в тюрьму, теперь он оставался на свободе. В обоих случаях его публикации нервировали элиту, но никаких реорганизаций правительства не последовало.
В этом году в стране вновь разразилась ужасная эпидемия холеры. Заболело 160 тысяч человек, из них умерло 110 тысяч. Возле домов, где были выявлены больные, стояли предупредительные таблички. Заболевших свозили в холерные бараки, трупы сжигали. За взрослого брали 80 сэн, за ребенка – почти вдвое меньше. Хождение босиком запретили. Рикши и рабочие были раздосадованы. В то время уже было известно, что источником холеры является грязная вода. Сточная вода струилась по улицам японских городов по открытым канавам.
Еще отец Мэйдзи, Комэй, использовал в подобных случаях понятие императорской добродетельности-дэ, которая ввиду своего истощения и проявилась в форме эпидемии, – правитель брал на себя ответственность за все случившееся в стране. Так, например, при принятии девиза правления Ансэй в 1854 году Комэй признал себя виновным за разгул природных стихий, за пожар во дворце и за «черные корабли». Сетования на недостаток добродетельности встречаются и в указах юного Мэйдзи. Однако теперь он стал представителем уже совсем другой философии правления. В этой парадигме император в случае стихийных бедствий оказывает помощь своим подданным, но он отнюдь не берет на себя ответственности за случившееся. Ведь если сказать, что у тебя не хватает главного для правителя качества, то это можно воспринять как знак слабости и близкой отставки. И если в самом начале правления в указе, приуроченном к интронизации (сокуи) и принятию девиза своего правления, Мэйдзи сетовал на свою малую добродетельность[179], то теперь он полностью отказался от этой фигуры речи и сознания. Японские политтехнологи хотели от императора совсем другого. И в этом отношении японская монархия несколько приблизилась к европейским образцам.
Борьба с холерой, аллегорически представленной диковинным и страшным зверем
1887 год
20-й год правления Мэйдзи
17 января императрица Харуко через газету «Тёя симбун» обратилась к японским женщинам с призывом последовать ее примеру в деле ношения европейской одежды. При этом ее аргументация оказалась чисто японской: она утверждала, что в глубокой древности, еще до изобретения кимоно, японское платье походило на европейское больше, чем нынешнее. Это была логика модернизации по-японски: хочешь нового – скажи, что подражаешь древним образцам.
Несмотря на энтузиазм Харуко в отношении европейских нарядов, говорили, что на самом деле смена платья далась ей с трудом. Свободно сидящее кимоно шьется из стандартных кусков материи и не требует примерки. Здесь же требовалась примерка, но прикасаться к императрице было запрещено. Выход все-таки нашли: портные работали с супругой премьер-министра Ито Хиробуми, которая обладала схожей комплекцией. Платья, сшитые по ее мерке, и надевала на балы императрица Харуко. Потом стали использовать манекен императрицы. С той же самой проблемой столкнулись и портные императора: им удалось снять с него мерку только один раз – когда они впервые шили для него европейский наряд. После этого Мэйдзи решительно отказывал им, несмотря на то что с возрастом он располнел. А потому, как отмечали иностранные наблюдатели, мундиры сидели на нем несколько мешковато.
Но платьями дело не кончилось. К вечерним нарядам полагались и украшения – бусы, колье, кольца, браслеты. Японские женщины к этому привычны не были. Из украшений они использовали только гребни для волос.
Конечно, европейское платье было более теплым – поскольку японцы никогда не выращивали овец, шерстяных тканей они не производили, так что в зимнее время им приходилось заворачиваться, словно куколке в кокон, в несколько слоев халатов-накидок – шелковых, хлопчатобумажных, конопляных. Но европейская одежда плотно облегает тело. По поводу неудобства сковывающей движения одежды и драгоценных аксессуаров Харуко сложила:
- В этих новых одеждах —
- Не встать мне, не сесть.
- Ах, если бы
- Камни моего ожерелья
- По полу рассыпались…
Хасимото Тиканобу. Придворные дамы за шитьем европейской одежды (1887 г.)
В центре триптиха – императрица и престолонаследник. В картушах объясняется, как правильно снимать мерку, кроить, шить и гладить.
Высший женский свет подавал пример остальным. Поскольку покупное европейское платье могли позволить себе очень немногие, власти озаботились пропагандой рукоделия. Продажа швейных машинок стремительно возрастала, открывались все новые и новые кружки кройки и шитья. Как и во многих других случаях, именно императорский двор выступал в качестве коллективного «культурного героя», приносящего из тридесятого царства новые и «передовые» обыкновения, которые подлежат затем самому широкому тиражированию в массах. Роль императорского двора в деле обучения населения была огромной.
До этого времени только консервативное Министерство двора отказывалось от найма иностранцев. И вот теперь, наконец, 29 апреля 1887 года в Японию прибыл Оттмар фон Моль. Раньше он служил при дворе Вильгельма I. Целью его двухлетнего контракта было научить японских придворных изящным порядкам, принятым в Европе. Каждое утро он проводил в компании церемониймейстера Нагасаки Митинори и переводил ему с немецкого на английский различные придворные и дипломатические установления. Нагасаки не знал немецкого языка. Его задачей был перевод с английского на японский, чтобы Мэйдзи мог ознакомиться с ними. Моль учил, как следует приветствовать друг друга, сколько ножей и вилок требуется для охотничьего завтрака, как устраивать смотр войскам, как одеваться. Он настойчиво советовал, чтобы император во время приема знатных гостей перемещался рука об руку со своей супругой.
Церемониймейстеры старались как могли и настойчиво убеждали императора, чтобы во время приема по поводу цветения хризантем он прошелся по саду вместе с Харуко. Но Мэйдзи не мог переселить своих представлений о том, как все должно происходить на самом деле. Он подскакал к воротам на коне, спешился перед садом и зашагал впереди Харуко. Не захотел он и чтобы трон его супруги был бы такой же высоты, как и его собственный. Утверждают, что под его троном даже был подложен кусок толстой материи.[180] Не послушал фон Моля и Ито Хиробуми, когда тот высказал мнение, что на приемах было бы вполне допустимо носить японские одежды. Премьер-министр ответил отказом, прибавив, что в Японии одежда – вопрос большой политики и советники не имеют здесь права голоса.
Надо сказать, что японцы совершенно не стремились к системным заимствованиям из одной страны. Они повели себя как в супермаркете, полагая что у каждой страны («фирмы-производителя») есть свой «конек». Свою промышленность и военно-морской флот Япония стала строить в соответствии с британскими образцами; Франция подала пример в устройстве полиции и образования; американский опыт пригодился при освоении Хоккайдо; студентов-медиков и придворных обучали немцы. На практике это означало, что японцы строили свою собственную цивилизацию и культуру, не считая себя обязанными никому.
Такой подход, когда заимствования производятся сразу из многих стран, был, безусловно, для Японии новым, ибо раньше единственным источником для заимствований всегда являлась для нее только одна страна – Китай. Но в то же самое время такой подход был и традиционным. В том смысле, что японцы заимствовали из Китая достаточно избирательно – только то, что считали полезным и нужным. В результате эти заимствования зачастую приобретали малоузнаваемый вид. «Слушать всех и не слушаться никого» – так можно сформулировать ту стратегию, которую проводили японцы в отношении заимствований.
Родителюбивая дочь получает подаяние от дантиста.
Из книги Нисимура Сигэки «Женщин примерное зерцало» («Фудзё кагами»)