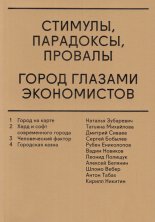Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК и БЕЛЫЙ
The Crimson Petal and the White
- О, прекрасная лилея.
- Нет тебя белее,
- Нет нежнее твоего сердечка!
- Посмотри послушным взглядом,
- Будь со мною рядом.
- Вот тебе заветное колечко.
- Ах, вы, милые голубки,
- Розовые губки
- В лепестках таких благоуханных!
- Станешь милой мне женою,
- Верною, родною,
- Малышей подаришь мне желанных.
- Что нам вздорные девчонки,
- Дерзкие юбчонки!
- Кто поймет красавицу такую!
- Парни любят поскромнее —
- Чтобы рядом с нею
- Жить, ничем на свете не рискуя.
Дж. X. Грей.
«Какие нам нужны девчонки» (ок. 1880 г.)
(Перевод Светланы Ивановой).
ЧАСТЬ 1 Улицы
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Смотрите под ноги. И не теряйте присутствия духа, оно вам еще пригодится. Город, в который я вас веду, огромен и сложен, и прежде вы в нем не бывали. Вы можете думать, что хорошо его знаете — по другим прочитанным вами книгам, — однако книги эти прислуживались вам, радушничали, принимали вас, как своего. Правда же состоит в том, что вы здесь чужой — человек из совершенно иного времени да и места тоже.
Когда я только еще попалась вам на глаза и вы решились пойти за мной, то, верно, полагали, что просто явитесь сюда и расположитесь как дома. Ну вот вы и здесь. Вам холодно, вас куда-то ведут в полном мраке, вы спотыкаетесь на ухабистой мостовой и ничего вокруг не узнаете. Поглядывая налево-направо, промаргиваясь на ледяном ветру, вы понимаете, что попали на незнакомую улицу с темными домами, полными незнакомых людей.
Да, но ведь вы меня не наобум выбирали. Я пробудила в вас определенные упования. К чему жеманиться: вы рассчитывали, что я удовлетворю все желания, кои вы стыдитесь называть настоящими их именами, или, по малости, помогу вам приятно скоротать время. А теперь вы колеблетесь, все еще держась за меня, но томясь искушением от меня отступиться. При первом знакомстве со мной вы не вполне сознавали, какая я все же большая, да и не ждали, что я вцеплюсь в вас так скоро и так основательно. Мокрая ледяная крупа сечет ваши щеки, уколы ее холодны до того, что кажутся жаркими, — как будто горячий ветер бросает вам в лицо угольки. У вас начинает пощипывать уши. Но вы уже позволили сбить вас с прямого пути и идти на попятный теперь слишком поздно.
Стоит пепельный час ночи, вокруг все исчерна-серо и едва-едва различимо — как слова на уцелевших страницах сожженной рукописи. Почти вслепую вы бредете вперед сквозь дымку выдыхаемых вами паров, вы все еще следуете за мной. Булыжники, по которым вы ступаете, мокры и грязны, холодный воздух отзывает дешевым джином и неспешно разлагающимся навозом. Где-то неподалеку раздаются приглушенные пьяные голоса, однако то, что удается вам различить, нисколько не походит на тщательно составленные вступительные речи величественной романтической драмы; и вскоре вы ловите себя на истовой надежде, что обладатели этих голосов не станут к вам приближаться.
Главные персонажи нашей истории, те, с кем вам хочется сойтись поближе, живут далеко отсюда. Они вас не ждут, для них вы — пустое место. Если вы думаете, что они повылезут из теплых постелей и проделают целые мили ради знакомства с вами, то сильно заблуждаетесь.
Вы, верно, гадаете: зачем же тогда я вас сюда притащила? Зачем откладываю на потом знакомство с людьми, встреч с которыми вы искали? Ответ прост: их слуги даже и на порог вас не пустят.
Вам недостает нужных связей, вот я и привела вас сюда, чтобы вы смогли их приобрести. Человеку, ничего ровно не значащему, предстоит познакомить вас с человеком, не значащим почти ничего, а тому человеку — с другим, и так далее, и так далее, пока, наконец, вы не сможете переступить потребный вам порог, став уже едва ли не членом живущей за ним семьи.
Потому-то вы и оказались на Черч-лейн, что в Сент-Джайлсе: именно здесь отыскала я нужного вам человека.
Впрочем, должна предупредить — та, с кем я вас сведу, принадлежит к самому дну, низшему из низших. Бедфорд-сквер и Британский музей со всей их роскошью, быть может, и раскинулись в нескольких сотнях ярдов отсюда, однако Нью-Оксфорд-стрит пролегла между этими местами и теми, точно река, слишком широкая для того, чтобы ее переплыть, а вы оказались не на том берегу. Принц Уэльский, могу вас уверить, ни разу не пожимал руки хотя бы одному из обитателей этой улицы, он даже не кивал мимоходом кому-либо из них, и даже проститутку себе здесь под покровом ночи не выбирал. Ибо при том, что шлюх на Черч-лейн проживает больше, чем почти на любой другой лондонской улице, это женщины не того разряда, какой подходит для джентльменов. В конце концов, для тонкого ценителя женщина состоит не из одного лишь тела, и потому нельзя ожидать, что он закроет глаза на нечистоту здешних постелей, холод очагов, ничтожность убранства комнат и совершенное отсутствие кебов, ждущих его на улице.
Коротко говоря, это совершенно другой мир, в котором преуспеяние есть сон об экзотической, далекой, как звезды, стране. Черч-лейн из тех улиц, на которых даже кошки худы и глядят ввалившимися от вечной голодухи глазами; из тех, на которых людей, именующих себя рабочими, никогда ни за какой работой застать не удается, а так называемые прачки редко что-либо стирают. Благотворителям никакого блага здесь сотворить не удается, их отсылают восвояси, и они уходят — с сокрушением в сердцах и дерьмом на штиблетах. Образцовый ночлежный дом для Достойных Бедняков, лет двадцать назад открытый под звуки филантропических фанфар, теперь уже перешел в руки сомнительных личностей и обветшал ужасно. Другие дома, еще более престарелые, источают, хоть в них и по два, а то и по три этажа, какой-то подземный душок, как будто их выкопали из огромной ямы, в коей догнивали ископаемые останки забытой цивилизации. Дома столетние кое-как держатся на костылях чугунных труб, их увечья и раны врачуют штукатурными припарками и перевязками из бельевых веревок, латают гнилыми досками. Здешние кровли напоминают безумную свалку, оконные стекла верхних этажей покрыты трещинами и черны, совсем как обстоящая их кирпичная кладка, а небо над ними кажется не столько эфирным, сколько литым — сводчатым потолком, подобным стеклянной крыше фабрики или вокзала железной дороги: во время оно прозрачной и яркой, а ныне затянувшейся грязью.
Впрочем, поскольку вы появились здесь под конец третьего часа морозной ноябрьской ночи, вам не до любования окрестными видами. Главная ваша забота — убраться с холода и из темноты, стать тем, кем вы надеялись стать, когда прибирали меня к рукам: своим в этих местах человеком.
Помимо блеклых газовых фонарей на дальнем углу улицы, вы никаких источников света на Черч-лейн не различаете, но это лишь потому, что глаза ваши привыкли к более ярким, нежели немощные отблески двух горящих за чумазым стеклом свечей, знакам людского бодрствования. Вы явились из мира, где тьму сметают щелчком выключателя, однако это не единственное энергетическое уравнение, какое допускается Жизнью. Возможны и соотношения куда более шаткие.
Пойдемте со мной в комнату, где горит этот немощный свет. Позвольте мне провести вас через заднюю дверь вот этого дома, по нагоняющему клаустрофобию коридору, в котором пахнет медленно обращающимся в сито ковром и нечистыми простынями. Позвольте спасти вас от холода. Дорога мне известна.
Смотрите под ноги на ступеньках, тут некоторые подгнили. Я знаю, какие, доверьтесь мне. Вы уже вон в какую даль забрели, так почему не пройти чуть дальше? Терпение — добродетель, которую ждет щедрая награда.
Разумеется, в скором времени я вас оставлю — я разве не говорила? Да, как это ни прискорбно. Но оставлю в хороших руках, в превосходных. Вот здесь, в крохотной комнатке, где горит немощный свет, вы и обретете первое из полезных знакомств.
Женщина она милая, вам понравится. А и не понравится, большой беды не будет: вы можете, едва она наставит вас на правильный путь, без лишних треволнений бросить ее. За те пять лет, что она шла по миру самостоятельно, ей ни разу не доводилось и близко подойти к тем леди и джентльменам, в кругу которых вам предстоит вращаться; она труждается, живет и вне всяких сомнений умрет на Черч-лейн, накрепко привязанной к этим трущобам.
Подобно многим простолюдинкам, и в особенности проституткам, она носит имя Каролина. Сейчас она — видите? — сидит на корточках у большой фаянсовой чаши, наполненной тепловатой смесью воды, квасцов и цинкового купороса. Орудуя странноватым подобием спринцовки, сооруженным из деревянной ложки и старого бинта, она пытается вытравить, вытянуть, словом, как-то истребить то, что лишь несколько минут назад оставил в ней мужчина, с коим вы разминулись всего на секунду. Каролина раз за разом прополаскивает эту штуку, и вода становится все грязнее — верный знак, считает она, что мужское семя кружит теперь скорее в воде, чем в ее теле. Утираясь подолом ночной сорочки, она замечает, что две свечи ее еле тлеют — одна уже обратилась в оплывший пенечек. Не зажечь ли новые?
Что ж, это зависит от того, какой теперь час ночи, а брегета или ходиков у Каролины нет. На Черч-лейн часы имеются лишь у очень немногих. И очень не многие знают, какой нынче год, — как не ведают многие и о том, что со времени, когда небезызвестного еврейского смутьяна отволокли на виселицу, прошло, предположительно, восемнадцать с половиной столетий. Это улица, где люди ложатся спать не в какой-то назначенный час, но когда джин валит их с ног или усталость не позволяет снова лезть в драку. Улица, где люди просыпаются, когда опиум, растворенный в подслащенной воде, которой они поят детишек, оказывается более не способным присмирять маленьких подлецов. Улица, где слабые заползают в кровати, едва сядет солнце, и лежат без сна, вслушиваясь в шебуршение крыс. Улица, на которой почти совсем не слышны ни колокольный звон, ни рев державных фанфар.
Часы Каролины — это грязное небо с его слабо светящейся начинкой. Слова «три часа ночи» смысла для нее не имеют, зато она в совершенстве изучила взаимные отношения луны и домов по другую сторону улицы. Подступив к окну, она недолгое время пытается различить сквозь намерзшую на стекло грязь хоть что-то, потом поворачивает шпингалет и распахивает окно. Громкий хруст наполняет ее мгновенным испугом — не треснуло ли стекло? — но это лишь хруст льда. Маленькие осколки его осыпаются вниз, на улицу.
Тот же ветер, что оледенил стекло, набрасывается на полунагое тело Каролины, норовя обратить пленку испарины на ее покрытой гусиной кожей груди в посверкивающий иней. Она собирает в кулак обтрепанный ворот просторной ночной сорочки и прижимает его к шее, чувствуя, как под нажимом предплечья твердеет сосок.
Снаружи — почти полная тьма, ближайший уличный фонарь горит в полудюжине домов отсюда. Булыжная мостовая Черч-лейн уже не белеет снегом, дождь с крупой оставили от него лишь комья да талые полосы, похожие на чудовищные выплески семени. Все остальное черно.
Вам, стоящему, затаив дыхание, у нее за спиной, наружный мир кажется запустелым, однако Каролина знает, что в нем, скорее всего, не спят и другие женщины ее пошиба, как равно и всякого рода золотари, сторожа и воры; да и здешний провизор держит свое заведение отрытым всю ночь — на случай, если кому-то понадобится настойка опия. А еще на улицах можно наткнуться на забулдыг, — заснувших, не допев песни, на ходу или умирающих от холода, — и, да, конечно, на распутников, блуждающих в поисках дешевой девки.
Каролина раздумывает — может, ей стоит одеться, укутаться в шаль и пойти попытать счастья на ближних улицах. У нее туговато с деньгами, большую часть дня она проспала, а после отвергла охотливого клиента — не понравилось его обличие, подозрительное в рассуждении сифилиса, — и теперь она жалеет об этом. Могла бы уж и понять — дожидаться, когда к тебе заявится мужчина безупречный во всех отношениях, дело пустое.
Однако, если она выйдет сейчас из дома, ей придется зажечь две свежих свечи, а они у Каролины последние. Да и погода уж больно мерзка: так вот покувыркаешься в постели, распаришься, а после выскочишь на холод и пиши пропало, — студент-медик сказал ей однажды, натягивая штаны, что это верный способ подхватить пневмонию. А к пневмонии Каролина относится с немалым почтением, хоть и путает ее с холерой и полагает, что, если принять побольше джина с бромидом, то ничего, обойдется.
Бояться Джека Потрошителя ей не приходится, его еще четырнадцать лет дожидаться, а к тому времени, как он объявится, Каролина уже умрет от причин более-менее натуральных. Опять же, и Сент-Джайлс будет ему неинтересен. Я уже говорила, кажется, что под самый конец я вас с ним познакомлю.
Особенно гнусный порыв ветра заставляет ее захлопнуть окно, вновь закупорив себя в похожей на ящик комнатенке, которой Каролина не владеет и которую, сказать по правде, даже не снимает. Выглядеть ленивой шлюшкой ей нисколько не хочется, поэтому она что есть сил старается вообразить, как прогуливается, состроив загадочное лицо, по окрестным улочкам, как вполне приемлемый клиент, выступив из темноты, говорит ей: красавица. Нет, не выходит.
Каролина прихватывает в ладони плотные пряди волос, протирает ими лицо. Волосы у нее до того густые и темные, что, говорят, будто и грубейшие из мужланов не могли на них налюбоваться. Они шелковисты и приятно согревают ей щеки и веки. Но, отведя их от лица, Каролина обнаруживает, что одна свеча уже потонула в лужице сала, между тем как другая еще усиливается сохранять свой пламенный венчик. Ничего не попишешь, приходится признать, что день закончился, а с ним и ее дневные прибытки.
В углу пустой почти во всех иных отношениях комнаты стоит продавленная кровать, вся в складках, полурастерзанная, будто забинтованная конечность, которой по неразумию воспользовались для исполнения грубой и грязной работы. Пришло, наконец, время использовать эту кровать и для сна. Каролина осторожно, стараясь не продрать каблуками заляпанную слизью простынку, забирается под одеяла. Высокие башмачки она стянет после, когда согреется и смирится с мыслью о том, что надо бы расстегнуть кнопки, тянущиеся вдоль каждого длинной цепочкой.
Последняя свечка гаснет прежде, чем Каролина успевает склониться над ней и задуть, и женщина откидывает голову на пропахшую джином и чужим потом подушку.
Можете больше не прятаться. Устраивайтесь поудобнее, все равно в комнате стоит кромешная тьма — и будет стоять, пока не взойдет солнце. Можете даже рискнуть, если желаете, и прилечь рядом с Каролиной, потому что, заснув, она спит, как мертвая, и вас не заметит — вы только постарайтесь не касаться ее.
Да, все верно. Она уже спит. Приподымите краешек одеяла, устройтесь под ним. Даже если вы женщина, не важно — в эти дни и в этот век женщинам часто случается спать в одной постели. Если же вы мужчина, не важно тем более — до вас под этими одеялами их перебывали сотни.
А вот перед самым рассветом — Каролина будет еще спать рядом с вами, а в комнате, вне одеял, установятся едва ли не заморозки, вам лучше бы выбраться из постели.
Нет, я понимаю, у вас впереди долгий, тяжелый путь, однако Каролина того и гляди проснется — резко, испуганно — и в этот миг с ней рядом лучше не лежать.
Воспользуйтесь этой минутой, чтобы запечатлеть в памяти комнату: ее ничтожные размеры, покоробившийся от сырости пол и почерневший от чада свечей потолок, стоящий в ней запах воска, мужского семени и прогорклого пота. Постарайтесь запомнить ее получше, а то ведь забудете, едва перебравшись в другие, лучшие комнаты, где пахнет сухими цветами, жареным барашком и дымом сигар, в просторные покои с высокими потолками, такие же нарядные, как узоры их стенных обоев. Вслушайтесь в суетливую возню под плинтусами, в тихое, даже смешное немного поскуливание спящей Каролины…
Чудовищный скрежет, удар какой-то железной и деревянной громады о камень пробуждает ее от сна. В ужасе выскакивает она из постели, бия, точно крылами, простынями по воздуху. Скрежет длится еще пару секунд, а после сменяется шумом, менее страшным, смесью лошадиного ржания и человеческой брани.
Каролина уже стоит у окна, как и каждый почти обитатель Черч-лейн. Встревоженная, недоумевающая, вглядывается она в сумрак, пытаясь понять, что за беда такая стряслась и где. Не у ее порога, нет — дальше по улице, почти у освещенного фонарным светом уличного угла лежат останки экипажа, хэнсома, они еще содрогаются и осыпаются, пока извозчик обрезает постромки ошалевшей от ужаса лошади.
Расстояние и мрак мешают Каролине различить подробности. Ей и хотелось бы подальше высунуться из окна, но порывы ледяного ветра загоняют ее обратно в комнату. Она начинает наощупь отыскивать одежду — под разбросанными простынями, под кроватью, во всех тех местах, в какие мог забросить их ударом ноги последний гость. (На самом-то деле, ей необходимы очки. Да только очков у нее отродясь не бывало. Время от времени, они появляются на барахолках, и Каролина их примеряет, однако, хоть они ей и по карману, пригодных для ее глаз найти пока что не удалось.)
Когда она, закутавшаяся в плед и уже совершенно проснувшаяся, возвращается к окну, события успевают продвинуться на удивление далеко. Вокруг руин экипажа во множестве толкутся полисмены с зажженными фонарями. В крытую повозку забрасывают какой-то большой мешок, а, возможно, и тело. Извозчик, отклоняя приглашения забраться туда же, обходит кругами свой дыбом стоящий экипаж, дергая его за одно, за другое, словно в попытках понять, что еще может от него отвалиться. Лошадь, уже успокоившаяся, стоит за двумя впряженными в полицейскую повозку кобылами, принюхиваясь к их подхвостьям.
Проходит еще несколько минут и, пока над Сент-Джайлсом поднимается блеклое солнце, все завершается. Живой возница и мертвый пассажир, погромыхивая, отъезжают от потерпевшего крушение экипажа. Разбитые в щепу колесные спицы и осколки стекла в окошках кеба стынут в воздухе, как изваяния.
Взглянув по-над плечом Каролины, вы можете счесть, что смотреть больше не на что, однако она остается стоять у окна, точно загипнотизированная, — локти уперты в подоконник, плечи не пошевелятся. На руину она больше не смотрит, взгляд ее приковали фронтоны по другую сторону улицы.
В их окнах виднеются лица. Лица безмолвных детей, стоящих по одному или группками, похожих на лежалые сладости в витрине давно закрытой лавки. Дети вглядываются в экипаж, ожидая чего-то. А после, все разом, словно у них условлено было, сколько секунд должно пройти после того, как извозчик скроется за углом, белые лица исчезают из виду.
Внизу, на улице, распахивается дверь и из нее крысиной пробежкой выскакивают два пострела. Один облачен всего лишь в отцовские башмаки, драные короткие штаны и шаль, другой бос, на нем ночная рубашка и пальтецо. Руки и ноги обоих буры и крепки, точно песьи лапы, детские еще лица обезображены дурным обхождением.
Их влечет к себе остов и оболочка кеба, и оба сорванца, подлетев к нему без каких-либо стеснительных оглядок, с ребяческим энтузиазмом набрасываются на покалеченный экипаж. Малые руки их выдирают из треснувшего колеса спицы и принимаются орудовать ими, как ломиками и стамесками. Металлические окантовки и деревянные планки, треща, подаются и выламываются; на фонари и дверные шишаки сыплется град ударов, их выкручивают и тянут.
Из прочих грязных подъездов высыпают все новые дети, им тоже нужна своя доля. Те, у кого есть рукава, закатывают их, прочие берутся за дело без промедления. Руки их сильны, брови насуплены, но всем им не больше лет восьми-девяти; да, конечно, каждый из жителей Черч-лейн теперь уже на ногах, однако время на то, чтобы обдирать экипаж, имеется лишь у этих малых детей. Все остальные либо пьяны, либо заняты приготовлениями к долгой дневной работе — и долгому походу в места, где ее можно найти.
Вскоре кеб уже облеплен Недостойными Бедняками и каждый норовит урвать что-либо ценное. А ценно в хэнсоме практически все, поскольку сооружали его для представителей касты, стоящей в обществе намного выше этих детей. Корпус кеба изготовлен из таких редкостных материалов, как железо, медь, доброе сухое дерево, кожа, стекло, фетр, проволока и веревки. Даже набивку сидений можно пустить на подушки, значительно превосходящие качеством многажды сложенный картофельный мешок. Не произнося ни слова, каждое дитя — в зависимости оттого, каким орудием и обувкой оно располагает, — долбит и молотит, дергает и бьет, и сухое эхо летит по резкому воздуху, и остов хэнсома подрагивает на булыжной мостовой.
Дети знают — времени у них мало, выясняется, впрочем, что его даже меньше, чем они полагали. После первого их нападения на обломки проходит едва ли больше пятнадцати минут, а из-за угла уже выворачивает и с грохотом катит по улице двуконная подвода пивовара. Весь ее груз — это извозчик и троица его весьма мускулистых приятелей.
Большая часть детей немедля разбегается по домам, унося охапки щепы и обломков, самые же дерзкие медлят еще пару секунд, пока гневные крики «Пшли!» и «Ворюги!» не вынуждают и их броситься врассыпную. Ко времени, когда подвода достигает места крушения, Черч-лейн пустеет снова, фронтоны домов ее снова глядят непорочно и хмуро, окна снова наполняются лицами.
Четверо мужчин соскакивают на мостовую и медленно обходят кеб, кто по часовой стрелке, кто против, разминая толстые руки, поводя мясистыми плечами. Затем они по сигналу извозчика берутся за четыре угла экипажа и одним рывком, покрякивая, грузят его на подводу. Кеб встает более-менее прямо, два его колеса уже обратились в добычу мародеров.
На сбор мелких обломков эти люди времени не тратят. Лошади, получив удар кнутом, всхрапывают, испускают клуб пара и трогают, трое подсобников извозчика запрыгивают на подводу и ухватываются устойчивости ради за искалеченный кеб; да и сам извозчик, помедливший лишь для того, чтобы погрозить кулаком глядящим из окон стервятникам и крикнуть: «Это была вся моя жизнь!», тоже влезает на подводу, и она уезжает.
Мелодраматический жест извозчика ни на кого впечатления не производит. На взгляд обитателей Черч-лейн, ему еще повезло — остался цел, ну и скажи спасибо. Ибо, когда подвода, громыхая, отправляется в путь, между булыжниками обнаруживаются смахивающие на багровый вьюнок потеки темной крови.
Оттуда, где вы стоите, не составляет труда различить дрожь омерзения, пробегающую между лопатками Каролины: она боится крови, да и всегда боялась. На миг начинает казаться, что она сейчас отойдет от окна, но Каролина лишь распрямляется, резко встряхивается, сгоняя гусиную кожу, и снова облокачивается о подоконник.
Подвода скрылась из виду, двери домов распахиваются одна за другой, на улице появляются люди. На сей раз не дети, а взрослые — то есть те обладатели заскорузлых душ, коим уже исполнилось десять. Одни, располагающие возможностью потратить секунду-другую, — расклейщик афиш, уличный метельщик, продавец бумажных мельниц — останавливаются, глазея на кровь, другие торопливо проходят мимо, обертывая тощие шеи шалями или шарфами, доглатывая последние корки завтрака. Для тех, кто трудится на фабриках и в торгующих дешевой одеждой лавчонках, опоздание равносильно мгновенному увольнению; да и тем, кто ищет на день работу «временную», не улыбается, потратив это самое время попусту и явившись на биржу труда, обнаружить, что пятьдесят человек из очереди уже остались ни с чем, а работу получили те, кто порасторопнее.
Каролина снова вздрагивает, на этот раз от давних воспоминаний. Ибо и она была когда-то одной из таких рабов и рабынь, что ни утро спешивших в сереньких сумерках и плакавших от усталости каждую ночь. Даже и ныне — время от времени, когда она выпивает лишнего и проваливается в слишком глубокий сон, — бессмысленные ошметки прежней привычки пробуждают ее к часу, в который должно бежать на фабрику. Переполошившись, едва сознавая себя самою, она, совершенно как прежде, выбрасывает тело из постели на голый пол. И лишь доковыляв до стула, с которого полагается свисать наготове ее ситцевому рабочему халату, и халата не обнаружив, Каролина вспоминает, кем стала, и ковыляет назад к теплу постели.
Впрочем, сегодняшний несчастный случай пробудил ее настолько, что попытки поспать еще немного утратили всякий смысл. Можно будет попытаться сделать это после полудня, — собственно, попытаться необходимо, иначе она рискует заснуть ночью бок о бок с каким-нибудь храпящим идиотом. Простой перепих это одно, но позволь мужику хоть раз отоспаться рядом с тобой, и он решит, что вправе притащить к тебе свою собаку и своих голубей.
Делай то, делай это. Высыпайся как следует, не забывай расчесывать волосы, подмываться после каждого мужчины: все это обыкновения, коими ей теперь пренебрегать не след. В сравнении с бременем, которое Каролина разделяла когда-то с товарками по фабрике, они не столь уж и тягостны. Ну а работа, что ж… она хотя бы не так грязна, как фабричная, не так опасна, не так заунывна. Ценой своей бессмертной души Каролина получила право валяться будними утрами в постели и вылезать из нее по собственному, черт вас всех подери, почину.
Она стоит у окна, наблюдая, как Нелли Гриффитс и старая миссис Малвени трусят по улице, направляясь на производящую джем фабрику. Несчастные, неказистые курицы: они проводят дневные часы в палящем чаду, почти ничего за это не получая, а после возвращаются домой, и пьяные мужья мордуют их, гоняя от стенки к стенке. Если это и означает быть «честной» женщиной, а Каролина, предположительно, женщина «падшая»…! Да для чего же Господь и проделал в бабе лишнюю дырку, как не для того, чтобы избавить ее от ишачьей работы?
Существует, впрочем, одно незначительное обстоятельство, заставляющее Каролину отчасти завидовать этим женщинам, ощущать легкую ностальгическую боль. У Нелли и у миссис Малвени есть дети — и у Каролины был когда-то ребенок, она лишилась его, а рожать другого теперь никогда уж не станет. И не то, чтобы дитя ее было внебрачным щенком, нет, его зачали в счастливом супружестве, в прекрасной деревушке Северного Йоркшира — впрочем, ни того, ни другой в нынешнем ее мире больше не существует. И возможно, искалеченное нутро Каролины уже не способно породить на свет новое дитя, и вся ее возня с квасцами и купоросом так же бессмысленна, как молитва.
Сейчас ее сыну, если б он выжил, было бы восемь лет, а он, глядишь, и выжил бы, останься Каролина в деревне Грассиштон. Однако она, рано овдовевшая, предпочла уехать с сыном в Лондон, потому что в соседнем городке Скиптоне работы для мало чему обученной женщины не находилось, а необходимость жить на подачки свекрови представлялась ей невыносимой.
Вот потому Каролина с сыном и сели в поезд, и покатили навстречу новой жизни — билеты она приобрела не до Лидса или Манчестера, ибо имела причины полагать, что города эти дурны и опасны, но до столицы всего цивилизованного мира. К провинциальной шляпке Каролины были приколоты снутри восемь фунтов — сумма очень не малая, достаточная для оплаты крова и пропитания на протяжении нескольких месяцев. Мысль об этом могла бы и утешать ее, но вместо того Каролина на всем пути до Лондона терзалась головной болью, — такой, точно тяжесть этих банкнот грозила того и гляди переломить ей шею. Ее изводила потребность потратить свое состояние сию же минуту — лишь бы избавиться от страха его потерять.
По приезде в столицу, всего через несколько дней, ей помогли разрешить это затруднение. Известная фирма, пошив готового платья, столь высоко оценила достойные качества Каролины, что подрядила ее шить на дому жилеты и панталоны. Фирма готова была предоставлять ей все потребные материалы, однако требовала пять фунтов залога. Когда Каролина насмелилась высказать мнение, что пять фунтов — сумма слишком большая, мужчина, нанимавший ее, с ней согласился, заверив Каролину, что не сам он таковую назначил. Не приходится сомневаться, что управляющий фирмы разочаровался в поведении бесчестных людей, коих нанимал во времена более снисходительные: многие ярды наилучшего качества ткани уворовывались и всплывали на барахолках лишь для того, чтобы затем обратиться в лохмотья на телах уличных шкодников. Не согласится ли Каролина с тем, что такая картина способна отрезвить всякого делового человека, сколь бы щедр и доверчив он по природе своей ни был?
Что ж, Каролина с тем согласилась — тогда; она была женщиной добропорядочной, сын ее на шкодника нисколько не походил, да и сама Каролина почитала себя обитательницей того самого мира, каковой норовил уберечь от беды ее наниматель. И потому она рассталась с пятью фунтами и вступила на стезю изготовительницы жилетов и панталон.
Работа оказалась довольно легкой и (как представлялось Каролине) прилично оплачиваемой; за несколько недель она зарабатывала шесть шиллингов, а то и больше, из коих, впрочем, вычиталась стоимость хлопковой ткани, угля для утюга и свечей. На свечах Каролина не выгадывала, ей не хотелось обратиться в подслеповатую портниху, которая, сидя в сумерках у окна, щурится, вглядываясь в свою работу; она жалела швей, панегириком коим стала «Песня о рубашке»,[1] — примерно так же, как благополучный лавочник может жалеть оборванного уличного торговца. Более чем сознавая, сколь низко пала она в этом мире, недовольной своей жизнью Каролина не была — еды и ей, и ее мальчику хватало, жилье их на Читти-стрит было опрятным и чистым, а будучи женщиной безмужней, Каролина имела возможность расходовать свои средства с разумной осмотрительностью.
Затем настала зима и ребенок, разумеется, заболел. Выхаживая его, она теряла бесценное время, в частности, светлые часы, и когда сын пошел, наконец, на поправку, у Каролины уже не осталось выбора, ей пришлось прибегнуть к его помощи.
— Ты должен стать моим большим, храбрым мужчиной, — сказала она сыну, покраснев, глядя в сторону, — на единственную свечу, освещавшую их сумрачные труды. Ни одно предложение из тех, что ей приходилось делать в последующие годы, не было постыднее этого.
Так мать и сын стали компаньонами. Прислонясь к ногам Каролины, ребенок складывал и проглаживал сшитую ею одежду. Она пыталась обратить это в игру, побуждая сына воображать длинную очередь голых, дрожащих в ожидании своих штанов джентльменов. Однако с работой она запаздывала все пуще, а мальчик ее все чаще задремывал и падал носом вперед и, чтобы он не обжегся об утюг (или не прожег ткань), ей пришлось булавкой прикалывать к своему подолу спинку его рубашки.
Горестное соратничество их продлилось недолго. Дюжины жилетов еще ожидали своей очереди, а рывки, испытываемые ее подолом, участились настолько, что стало ясно — мальчик не просто устал: он умирает.
И Каролина пошла к нанимателю, чтобы забрать свой залог. Вышла она от него с двумя фунтами, тремя шиллингами и тошнотворным, бессильным гневом, не покидавшим ее целый месяц.
Денег этих хватило на срок чуть более долгий, и когда здоровье ребенка удалось с помощью врача отчасти подправить, Каролина отыскала работу в потогонной шляпной мастерской — она там натягивала квадратики ткани на пыхавшие паром железные болванки. Целыми днями Каролина отправляла темные, поблескивающие, обжигающе горячие шляпы дальше по веренице женщин, словно передавая тарелки с едой в немыслимо пропаренной кухне. А ребенок (простите мне эту безликость: Каролина имени его больше не произносит) проводил те дни запертым в их убогом новом жилище — с раскрашенным мячиком и бристольскими игрушками, томясь от болезни и горестного безотцовства. Он вечно капризничал, нюнил по пустякам, словно подстрекая ее к вспышкам гнева.
А затем, в одну из ночей под конец зимы, мальчик раскашлялся и засипел, точно помешавшийся кутенок-терьер. Ночь эта была подобна той, какую переживаем сейчас мы с вами — холодной и слякотной. Опасаясь, что ни один доктор не согласится — в такой час и в такую погоду — пойти с ней без всякой платы в ее жилище, Каролина составила план. О да, ей доводилось слышать о добрых, преданных своему призванию докторах, готовых отправляться в трущобы, дабы сразиться там с их древним врагом — Недугом, однако за все проведенное ею в Лондоне время ни разу, сколько ей помнилось, такого не встретила и потому решила, что для начала правильней будет пойти на обман. Каролина облачилась в лучший свой наряд (с лифом, пошитым из украденного с фабрики фетра) и вывела сына на улицу.
План ее был таков: обмануть жившего к ней ближе прочих врача, уверив его, что в Лондоне она совсем недавно, семейным доктором покамест не обзавелась, вечер этот провела на театре и, лишь вернувшись домой и обнаружив там впавшую в отчаяние няньку сына, узнала, что он заболел, после чего остановила первый попавшийся кеб, — что же до оплаты услуг доктора, то дело за ней не станет.
— А доктор нас не прогонит? — спросил сын, попав, как всегда, в самую точку, в средоточие наихудших ее опасений.
— Шевели ногами, — вот все, что смогла ответить Каролина.
Ко времени, когда они отыскали дом с горевшим на фронтоне овальным фонарем, мальчик сипел уже так, что Каролина наполовину обезумела и руки ее тряслись от желания пронзить его маленькое горло, чтобы бедняжка мог подышать хоть немного. Вместо этого она позвякала дверным колокольчиком доктора.
Спустя минуту-другую на пороге возник мужчина в ночной сорочке, ничем не похожий ни на одного из знакомых Каролине докторов, да и пахнувший вовсе не так, как они.
— Сэр, — сказала она, изо всех сил стараясь изгнать из голоса страх и провинциальную картавость. — Моему сыну нужен врач.
С мгновение он оглядывал ее с головы до ног — давно вышедший из моды одноцветный наряд, пленку изморози на щеках и грязь на башмачках. Потом знаком предложил войти в дом, улыбнулся и, положив широкую ладонь на плечо мальчика, сказал:
— Подумать только, какое счастливое совпадение, — а мне как раз нужна женщина.
Пять лет спустя Каролина, сонно переходя свою спальню, больно ударяется пальцами босой ступни о большой фаянсовый таз, и это пробуждает в ней желание привести спальню в порядок. Она аккуратно переливает уже начавший подкисать противозачаточный настой в ночной горшок, глядя, как зачатки потомства еще одного мужика смешиваются с мочой. Взгромоздив наполнившийся горшок на подоконник, распахивает окно. На сей раз хруста ледяной корки не слышно, да и воздух тих и спокоен. Каролине хочется просто выплеснуть жижу, однако в последнее время по здешним местам шастает санитарный инспектор, напоминая всем и всякому, что нынче у нас девятнадцатый век, не восемнадцатый, и грозя выселением. Черч-лейн кишит ирландскими католиками, — злопамятные сплетники, все до единого, — и Каролина вовсе не желает, чтобы они обвинили ее, помимо всего прочего, еще и в пособничестве холере.
И потому она медленно наклоняет горшок от себя, и жижа сдержанной струйкой стекает по кирпичной кладке. Какое-то время дом будет выглядеть так, точно на него облегчился сам Господь, однако, прежде чем соседи проснутся, следы содеянного Каролиной так или иначе исчезнут — их либо высушит солнце, либо запорошит снег.
Теперь Каролину донимает голод — да такой, что у нее даже живот сводит, даром что обычно она поднимается много, много позже. Она замечала это и раньше: если просыпаешься слишком рано, помираешь от голода, а если попозже, то ничего, хотя по прошествии какого-то времени голод одолевает тебя опять. Наверное, пока ты спишь, потребности и желания приходят и уходят, требуя под дверьми сознания немедленного удовлетворения, а затем на время пропадают и вовсе. Глубокий мыслитель, так называл ее муж. Впрочем, чрезмерная образованность принесла бы Каролине больше вреда, чем пользы.
В животе ее что-то повизгивает на поросячий манер. Она усмехается и решает подивить Эппи ранним визитом в «Матушкино объяденье». Украсить улыбкой его корявую физиономию и ублажить пирогом свой живот.
В холодном свете дня одежда, которую она торопливо набросила, чтобы взглянуть на потерпевший крушение кеб, никакой критики не выдержит. Грубые руки измяли ткань, грязные башмаки оттоптали подол, на него даже попали капли крови с покрытых струпьями голеней старого красильщика Лео. Каролина сбрасывает этот наряд и одевается заново, для начала достав из гардероба просторное синее в серую полосу платье с тесным черным лифом.
Одевание дается Каролине легче, чем большинству женщин, с которыми вы еще познакомитесь в нашей истории. Она перекроила все свои наряды — не так чтобы сильно, но хитроумно. Застежки перенесены вопреки моде туда, куда могут дотянуться ее руки, а каждая оборка укрывает лежащую под нею другую оборочку, куда более скромную. (Вот видите? — в конечном счете, навыки швеи ей пригодились!)
Лицу и волосам Каролина уделяет внимание чуть меньшее, оглядывая их в маленьком ручном зеркале, висящем ручкой кверху на стене. Для своих двадцати девяти выглядит она совсем неплохо. Несколько бледных шрамиков на лбу и подбородке. Один почерневший зуб, впрочем, он не болит, так лучше его и не трогать. Чуть красноватые, но большие, полные сострадания глаза — совсем такие, как у собаки, которой достался дурной хозяин. Славные губы. Брови не хуже, чем у прочих. И, разумеется, копна роскошных волос. Проволочной щеткой Каролина расчесывает челку, взбивает ее, подравнивая ладонью над самыми глазами. Слишком нетерпеливая и голодная, чтобы причесываться и дальше, она собирает волосы на макушке в узел, закалывает булавкой и накрывает индиговой шляпкой. Потом припудривается и румянится — не для того, чтобы прикрыть старую, некрасивую или нечистую кожу, этого у нее ничего пока нет, но чтобы приукрасить рожденную бессолнечным существованием бледность — да и то скорее для себя, чем для клиентов.
Расправив шаль и разгладив перед платья, она обретает сходство с благочинной, обеспеченной женщиной, сходство, добиться коего, пока она батрачила в пару шляпной фабрики, изнывая от своей добродетельности, ей не удавалось ни разу. Конечно, настоящая леди вряд ли смогла бы пристегнуть подвязки за срок, меньший пяти минут, не говоря уж о том, чтобы полностью одеться без помощи горничной. Каролина прекрасно сознает, что она — лишь дешевая имитация, однако считает эту имитацию достаточно яркой, особенно если учесть сколь малых усилий требует ее создание. И Каролина выскальзывает из комнаты, подобная красивой бабочке, что выпрастывается из плевы подсохшей слизи. Последуйте за ней, но будьте осмотрительны. Впрочем, в какое-либо уж очень интересное место она вас пока не приведет: потерпите еще немного.
На площадке и лестнице догорели последние ночные свечи. Новые зажгут ближе к вечеру, когда девушки станут приводить к себе гостей, поэтому хорошо разглядеть сходящую по ступенькам Каролину вам не удастся. На площадку падает из ее комнаты, дверь которой Каролина оставила открытой, чтобы поровну разделить ее запахи с домом, солнечный лучик, а вот на самой лестнице, завивающейся штопором в безоконном колодце, стоит удушливый мрак. Каролине порою кажется, что эта клаустрофобическая спираль ничем, на самом-то деле, не отличается от каминной трубы. Быть может, когда-нибудь самые нижние ступеньки ее воспламенятся, пока Каролина будет спускаться по лестнице, и колодец всосет в себя пламя, подобно каминной трубе, оставив весь дом нетронутым, и Каролина пробьет заодно со спиралью темных ступенек крышу, обратившись в стремительный ток головешек и дыма! Счастливое избавление, мог бы сказать кто-нибудь.
Первое, что видит Каролина, выступив в свет прихожей, это кресло на колесах, в котором восседает полковник Лик. Устроился он вплотную к лестнице, лицом к входной двери и спиной к Каролине, и потому у нее возникает надежда, что этим утром он, в кои-то веки, спит.
— Думаешь, я сплю, а, девчонка? — немедля ухмыляется он.
— Нет, что вы, — со смешком отвечает она, хоть для лицемерных уверений в образцовости своего поведения час стоит еще слишком ранний. Каролина протискивается мимо полковника и на мгновение приостанавливается, чтобы он смог осмотреть ее, — дабы не показаться ему грубой, ибо обид полковник не прощает никогда.
Полковник Лик приходится владелице дома дядюшкой и сильно напоминает пузатую печку, обернутую для сбережения тепла в несколько пальто, шарфов и одеял, питаемую слухами и пышущую дымом через кургузую трубочку. Под всеми этими оболочками полковник Лик все еще носит военный мундир с орденами, хоть поверх оных и нашит, дабы оградить их от покражи, носовой платок. Во время последней из войн, в коих участвовал полковник, он получил — в обмен на приятную возможность расстреливать в упор мятежных индийцев — пулю в хребет, и с тех пор заботы о полковнике взяла на себя племянница, обратившая его, когда она стала сдавать пустующие комнаты принадлежащего ей дома проституткам, в своего «сборщика податей».
Работу эту он исполняет с безжалостной распорядительностью, однако подлинной его страстью остается война и иные пароксизмы насилия и бедствий. При чтении ежедневной газеты полковник на радостные события и достохвальные достижения никакого внимания не обращает, зато, наткнувшись на описание какого-либо несчастья, впадает в бесчинный восторг. Нередко случается, что Каролине, занимающейся у себя в комнате нелегким своим ремеслом, приходится стенать в ухо клиента погромче, дабы заглушить долетающие снизу громогласные, хриплые цитации, наподобие:
— «Шесть тысяч татар наводнили Амурскую область, пятнадцать лет назад отвоеванную у Китая!»
Теперь полковник наставляет на нее налитые кровью глаза и многозначительно шепчет:
— Кое-кто из нас беды не проспит. Кое-кто понимает, что происходит.
— Это вы об утреннем кебе? — догадывается Каролина, давно уже свыкшаяся с направлением полковничьих мыслей.
— Я видел, — плотоядно ухмыляется он, норовя отлепить от кресла вечно гноящуюся спину. — Смерть и порча.
И снова отваливается на подушки:
— Но это только начало. Малая часть того, что на нас надвигается. Местное проявление. А ведь оно повсюду! Повсюду! Бедствие!
— Я, пожалуй, пойду, полковник. С ног валюсь от голода.
Старик упирается взглядом в свои устланные одеялами колени — так, точно на них лежит газета, — и, подняв на манер перископа указательный палец, наизусть повторяет:
— Кошмарное крушение поезда в Бишопс-Итчингтоне. Пороховой взрыв на Риджентс-канале. В Бискайском заливе затонул пароход. «Коспатрик» гибнет в огне на полпути к Новой Зеландии, четыреста шестьдесят жертв, и все это лишь за несколько последних дней. Вдумайся! Это знаки. Пучина бедствий. А в самой середке ее — что там, а? Что там?
Каролина на пару секунд задумывается, однако никаких идей относительно того, что там, в голове ее не рождается. Только она одна из трех женщин, снискавших у миссис Лик жилье и рабочее место, и питает к старику странную привязанность, недостаточную, впрочем, чтобы предпочесть обильный завтрак его безумным пророчествам.
— До свидания, полковник, — произносит она, открывая дверь, выскакивая на улицу и захлопывая дверь за собой.
А теперь приготовьтесь. Вам недолго остается составлять Каролине компанию, скоро она сведет вас с особой, имеющей несколько более радужные виды на будущее. Посмотрите, как раздается ее лиф, когда она вдыхает полной грудью воздух нового дня. Помедлите, пока она намечает безопасный путь по Черч-лейн, пока уясняет, где гуще всего залегает навоз. А после ступайте за ней к Артур-стрит (только смотрите под ноги), поскорей миновав грязь и сор, оставленные кебом: сначала кровь, потом клочья набивки сидений и щепу от колес. Возможно, они так и тянутся до самой таверны «Матушкино объяденье», где уже с ранней зари подают горячие пироги и где никто не спросит у вас, знали ли вы покойницу.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Вдоль лощеных тротуаров Грик-стрит уже выстроились наготове лавочники — накатывает вторая волна ранних покупателей. Сами-то покупатели, разумеется, полагают ее первой. Сумрачная процессия швей и мастеровых, которую Каролина видела из своего окна, хоть и протащилась всего в нескольких сотнях ярдов отсюда и лишь менее часа назад, вполне могла принадлежать другой стране и другому веку. Цивилизация начинается здесь, на Грик-стрит. Добро пожаловать в настоящий мир.
Подниматься с утра пораньше, как это делают лавочники, значит, по их рассуждению, проявлять стоический героизм, недоступный пониманию более празднолюбивых смертных. Любое существо, шустро пробегающее по улице раньше них, это наверняка кто-то из тех грызунов либо насекомых, которых, увы, не берут ни крысоловки, ни отрава.
Нет, они не жестоки, эти работящие люди. Сердца многих из них куда мягче, нежели у тех благородных исполнителей первых ролей, с коими вам так неймется сойтись. Просто лавочникам Грик-стрит нет никакого дела до призрачных созданий, которые, собственно, и производят продаваемые в их лавках товары. Мир перерос состояние чудаковатой деревенской близости всех и вся; теперь у нас век современный: ты заказываешь пятьдесят брикетов дегтярного мыла, и через несколько дней приезжает тележка с твоим заказом. В теперешнем мире все, рожденное от чресел благожелательного монстра, именуемого мануфактурой, поступает к тебе в готовом к употреблению виде; нескончаемый поток вещей — сортового качества, до идеального одинаковых — истекает из лона, укрытого завесами дыма.
Вы можете сказать, что облака сажи, извергаемой фабричными трубами Хаммерсмита и Ламбета, марают город, сдержанно напоминая ему, как, на самом-то деле, выглядит рог изобилия. Однако сдержанность в число характерных черт современного человека не входит, а нечистым воздухом дышать все-таки можно; единственное сопряженное с ним неудобство — это пленка копоти, оседающей на магазинные витрины.
Но что пользы, вздыхают лавочники, томиться тоской по былым временам? Настал век машин, миру никогда больше не видать чистоты, зато посмотрите, что мы получили взамен!
Они уже облились потом, единственным их потом за день, потратив немалые труды на то, чтобы отворить лавки. Губками, пропитанными теплой водой, они стерли чумазую изморозь с витрин, жесткими метлами сплавили талый снег в канавы. Привставая на цыпочки и напрягая руки, они открывали ставни, снимали деревянные рамы, сдвигали железные засовы и вытаскивали штыри, сберегшие их товар еще на одну ночь. И пока каждая лавка сбрасывала свой замысловатый железный наряд, по всей улице погромыхивали в замках ключи.
Теперь эти люди спешат, — а ну как появится человек со средствами, появится и предпочтет лавку открытую открытой лишь наполовину. Пешеходов пока не густо, и в этот утренний час среди них попадаются люди престранные, однако забрести на Грик-стрит может кто угодно, а предугадать, пожелает ли тот или иной человек расстаться с деньгами, решительно невозможно.
Глазам Каролины, направляющейся к «Матушкину объяденью», открывается возникшая вследствие этого суматоха, открывается на неподобающий манер — лавочники, настежь распахнув двери своих цитаделей, занялись теперь подбором наиболее обольстительного товара, который они собираются отправить на панель, к дверям лавок. Все выглядит так, точно они, снявшие с витрин и дверей пояса целомудрия, не видят более смысла сохранять даже остатки благопристойности. Лотки с книгами преграждают Каролине путь, некоторые из томов развратно разверзнуты и являют досужим взорам свои цветные картинки. Соломой набитые манекены тянут к ней стежками зашитые руки, умоляя Каролину купить облекающие их одежды. С витрин без всякого предупреждения сдираются плотные занавеси.
«С добрым утром, мадам!» — окликает спешащую мимо Каролину далеко не один мужчина. Всем им понятно, что она не леди, — это следует хотя бы из того, что в столь ранний час она уже на ногах, — но ведь их тоже джентльменами от бизнеса не назовешь, а обливать презрением покупательницу вредно для кармана. Отчетливо понимающие, сколько ведущих вверх ступеней отделяет их от владельцев грандиозных магазинов Риджент-стрит — это уж вам не лавочники, — они с такой же радостью продали бы свои булочки, блузки, башмачки и брошюры потаскухе, с какой и любому другому прохожему.
И то сказать, между Каролиной и лавочниками, ее зазывающими, имеется изрядное сходство: большая часть того, что они норовят продать, особой непорочностью не отличается. Вы можете обнаружить здесь книги, страницы которых продраны разрезательным ножом прежнего их владельца; здесь продают выброшенную за устарелостью мебель, все еще вызывающе крепкую, пригодную к употреблению и дешевую — искушающую тех, кто низко пал по причине тяжелых времен, пасть еще чуть ниже. Превосходные мягкие сиденья, леди и джентльмены! А вот кровати, сэр, на них, правда, уже спали, однако спали чистейшие на свете созданья, самые что ни на есть чистые. (Возможно, впрочем, что спали на них хворые бедолаги, недуги которых и поныне таятся в матрасах. Таковы больные фантазии людей, которых банкротство, обман доверия или финансовый крах повергли в такие низины, что приобретение на Риджент-стрит новой обстановки для своих жилищ им более не по карману.)
Еще более сомнительным вкусом отличается здесь одежда. И дело не только в том, что вся она принадлежит к разряду готового платья (то есть шили ее не по чьей-либо мерке), — часть ее была уже надевана, и не раз. Лавочники, разумеется, никогда вам этого не скажут, им любо воображать, будто Петтикоут-лейн и лавчонки старьевщиков стоят настолько же ниже их, насколько выше стоит Риджент-стрит.
Но довольно о них. Вы рискуете потерять Каролину из виду, — подгоняемая голодом, она ускорила шаг. Да вы уже и колеблетесь, обнаружив впереди себя сразу двух женщин — обе статны, обе с черными лифами, обе с большими бантами, колышущимися, пока они семенят по панели, на их объемистых гузнах. Какой расцветки была юбка Каролины? В синюю с серым полоску. Нагоните ее. Другая проститутка, кто бы она ни была, ни с кем достойным знакомства вас не сведет.
Каролина почти уже у цели; она не сводит глаз с нависшей над улицей деревянной вывески «Матушкино объяденье» — покрытого волдырями краски изображения грудастой девицы и ее корявой мамаши. Прямо перед Каролиной выскальзывает на панель последнее препятствие — кипа газет, — но она уже слышит сладчайший запах горячих пирогов и свежерозлитого пива и толчком открывает старую синюю дверь с забранным в рамочку призывом: «ПРОСИМ НЕ ХЛОПАТЬ ДВЕРЬЮ — ПЬЯНИЦЫ СПЯТ». (Хозяин таверны горазд посмеяться и любит, когда другие смеются с ним вместе. Только еще обнародовав этот призыв, хозяин часто повторял его Каролине, и та едва не уверовала, что он научит ее читать. Впрочем, вскоре она уже снова путала «просим» с «пьяницы» и «не» со «спят».)
Войдите за ней в таверну, и никаких спящих пьяниц вы там не обнаружите. «Матушкино объяденье» стоит парой ступеней выше вульгарных пивнушек и, несмотря на свой шуточный девиз, держится обыкновения выставлять забулдыг при первой же угрозе того, что они наблюют или затеют драку. Это солидный, опрятный паб, поблескивающий медью и плоховато протравленным деревом, со множеством свисающих с потолков затейливо изукрашенных пивных бочонков (хотя пиво здесь подают лишь одной разновидности) и коллекцией пивных кружков и бутылочных пробок на стене за стойкой.
Из сорока девяти наличествующих в таверне глаз лишь восемь или десять обращаются к возникшей на пороге Каролине, ибо здесь принято относиться к выпивке и ворчливому разговору со всевозможной серьезностью. Те, кто уделяет ей внимание, делают это на срок, достаточный, чтобы понять, кто она есть или кем, по крайней мере, была; а после снова обращают взгляды к золотистой пене своего горького, темного пива. Попозже, к ночи, они, быть может, и возжелают ее, однако в этот утренний час головная боль лишает для них мысль о телесных усилиях, за которые придется еще и деньги платить, какой ни на есть привлекательности.
Об эту пору в «Матушкино объяденье» сходятся и сидят там, грузно упираясь локтями в столы, люди, жизнью изрядно помятые; ни об одном из них нельзя с уверенностью сказать, будто он ни на что не годен, однако годны они все не на многое, это точно. Впрочем, на их рубашках и куртках пуговиц, висящих на одной ниточке, отнюдь не сыщешь; вязаные шарфы, коими обмотаны их шеи, еще несут следы недавней стирки; башмаки на ногах, если и не сверкают, то уж во всяком случае отливают матовым блеском. Большая часть этих мужчин ни на какую работу не спешит и большая же жената на женщинах, еще не доведших их до отчаяния. Появление Каролины ни в коей мере не оскорбляет их чувств да и не удивляет: до заведений, в которые допускаются только мужчины, от этих мест топать и топать.
— Привет, Кэдди, — произносит хозяин, поднимая поблескивающую от пива ладонь. — Какой петушок тебя разбудил?
— Петушки ни при чем, Эппи, — отвечает Каролина. — Это все запах твоих пирогов и пива.
С формальностями покончено, он уже наливает ей кружку пива и машет рукой жене — подавай пирог. Каролина — единственная из завсегдатаев, имеющих возможность есть и пить здесь в кредит, поскольку она же и единственная, кому можно верить — заплатит всенепременно. Кто из мужчин, присутствие коих в пивной в столь ранний час трубно возвещает о безработном их состоянии, может сказать, что, хоть сию минуту у него и ни пенни, однако к ночи денежки будут? А Каролина, с тех пор, как она махнула рукой на добродетель, обрела уважение именно там, где больше всего в нем нуждается.
Это вовсе не означает, что деньгами своими она распоряжается мудро. Как и большинство проституток, Каролина разлучается с заработком, едва оставшись с ним наедине. Пища и жилье — отнюдь не единственные статьи ее расходов, она покупает еще и пирожные, спиртное, шоколад, порою наряды, летом тратится на мороженое, зимой на посещение разного рода прогретых мест — таверн, мюзик-холлов, паноптикумов, пантомим — в общем, любых, способных спасти человека от холода. Ну да, она приобретает ингредиенты для своей «спринцовки», дрова и свечи, а по воскресеньям тратит пенни на бенгальский огонь, к которому неравнодушна с самого детства, — Каролина зажигает его в своей комнате поздно ночью, точно католик молельную свечу. Все эти прихоти больших расходов не требуют — с тратами на лекарства для ребенка или суммами, которые спускают мужчины в игорных домах, их не сравнить, — и тем не менее, Каролина даже шиллинга впрок не откладывает. Готовое платье, бенгальский огонь, пирожное, шесть пенни на развлечения… как получается, что подобные мелочи съедают так много денег? Наверное, есть у нее и другие расходы, но вот какие, она не припомнит, хоть ты ее убей. Да и ладно: приработок у нее не так чтобы постоянный, однако подолгу она на мели никогда не сидит.
Каролина уплетает пирог с раскованностью, которую, будучи достопочтенной йоркширской супругой, вчуже терпела с трудом. Ножа и вилки это подрагивающее совокупление теста, бараньей ноги, воловьего хвоста и горячей подливы не требует, Каролина поедает его из ладони. Жует она, не закрывая рта — уж больно горячо. Проходит пара минут, и Каролине остается лишь облизать ладонь.
— Спасибо, Эппи, именно это мне и требовалось.
Она допивает пиво, встает, смахивает с юбки крошки. Жена хозяина с кислым видом вытирает ее столик. Каролина посылает Эппи воздушный поцелуй и выходит на улицу.
Наружный мир пробудился еще не вполне. Лавочники продолжают выкладывать товары на панель; воры, расклейщики афиш, уличные побирушки и мальчишки-посыльные наблюдают за ними. Женщин, почитай, и невидно, лишь две одетые в черное цветочницы негромко переругиваются, споря, где кому из них стоять. Та, что проигрывает спор, оттаскивает свою тачку, сгибая вдвое темное тело над сомнительными по качеству букетами, к стоянке ломовых извозчиков.
Появляться на улицах в столь ранний час Каролина не привыкла; пространство дня, которое еще предстоит одолеть, почти устрашает ее. Она ненадолго задумывается, не предложить ли себя какому-нибудь мужчине — просто чтобы скоротать время, — однако понимает, что хлопотать на сей счет станет навряд ли, разве что такая возможность сама приплывет ей в руки.
Да и особой нужды в этом покамест нет. На покупку свечей и время, и деньги у нее имеются. А тревожиться насчет того, что она может остаться без гроша, ей не приходится, — Каролина способна за двадцать минут заработать больше, чем получала когда-то за день.
Она понимает — лишь животная лень и нравственная вялость мешают ей копить, как оно следовало бы, деньги. Заработок, который дает ее ремесло, мог бы за несколько расчетливых лет доверху наполнить ее старую шляпку банкнотами, однако пристрастие к бережливости она утратила. Ни ребенка, ни бессмертной души, о коих следовало бы печься, у нее больше нет, а стало быть, нет и смысла собирать в кубышку монеты, дабы обменять их потом на цветные бумажки. Смерть мужа и сына лишила ее всякого ощущения цели, ответственности, да, собственно, и вообразимого будущего. Это они обращали ее жизнь в подобие связного рассказа, они словно бы сообщали ему начало, середину и конец. А теперь жизнь Каролины напоминает газету: бессмысленную, злободневную, наполненную ничего не значащими новостями, которые пересказывает не обращающим на него внимания людям полковник Лик. Что же до служения Обществу, так если не считать струек спермы, которые Каролина перенимает, дабы они не доставляли лишних хлопот добропорядочным женам, пользы от нее не больше, чем от зарытого в землю покойника. И тем не менее, она живет и, несмотря ни на что, счастлива. Чем, теперь я могу вам это сказать, и отличается от всех, с кем вам еще предстоит свести знакомство.
— Тиша?
Возвращаясь с Грик-стрит, Каролина остановилась перед убогим, сумрачным писчебумажным магазинчиком, заметив внутри него — да неужели? — и точно, Тишу, или Конфетку, как называет ее большинство знакомых с нею людей. Даже в сумраке — и особенно в сумраке — долговязая фигура ее узнается безошибочно: тощая, точно жердь, плоскогрудая и костистая, как у чахоточного юноши, с кистями рук, великоватыми для дамских перчаток. Первое производимое Конфеткой впечатление неизменно оказывается все тем же: тошнотворным изумлением, порождаемым видом рослого, сухопарого юнца, от шеи до щиколок укрытого женским платьем, а следом, при взгляде на лицо этого странного существа, пониманием того, что перед вами не юнец, а девица.
Услышав свое прозвище, женщина оборачивается, прижимая к темно-зеленому лифу стопу писчей бумаги. Да, под этим лифом все же присутствует грудь. Ребенка ею, может быть, и не вскормишь, но определенного рода мужчин она удоволить способна. А уж таких золотисто-оранжевых волос, такой светозарно бледной кожи ни у кого, кроме Конфетки, не сыщешь. Одних только глаз Конфетки, даже одень ее арабской одалиской, которой, кроме глаз, и показать-то больше нечего, хватило бы, чтобы выдать ее пол. Нагие глаза, опушенные мягкими волосками, поблескивающие, точно очищенные от шкурки плоды. Глаза, которые обещают мужчине все.
— Кэдди?
Лицо узнавшей подругу молодой женщины озаряется выражением, которое столь многие мужчины находили неотразимым: бесспорной благодарностью за то, что она дожила до этой счастливой встречи. Она бросается к Каролине, обнимает и целует ее, отчего физиономию стоящего за прилавком приказчика искажает досадливая гримаса. Недовольство его вызывает не столько выставляемая напоказ приязнь двух женщин, сколько удар, нанесенный его гордыне: он принял Конфетку за леди, обслуживал со всевозможной угодливостью — и, судя по вульгарности ее подруги, дал маху.
— Это все, мадам? — кисло осведомляется он, принимаясь любовно обмахивать перьевой метелкой череду пузырьков с чернилами.
— Да, благодарю вас, — отвечает Конфетка голосом, который неизменно полнится у нее изысканно сладкими гласными и безупречными согласными. — Вот разве… если вы будете настолько любезны… нельзя ли устроить так, чтобы мне было легче нести покупку?
И она вручает приказчику стопу бумаги, немного помятой только что прижимавшимися к ней с двух сторон женскими бюстами. Приказчик, скривясь, обертывает покупку украшенной тонкими полосками бумагой и обвязывает шпагатом, сооружая из него подобие ручки. Конфетка, воркуя чарующе и благодарно, принимает от него сверток и недолгое время любуется рукоделием приказчика, сладострастно поглаживая шпагат обтянутыми кожей перчаток пальцами, дабы показать, как высоко оценила она его работу. А после поворачивается к нему спиной и берет подругу под руку.
Выйдя под солнечный свет, тесно прижавшись одна к другой, Каролина и Конфетка украдкой оглядывают друг дружку. В то время внешности женщины грозило немало непоправимых напастей — кожу съедала оспа; волосы прореживал ревматизм; глаза наливались кровью; искривлялись, заживая, рассеченные ударом ножа губы. Однако ни Каролине, ни Конфетке страсти подобного рода не грозят. Жизнь была к ним добра — или, по крайней мере, не была жестока.
Губы Конфетки, отмечает женщина постарше, бледны, сухи и шелушатся, но разве такими они и не были всегда? В дни ее бедности, еще до того как Конфетка перебралась в жилье поизысканнее, они с Каролиной были в Сент-Джайлсе соседками, их разделяли всего три дома, и даже гости их, случалось, стучались не в ту дверь, спрашивая «девушку с сухими губами». Каролина знает, к тому же, что с гантированными руками Конфетки не все ладно: ничего такого уж серьезного, просто не очень приглядное кожное заболевание, которое, опять-таки, мужчины всегда готовы простить. Почему они с такой терпимостью относились ко всем изъянам Конфетки, было да и остается загадкой для Каролины, — в сущности, ни об одной телесной черте подруги она не могла бы по чести сказать, что у нее, у Каролины, эта штука устроена хуже.
Стало быть, есть в ней что-то, с первого взгляда не обнаружимое.
— Выглядишь страх до чего хорошо, — говорит Каролина.
— А чувствую себя отвратительно, — негромко отвечает Конфетка. — Да проклянет Господь и Господа, и все Творение Его.
Лицо и голос ее остаются спокойными, подобным тоном она могла бы отпустить замечание о погоде. Карие глаза светятся — или так только кажется? — мягким и добрым юмором.
— Армагеддон, вот что нам не помешало бы, — а, как по-твоему? Может, тут какая-то непонятная мне шутка, гадает Каролина, — из тех, которыми Конфетка перебрасывается с образованными господами: теперь, когда она обосновалась на Силвер-стрит. Прежде, во времена Черч-лейн, Конфетка любила посмеяться. Каролина и поныне улыбается, вспоминая ее коронный номер, пользовавшийся у проституток большой популярностью. Не то, чтобы она хорошо его помнила, нет; суть номера состояла не только в актерской игре, но и в словах, в сотнях слов, они-то и были самой его солью. Конфетка показывала, как она совращает незримого мужчину, как умоляет его голосом, почти истерическим от похоти. «Ох, ну дай же мне погладить твои яйца, они такие красивые — как… как собачье дерьмо. Собачье дерьмо, укрывшееся под твоим…». Под чем? У Тиши было для этой штуки такое хорошее слово. Слово, от которого и у тебя становилось мокро между ног. Но Каролина его забыла, а сейчас спрашивать о нем не время.
То, что Конфетка оказалась шлюхой куда более вожделенной и взыскуемой, чем она, всегда ставило Каролину в тупик, однако так оно и было, а в последнее время, если верить слухам, которые ходят среди девушек ее ремесла, популярность Конфетки еще и возросла. Нечего и сомневаться, переезд миссис Кастауэй из Сент-Джайлса на Силвер-стрит, с которой можно в три прискока попасть на самую широкую, богатую и пышную из улиц Лондона, объяснялся не столько амбициями Мадам, сколько спросом на Конфетку.
А отсюда проистекает вопрос: как оказалась Конфетка, живущая по соседству с роскошными магазинами Вест-Энда, здесь, в задрипанной писчебумажной лавчонке Грик-стрит? Зачем рискует она загрязнить подол прекрасного зеленого платья, переходя улицу, с которой никто не спешит сметать конский навоз? Да собственно говоря, зачем ей было вообще вылезать из постели (по-королевски роскошной, как представляется Каролине) еще до полудня?
Однако, когда она спрашивает: «Что тебя занесло в наши края?» — Конфетка лишь улыбается беловатыми, сухими, как крылья ночной бабочки, губами.
— Я… навещала друга, — говорит она. — Провела там всю ночь.
— А, ну понятно, — ухмыляется Каролина.
— Нет, правда, — серьезно настаивает Конфетка. — Давнего друга. Женщину.
— Ну и как она? — спрашивает Каролина, надеясь выведать имя. Конфетка на секунду закрывает глаза. Ресницы у нее густые и пышные, такие у рыжей женщины встретишь не часто.
— Она… покинула наши края. Я с ней прощалась.
Странную они составляют пару, идущие вместе по улице Каролина и Конфетка: женщина постарше тонка в кости, круглолица и пышногруда; рядом со своей спутницей, высоким, гибким созданием в зеленом, как мох, платье из peau-de-soie,[2] она выглядит складной и статной. Но, хоть у нее, у этой самой Конфетки, и нет груди, о которой стоило бы говорить, и кости ее пугающе выступают из-под ткани лифа, она, тем не менее, движется с большим, чем у Каролины, достоинством, с большей женственной надменностью. Голову она держит высоко и выглядит единым целым со своим платьем, как если б оно было собственной ее шкуркой либо оперением.
Не эту ли животную безмятежность, гадает Каролина, и находят столь притягательной мужчины. Ее, да еще дорогую одежду. Впрочем, она ошибается — все дело в способности Конфетки разговаривать со всяким мужчиной так, точно она с ним давно уже пребывает на короткой ноге. В этом и в умении никогда не говорить «нет». Теперь вопрос задает Конфетка:
— Далеко ли от дома собираешься сегодня начать?
— Да уж не там, — отвечает женщина постарше, махнув рукой в сторону Сент-Джайлз. — Может быть, на Краун-стрит.
— Что так? — участливо спрашивает Конфетка. — У тебя ведь неплохо все складывалось пару месяцев назад — помнишь, на Сохо-сквер? (Вот вам еще одна причина, но которой Конфетка столь преуспела в своей профессии: ее способность запоминать — из того, что относится к жизням других людей, — не одни только увлекательные пустячки.)
— У меня на нее духу не хватает, — вздыхает Каролина. — В тот раз, когда я столкнулась с тобой, просто-напросто день был удачный, вот я и не могла нарадоваться на Сохо-сквер — подцепила там двух роскошных клиентов подряд и думала: теперь это мое место! Сама знаешь, Тиша, новичкам везет. Для таких хороших мест я попросту не гожусь. Надо знать свой шесток.
— Глупости, — отвечает Конфетка. — Они ничего не смыслят, мужчины. Оденься в черное, набери побольше воздуху в грудь, надуй щеки, и они примут тебя за королеву.
Каролина с сомнением усмехается. По ее-то опыту, произвести впечатление на этот пресыщенный мир далеко не так просто.
— Да они же меня насквозь видят, Тиша. Из свиной жопы шелковый кошелек не сошьешь.
— О, думаю, тебе это удалось бы, — неожиданно посерьезнев, отвечает Конфетка. — Тут все зависит от клиента.
Каролина вздыхает.
— Понимаешь, если я держусь своей части города, у меня и клиентов набирается больше, и осечек выходит меньше. А стоит мне зайти на запад дальше Краун-стрит, и сразу начинаются сложности. — Прищурясь, она бросает вдоль Грик-стрит взгляд в направлении Сохо-сквер, и вид у нее при этом такой, словно все, что лежит за еврейской школой и благотворительным приютом, представляет собой вершину, на которую ей не взобраться. — Да, конечно, мне удается подцепить там иностранца, еще бы, или деревенского сопляка, или кого-нибудь из тех, кому хватает смелости только на то, чтобы таскаться за тобой по пятам. С этими нужно разговаривать по дороге сюда, не закрывая рта: «О да, и что же привело в Лондон такого человека, как вы, сэр?» — они и опомниться не успевают, а уже вот она, Черч-лейн, назад не повернешь. Ну и получают свой фунт мяса и хорошо тебе платят, списывая денежки на знакомство с достопримечательностями. Но ведь попадаются и такие, кто всю дорогу ноет: «Чего это так далеко, почему так далеко, разве мы еще не пришли? — это же Старое Сити, трущобы какие-то». Их иногда приходится заводить в проулок и устраиваться раком, однако бывает, они тебя тут же отталкивают, свирепеют, орут: «Лезла бы лучше к тем, кто тебе по чину!». И знаешь, Тиша, от этих у меня просто руки опускаются. Чувствую себя униженной до того, что хочется уйти домой и выплакаться…
— Ну уж нет, — протестующе покачивает головой Конфетка. — Не надо так на это смотреть. Унижаются-то они, а не ты. Они считают себя Прекрасными Принцами, а ты показываешь им, что в принцы они рылом не вышли. Да если бы их добродетели так всем и лезли в глаза, разве подошла бы к ним женщина вроде тебя? Поверь мне, это они идут домой и там плачут — надменные, трусливые мелкие гниды. Ха!
Женщины заливаются смехом, впрочем, Каролине хватает его ненадолго.
— Ну, так или этак, — говорит она, — а я из-за них, бывает, и нюни распускаю. Да еще и на людях.
Конфетка берет Каролину за ладонь — зеленая и серая перчатки смыкаются одна на другой — и говорит:
— Пойдем на Трафальгарскую площадь, Кэдди. Купим себе пирожных, голубей покормим — и полюбуемся на бал гробовщиков.
И они опять разражаются смехом. «Бал гробовщиков» — это их личная шуточка; шутки-то главным образом и сохранились от тех трех лет, что они провели по соседству, каждодневно поверяя свои мысли друг дружке.
Скоро две женщины уже идут по лабиринту улиц, каждая из которых совершенно для них бесполезна, — улиц, о которых они знают только, что на них расположены другие бордели и дома свиданий, улиц, уже предназначенных к сносу градостроителями, которым грезится широкая авеню, названная в честь графа Шефтсбери. Перейдя незримую границу приходов Святой Анны и Святого Мартина-в-полях, женщины не обнаруживают никаких свидетельств присутствия здесь святых либо полей, если не считать последними окруженную деревьями лужайку на Лестер-сквер. Нет, глаза двух женщин отыскивают кондитерскую, в которую они заходили при последней их встрече.
— Разве не эта? — (В нынешние новые времена лавчонки появляются и исчезают так скоро.)
— Нет, дальше.
Лондонские кондитерские («petisseries», как стали они титуловать себя в последние годы) — жалкие, маленькие заведения, походящие на принаряженные лавки скобяных товаров и выставляющие в витринах нечто приплюснутое, поименованное в честь geteaux,[3] — французов, посетивших Англию, они могли бы и напугать, однако Франция раскинулась далеко, за далеким отсюда проливом, а людям вроде Каролины, и та «petisserie», что стоит на Грин-стрит, представляется вполне экзотичной. И когда Конфетка вводит ее в дверь такого заведения, глаза Каролины освещаются предвкушением незамысловатого удовольствия.
— Два вот этих, пожалуйста, — говорит Конфетка, указывая на самые что ни на есть липкие, сладкие и богатые кремом из выставленных на прилавке пирожных. — И вот это. Две штуки — да, по паре каждого.
Женщины посмеиваются, ободренные самой механикой согласованных действий двух старых подружек. Большую часть их жизней им приходится старательно избегать любого слова и жеста, которые способны стать препоной для переменчивых приливов мужской гордыни, и какое же это облегчение — забыть обо всем и дать себе волю!
— Каждое в свой стаканчик, медама. — лавочник, превосходно сознающий, что леди из них такие же, какой из него француз, взирает на двух посетительниц плотоядно, но не без подобострастия.
— О да, благодарю вас.
Каролина мягко сжимает ладонями конические донышки картонных стаканчиков, сравнивая лежащие внутри их кремовые пирожные и пытаясь решить, какое она съест первым. Получивший плату лавочник провожает их радостным «бон жуир». Если проститутки покупают по два пирожных каждая, так подавайте сюда проституток, да и побольше! Дожидаясь добродетельных дам, выпечка недолго останется свежей, — на глазури и так уж начинают проступать капельки пота.
— Заходите снова, медаме!
Ну, а теперь к следующему развлечению. Женщины еще только подходят к Трафальгарской площади — как точно они выбрали время! — а оно уже начинается. Не зримый отсюда колосс вокзала Чаринг-Кросс изверг из себя самый объемистый за весь день груз пассажиров, и этот людской поток течет, направляясь сюда, по улицам. Сотни клерков, одетых в мрачное черное платье, вливаются в поле зрения женщин, большая волна одноцветного единообразия наплывает на конторы, готовые ее поглотить. Многочисленность и спешка клерков сообщают им вид смехотворный, но при этом лица их хранят выражения веские и бесстрастные, как будто каждый из клерков помышляет о высоких материях, — отчего они кажутся лишь более смешными.
— Бал гро-бовщиков, бал гро-бовщиков, — точно дитя, напевает Каролина. Ничего смешного в этой шуточке давно уже не осталось, однако Каролина дорожит ею, как старой знакомой.
А вот Конфетку потешить не так легко; на ее вкус, любая привычная реакция отзывается западней. Обмениваться старыми шутками, распевать старые песни — значит признавать поражение, довольствоваться своим уделом. Парки присматривают за нами с небес и, услышав что-либо подобное, мурлычат друг дружке: «О, эта вполне довольна собой, не стоит в ней ничего менять, она лишь с толку собьется». Ну так знайте: Конфетка намеревается перемениться. Парки могут посматривать на нее, когда им заблагорассудится, — они всегда увидят ее стоящей наособицу от общего стада, готовой к тому, что волшебная палочка перемен коснется ее головы.
И потому кишащие перед нею клерки не могут остаться гробовщиками — но кем же тогда им быть? (Разумеется, банальная правда состоит в том, что они клерки и есть — однако это не годится: без помощи воображения прорваться к лучшей жизни не удавалось еще никому). И стало быть… это огромная толпа гостей, которые покидают обед, задававшийся в богатом отеле, вот что! Там учинилось волнение: Пожар! Потоп! Спасайся кто может! Конфетка бросает взгляд на Каролину, прикидывая, не стоит ли поведать ей это новейшее толкование. Однако улыбка женщины постарше выглядит глуповатой, и Конфетка решает — нет, не стоит. Пусть Каролина сохранит своих драгоценных гробовщиков.
Клерки теперь уже повсюду — они вылезают из омнибусов, маршируют в десятках направлений, держат в руках перевязанные бечевкой свертки с ленчами. А между тем, прибывают, грохоча, все новые омнибусы и крыши их тоже облеплены дрожащими на ветру клерками.
— Вот бы дождь пошел, — ухмыляется Каролина, вспоминая, как в прошлый раз они с Конфеткой стояли в укрытии, попискивая от наслаждения, пока омнибусы свозили сюда клерков под безжалостным ливнем. Тем, кто сидел внутри, не грозило ничто, а вот несчастные, которым достались места только на крыше, прежалостно горбились под покровом теснившихся зонтов. «Ах, что за зрелище» — радостно восклицала тогда Каролина. И сейчас она сжимает, точно в молитве, укрытые перчатками длани, желая, чтобы небеса разверзлись и подарили ей это зрелище снова. Однако сегодня небеса остаются закрытыми.
Озаряемые благосклонным солнцем улицы становятся все оживленнее, столпотворение пешеходов и экипажей почти уж и не позволяет отличить тротуары от мостовых. Сквозь орды клерков медленно, будто крестьянские сенные возы, что продираются через овечью отару, проезжают в безвкусных брогамах еврейские комиссионеры. Пообок от них восседают с дрожащими на коленах собачонками дамы высшего купеческого сословия. Оптовые торговцы, держащие головы приметно выше розничных, выступая из кебов, расчищают себе дорогу взмахами тростей.
Однако полный масштаб этого шествия можно оценить, лишь стоя посреди Трафальгарской площади, ибо толпы клерков обтекают и огибают ее подобно огромной армии, берущей в кольцо Нельсона. Все, что следует сделать Каролине и Конфетке, это протиснуться, держа наотлет пирожные и сверток, на собственно площадь. На каждом шагу двух женщин мужчины, несмотря на давку, расступаются перед ними — одни отпрядывают в почтительном неведении, другие в осведомленном отвращении.
И неожиданно к услугам Каролины и Конфетки оказывается словно бы весь мировой простор. Они прислоняются к пьедесталу одного из каменных львов и поедают пирожные, склонив головы и слизывая с перчаток пятнышки крема. По меркам респектабельности это все равно, что слизывать брызги спермы. Порядочная женщина употребляет пирожное только с тарелки — в отеле или, по меньшей мере, в большом, тopгующем всем на свете магазине, хоть нынче и не скажешь, с кем или с чем рискуете вы повстречаться в заведении, отличающемся гостеприимством столь неразборчивым.
Впрочем, на Трафальгарской площади скандальное поведение их бросается в глаза не так сильно, в конце концов, здесь вечно толкутся иностранцы и в еще больших количествах голуби, а как человеку соблюсти совершенную благопристойность посреди такой грязи и бездны перьев? Люди из разряда тех, кого заботят подобные вещи (леди Констанция Бриджлоу как раз из них, однако до знакомства с ней вам еще далеко), сказали бы, что в последние годы городские власти лишь потворствовали этим жалким созданиям (под каковыми словами она разумеет голубей, а, быть может, и иностранцев), установив здесь лоток для продажи фунтиков с птичьим кормом, по полпенни за штуку. Покончив с пирожными, Конфетка и Каролина покупают с лотка по фунтику, дабы развлечься, каждая, наблюдением за подругой, окруженной сонмищем птиц.
Идея принадлежит Каролине; потоки клерков иссякают, поглощаемые посольствами, банками и конторами; да как бы там ни было, они ей уже и наскучили. (Прежде чем покинуть стезю добродетели, Каролина могла часами зачарованно вглядываться в вышивку или в сонно помаргивающего ребенка: ныне ей едва-едва удается сосредоточиться и на оргазме — оговоримся: не ее собственном, — когда таковой разражается в одном из отверстий ее тела.)