Летающий джаз Тополь Эдуард
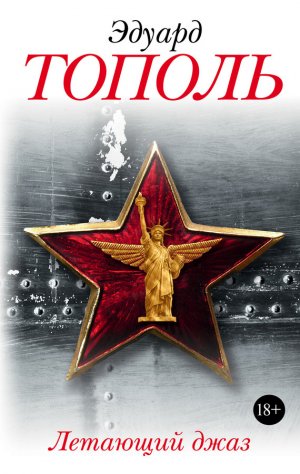
© Э. Тополь, 2016
«И вспомнил он свою Полтаву…»
Александр Пушкин
«Хiба ревуть воли, як ясла повни…»
Панас Мiрний
В Древней Руси февраль назывался «Лютень», и это название ему подходит куда больше, чем заимствованный из латыни februarius mensis. В ночь на второе февраля 1944 года в Москве было минус 32 по Цельсию, а в Подмосковье и того холодней – минус 36! Даже огромные сосны сталинской дачи стояли, не шелохнувшись, боясь стряхнуть шапки снега, укрывающего их от лютого мороза. Висевшая в воздухе морозная пыль ледяными иголками колола ноздри охранников-«топтунов», которые с собаками обходили в ночной темноте большой двухэтажный дом, накрытый маскировочной сетью на случай прорыва немецких бомбардировщиков. Второй наряд двигался за соснами под самым забором – высоким и увенчанным колючей проволокой. А третий шел за этим забором снаружи, по широкой контрольно-следовой снежной полосе между «Объектом» и местным лесом. Одетые в овчинные полушубки, шапки-ушанки и вооруженные новенькими автоматами ППШ, эти рослые сибиряки, отобранные лично начальником сталинской охраны генералом Николаем Власиком, ступали осторожно, по-лыжному, почти не скрипя на снегу валенками – знали, что сегодня тот редкий случай, когда Сам ночует на даче, и на них лежит высочайшая ответственность за спокойный сон Вождя, который мудро и уверенно ведет нашу страну к победе над проклятыми фашистами.
Но Сталин не спал. Конечно, вся страна знала, что Великий никогда не спит, ведь свет в окне его кремлевского кабинета никогда не гаснет. Но охране, генералу Николаю Власику, истопникам и поварам этой дачи было видней – они были ближе к Вождю, видели, когда Он приезжает, и знали, что вожди тоже люди, им нужен отдых. И, чтобы не тревожить его бесценный сон, они старались не скрипеть обувью, не повышать голос и по возможности вообще не дышать.
Между тем Вождь не спал. В спальне на втором этаже – просторной, с высокими двойными окнами, отделанной карельской березой и согретой чугунными батареями парового отопления – Он, полуголый, удивительно тщедушный и костлявый, сидел на краю широкой кровати и, потягивая воздух через пустую данхилловскую трубку, в лунном полусвете рассматривал спящую Веру Давыдову, приму Большого театра и свою главную любовницу. Поразительная женщина! Действительно поразительная с первого своего выхода в роли Кармен на сцене Большого театра в 1932 году! Как она пела, какое божественное меццо-сопрано! А как двигалась! У всех мужиков «в зобу дыханье сперло» и живот поджало, а в конце спектакля весь зал вскочил и взорвался аплодисментами! Молотов, Ворошилов, Буденный и Тухачевский, сидя со Сталиным в правительственной ложе, наперегонки погнали своих адъютантов за корзинами цветов. Но Он, Сталин, знал, что не нужно спешить, с такими женщинами нельзя спешить. Тем паче, скоро Новый год, Он пошлет ей приглашение в Кремль на банкет, посадит за стол рядом с собой и потом…
С тех пор уже десять лет она принадлежит ему. Да, хотя Он ни в грош не ставит баб, и помимо Давыдовой в спальнях его московских и крымских дач перебывали за эти годы и другие звезды Большого, которыми Он пытался перебить свою тягу к Давыдовой, но (как сама Давыдова вспоминает в мемуарах «За кремлевской стеной. Я была любовницей Сталина») всякий раз, когда ему становилось невмоготу от непосильной работы, усталости и злости на радикулит и ревматизм, Он звонил ей и посылал за ней машину или самолет. И вот она снова в его постели – красивая, нестареющая, с высокой грудью, стройными ногами и такая вкусная, что даже Он теряет над собой контроль и в свои шестьдесят пять превращается в пылкого мальчишку. К сожалению, очень ненадолго и совсем не так, как до войны, когда с любой бабой Он был таким неутомимым джигитом, что они задыхались под ним и со слезами просили прекратить его бешеную скачку. Да что вспоминать! Говоря словами расстрелянного еврея Бабеля, Он «мог переспать с русской женщиной, и русская женщина оставалась им довольной». Но теперь… Теперь они его утомляли – все эти певички и балеринки. Ревностно демонстрируя свои сексуальные таланты, они мгновенно выжимали из него все соки и заставляли злиться на свою старческую немощь. И только эта Вера всегда чувствовала лимит его возможностей, идеально укладывалась в этот лимит и тут же ублаготворенно засыпала. Но даже во сне от ее тела исходит такое мягкое, такое врачующее тепло, что только с ней ему не противно после этого, только возле нее Он может просто отдыхать, думать или даже не думать ни о чем. Может, жениться на ней? Но нет, Он не может жениться, Вера размягчит его, а Он не имеет права расслабляться больше, чем на одну ночь в два или даже в три месяца. Потому что на нем вся война. И разводка подковерных интриг так называемых «сталинских соколов» – Берии, Молотова, Ворошилова, Буденного, Кагановича. И еще изнурительная «дружба» и переписка с Рузвельтом и Черчиллем. Союзники, бля! Третий год тянут с открытием Второго фронта, откладывают с весны на осень, а теперь вот с осени на весну. Ждут, когда Он вычерпает последние резервы страны, и Красная армия выдохнется так, что уже не в силах будет оккупировать Европу. Вот тогда они, конечно, и ринутся в нее с юга через Италию и с запада через Ла-Манш. И ничем их не проймешь, сволочей, даже угрозой его сепаратного мира с Гитлером, слухи о котором Он распространил через свою европейскую агентуру.
Ладно, не стоит злиться, не для того Он вызвал красавицу Веру. Сегодня Он сыграет Сталина-добряка и бросит союзникам кость, чтобы не было у них никакого предлога снова отложить открытие Второго фронта. Вера Давыдова, ее тепло, ее податливая мягкость согрели его так, что даже ревматизм и радикулит подевались куда-то, забылись, что ли? Как хорошо, что она есть – теплая, как парное молоко, сладкая, как горный мед, и пьянящая, как его любимое грузинское вино «Телиани». Да, сегодня Он бросит Рузвельту кость… И, кажется, эта кость будет называться – Полтава…
Часть первая
Полтава
1
Если на монитор вашего компьютера поместить карту Европы и оживить ее событиями Второй мировой войны, то легко увидеть, что от Нормандии и Англии на западе до Волги и Каспия на востоке она была вся в огне непрестанных бомбежек, пожаров, взрывов и кровопролитных танковых, артиллерийских и людских сражений. Миллионы тонн авиационных бомб, пушечных снарядов, мин и вообще всего, что могло взрывать и стрелять, перепахали цветущие поля, сады, города и деревни Чехии, Венгрии, Франции, Англии, Югославии, Германии, Румынии, Польши, Белоруссии, Украины, Прибалтики и европейской части России. А в Азии японцы бомбили Бирму и Китай. А в Африке итальянцы и немцы сражались с французами и англичанами за Кению, Судан, Сомали и Мадагаскар… За всю историю нашей планеты еще никогда ее тело не кромсали, не взрывали и не пытали так, как с 1939 по 1945 год. Восемьдесят процентов населения Земли, больше шестидесяти стран принимали участие в этой войне, в сорока из них шли бои, и те, кто выжили в этом аду площадью в 22 миллиона квадратных километров, знали, что им немыслимо повезло. Но… Даже тогда, когда танки, штыки и пулеметы отодвигали от них огненный смерч фронтового ада, и непривычная тишина воцарялась над клочком их освобожденной земли, даже тогда нужно было второе чудо, чтобы еще раз выжить на этой убитой земле – искромсанной, заваленной руинами и трупами людей и животных.
В апреле 1944 года тридцатитрехлетняя Мария, мать Оксаны, поняла, что с ней случилось это второе чудо. Нет, не второе – двадцатое, сотое! А самое первое было давно, в другой жизни, аж до войны, в 1928 году.
Тогда, накануне голодомора, в украинском хуторе Горбовка, что под Полтавой, Мария родила Оксану. Она родила ее чудом и на два месяца раньше срока – просто скинула, когда топтала кизяк, – крошечную, весом меньше двух килограммов. Но – живую! И почти тут же в их судьбу вмешался Иосиф Сталин, которого Мария не знала – он жил где-то далеко-далеко, в России, в Москве. Да, это просто удивительно, как один человек откуда-то издали, из какого-то Кремля, может изменять жизнь людей, которых он не знает, никогда не видел и не увидит. В 1928 году Сталин приказал «ликвидировать как класс» всех так называемых кулаков – зажиточных крестьян, имевших свое собственное хозяйство. И буквально через два месяца после рождения Оксаны к ним на хутор ворвались вооруженные энкавэдэшники. Они разбили иконы, вычистили все домашние запасы еды и два погреба с продуктами, разгромили и хлев, и курятник, забрали весь инвентарь вплоть до последней косы и реквизировали всю живность – трех лошадей, двух коров, свиноматку с поросятами и даже петуха с курами и цыплятами. А мужа Марии, двадцатишестилетнего Васыля, вместе с его пятидесятипятилетним отцом раздели до исподнего и пехом погнали в Полтаву, в пересыльную тюрьму – тогда, в 1928-м, Сталин, еще не войдя во вкус Большого Террора, «скромно» приказал отправить в трудовые лагеря «всего» 60 000 кулаков. Изъятую у них пшеницу он продавал за рубеж, а на полученную валюту закупал американские грузовики и другую технику для индустриализации – строительства Днепрогэса, Сибирской железной дороги и прочих «сталинских строек», возводимых трудом арестованных. Эту трудовую армию зэков и должны были пополнить раскулаченные горбовские хуторяне. Только не довели их до Полтавского пересыльного пункта – ночью тридцать шесть арестантов разоружили охрану и рванули в лес. Но утром были окружены энкавэдэшниками и гэпэушниками и расстреляны.
Так по воле Сталина новорожденная Оксана лишилась отца и деда. А Марию с дочкой и сорокапятилетней свекровью уплотнили, к ним на хутор подселили две семьи многодетных бедняков-колхозников. И теперь у них во дворе вместо кур, гусей и поросят копошились в пыли и грязи семеро малышей с распухшими от голода животами. А их отцы не столько работали в колхозе, сколько воровали с полей свеклу да капусту и гнали из ворованной свеклы самогон, а потом спьяну лезли под юбки к Марии и к ее свекрови. Поначалу Мария и бабушка Оксаны отбивались от недолюдков, как могли, но в конце концов один из них все-таки справился с отощавшей свекровью, завалил ее в сарае, а когда сделал свое дело и встал, женщина уже не дышала. Но он и от этого не протрезвел, а зашел в комнату к Марии, которая, трясясь от страха, сидела с ребенком, и сказал:
– Пиди у сарай. Здається, заеб я твою свекру. Чо зэньки лупішь? Чи не будеш давати, і тебе заебэм з кумом на пару.
Убедившись, что свекровь мертва, Мария схватила крошку Оксану, привязала хустиной себе за спину и ушла с горбовского хутора в Полтаву, к своей матери. Хотя от Горбовки до Полтавы аж шестьдесят километров, но идти по дороге Мария боялась, лесами обогнула Жарки, Санжары и Зачепиловку и – босая – шла до Полтавы трое суток. Питалась июньскими лесными ягодами, кореньями и мхом. Голодная Оксана скулила за спиной, а когда Мария совала ей в рот свои тощие сиси, дочка сначала жадно сосала и даже больно щемила их беззубыми деснами, а потом принималась плакать – сиси были пусты. Голыми руками Мария выкапывала коренья репейника и крапивы, мыла их в лесном ручье, жевала до мякоти, но не глотала, а эту жеваную, со своей слюной, мякоть совала дочке в рот. Оксанка удивленно смотрела на мать круглыми, как пуговки, глазками, но все же сосала и так засыпала. Мария снова заворачивала ее в застиранную хустину, через плечи завязывала концы крест-накрест на груди и по лесным тропинкам шла дальше. Сквозь редкий подлесок ей открывалась горестная картина. Всего три года назад, когда на собственной бричке, запряженной фыркающей молодой кобылой, Васыль вез ее, пятнадцатилетнюю невесту, из Полтавы на свой горбовский хутор, они ехали мимо бескрайних урожайных полей – золотая, высокая и готовая к жатве пшеница, чубатая и мощная, ростом в три метра, кукуруза, желтые и тяжелые от спелых семечек головы подсолнечника. Красивые, крашенные белой с синевой известью хаты с соломенными и камышовыми крышами и зелеными ставнями стояли живописными хуторами в тени высоких серебристых тополей, яблоневых и вишневых садов. Густыми ветвями деревья пышно выпирали над тынами, а над всем этим кипеньем жирного полтавского чернозема деловито гудели медоносные пчелы. На холмах высились церкви с зелеными или даже золотыми куполами. А когда молодожены въезжали в малые и большие села, Васыль то и дело натягивал поводья – неторопливые семьи тяжелых гусей и уток, тучные свиноматки с поросятами, сварливые куры и индюшки с индюшатами, словно наглые цыгане с цыганятами, перегораживали дорогу.
Но теперь ничего этого не было и в помине – кому это все мешало? В обнищавших деревнях возле облупившихся и давно некрашенных хат не было ни сараев, ни амбаров, ни хлевов, их снесли на стройматериалы для колхозных построек. Церкви или порушили, или превратили в загаженные склады колхозного инвентаря. В полях чахлую пшеницу забивает бурьян и хмель. Хутора, которые раньше утопали в садах, либо заколочены угнанными в Сибирь раскулаченными, либо заселены ледащими колхозниками, которые и не думают содержать их в прежнем виде, поскольку ухоженность и достаток— это первый признак возврата к кулачеству. Гордая нищета – визитная карточка новой советской власти…
Чтобы добраться до полтавской окраины, на крутой обрыв Лавчанского Пруда, где мать Марии, Фрося, бобылихой жила в хате-мазанке (в 1915 году ее муж, отец Марии, погиб под Горлицей на войне с Германией и Австро-Венгрией), нужно было пересечь полгорода с юга на северо-запад. Но Мария не решилась идти днем по центральным улицам, а дождалась темноты и пошла через город поздним вечером, почти ночью. Ночной город поразил ее. Несмотря на продразверстку и голод в сельских районах, на центральной улице (теперь она называлась Жовтнева или Октябрьская) почти во всех кирпичных домах окна горели электрическими огнями, в ресторанах звучала музыка, в кинотеатре у круглого Корпусного сада висела цветная афиша фильма «Обломок империи», а из сада так остро пахло сиренью, что Оксана, спавшая за спиной у Марии, расчихалась во сне. Тут навстречу Марии гулко зацокали по брусчатке два конных всадника, и Мария спешно свернула в первый же переулок.
Всадники, однако, тут же догнали ее.
– Стой! Куды идешь?
И две фыркающие лошадиные морды ткнулись в лицо.
Но Мария двумя руками отважно погладила потные лошадиные лбы. И усмехнулась:
– Домой, куда ж ище с дитем-то?
Старший чубатый всадник блеснул зубами под рыжими усами и подтянул поводья:
– Тпрр!.. А дэ живэш?
– На Прудах. Лавчанский тупик.
– А чому ночью с дитем шастаешь?
– Так до дохтора ее носила. Поносит она. Хошь понюхать?
Он замахнулся нагайкой:
– Я те кнута дам понюхать!
Мария отшатнулась, защищая дитя за спиной.
И пару секунд они в упор смотрели друг другу в глаза – рыжий и чубатый, с поднятой в руке нагайкой, и босая восемнадцатилетняя Мария. И чубатый почему-то не выдержал взгляда Марии – вместо того, чтобы огреть ее нагайкой, он стегнул свою кобылу и ускакал в бешенстве. А второй всадник, моложе, нагнулся со своего коня и сказал:
– Ты хоть знаш, кому перечила?
– Кому?
– Кривоносу! – сообщил парень и поскакал за своим начальником.
Мария не знала никакого Кривоноса и тут же забыла о нем.
В те годы Полтава своими кирпичными домами только в центре походила на город, а чуть отойдешь – просто огромное село на 130 тысяч жителей: глиняные хаты-мазанки с сараями, огородами и садами за плетеными тынами. Но Мария родилась тут и знала каждую улочку. Она подходила к Прудам и представляла, как, дойдя в конце Лавчанского тупика до старого тына у материнской хаты, тихо, шепотом позовет ушастую дворняжку Пальму, и как эта Пальма, скуля от радости, заюлит у тына. Тогда, перекинув руку через невысокую калитку, Мария откинет навесной крючок, тихонько войдет во двор, негромко постучит в закрытое ставнями окно и скажет:
– Маты, цэ я, Мария…
Так почти и вышло, только Пальма не отозвалась и не прибежала к тыну. Зато калитку Мария тихо открыла, и в ставню негромко постучала, и мать позвала. Однако никто ей не ответил даже тогда, когда она уже кулаком стучала по ставням. А входная дверь оказалась, как ни странно, вообще не запертой, а сорванной с петель и лишь прислоненной к дверному косяку.
Боясь самого худшего, Мария осторожно вошла в темные сени и тут же, через два шага споткнулась обо что-то, кулем валявшееся на полу. Она нагнулась, потрогала – о господи! то была ее мать! Избитая, вся в крови, без сознания, но, слава богу, еще живая.
– Мамо, шо трапылось?
Мария сняла со спины спящую Оксану, переложила на лавку и потащила мать в горницу.
– Нi! Не вбивайте! – вдруг забормотала мать. – Хлопцi, не вбивайте мене!
– Маты, це я, Мария…
Оказалось – Пальма сдохла год назад. А теперь банда голодных подростков, каких в тот год были сотни в каждом городе, высмотрев одинокую женщину, живущую на отшибе, ночью взломали двери, приставили нож к горлу: где сало, мясо, хлеб? А у матери не было ничего, кроме остатков прошлогоднего жмыха и своего – с грядки во дворе – цибули-лука. Но пацаны не поверили, перевернули все в хате вверх дном, слазили в подпол и в хате, и в сарае, но и там не нашли ничего, кроме пустых глиняных крынок. От голодной злости они избили хозяйку и ушли, а дверь прислонили к косяку, чтоб соседи не встревожились открытой хатой. Истекая кровью, мать попыталась выползти из хаты, но у самой двери потеряла сознание.
Вот и получилось второе чудо – приди Мария часом позже, не спасла бы мать.
2
А через неделю – новое чудо: Мария устроилась на работу.
– Та-ак… – усмехнулся Кривонос, цепким взглядом оглядывая босые ноги Марии и все, что было выше: крепкие бедра в застиранной юбке, высокую грудь под темной блузкой и круглое кареглазое лицо, увенчанное пшеничной косой под ситцевой косынкой. – И кто ты будешь? Муж есть?
– Был, – сказала Мария. – Убили, как кулака.
Кривонос повернулся к адъютанту:
– И на шо ты ее привел?
– Так полы мыть, – сказал тот. – И вам одежу стирать. Зоя-то, старуха, вмерла.
Да, много позже, когда дочь подросла, Мария не раз рассказывала ей, что даже при продразверстке и голодоморе вся их жизнь была цепью чудес. «Ну, хіба не диво, – говорила Мария, – що коли уси голодували и я ходiла по Полтаві боса и шукала хоч якоiс роботи, на мене знову наiхав конем Микола Гусак, адъютант Сэмэна Крiвоноса…»
Но узнал и привел на Октябрьскую улицу прямо в Полтавский райотдел ОГПУ-УНКВД, который и занимался раскулачиванием, а также арестом анархистов, меньшевиков, бундовцев, боротьбистов, петлюровцев, эсеров, бывших белогвардейцев, антисоветски настроенных интеллигентов, священников и бандитов. То есть к тому самому Кривоносу, который, возможно, и руководил расстрелом раскулаченных горбовских крестьян.
Кривонос поскреб небритый подбородок, снова цепко глянул на Марию и вдруг сплюнул сквозь зубы на пол. Затем усмехнулся, глянув Марии в глаза:
– Вымоешь?
Мария посмотрела на этот плевок, потом на Кривоноса.
– Вымою. Якшо тряпку дастэ.
Подошвой пыльного сапога Кривонос растер свой плевок по дощатому полу.
– Добрэ. Попробуем тебя. Тiльки шоб усё чисто було! Иди…
«Усё» – это два коридора и тринадцать кабинетов на первом и втором этажах, лестница, крыльцо и два нужника на заднем дворе.
Поскольку сотрудники ГПУ работали за полночь, Мария приходила на работу в полпятого утра, будила колченогого коменданта Охрима и под его присмотром приступала к уборке – сначала на втором этаже в кабинете Кривоноса, затем в кабинетах следователей и оперов, а потом в коридорах и нужниках. И если у Кривоноса в кабинете кроме грязи на полу, груды окурков на столе и под столом и пыли на шкафу и подоконнике не было ничего приметного, то в кабинетах следователей стены были постоянно забрызганы кровью арестованных врагов советской власти. Хотя со времени установления этой власти прошло уже больше десяти лет, число ее врагов почему-то не сокращалось, а, наоборот, все росло и росло в соответствии с получаемой из Москвы разнарядкой на поставку рабочей силы в трудовые лагеря. И потому со своими врагами эта власть расправлялась со стальной твердостью товарища Сталина – во время коллективизации 1928–1929 года органами ОГПУ было подавлено в СССР более 13 000 бунтов, осуждено на тюрьмы и лагеря 2 026 800 человек и изъято больше миллиарда пудов хлеба. Одним из самых активных борцов с врагами советской власти был Семен Кривонос, тридцатилетний большевик и герой Гражданской войны. Когда в мае 1925 года полторы тысячи полтавских безработных громили здание исполкома, он сам примчался туда на тачанке с пулеметом и несколькими очередями в воздух разогнал толпу. За что и получил от Дзержинского красные штаны-галифе, которые носил теперь только по праздникам и особым случаям. С такой же решительностью и отвагой он разбирался с арестованными кулаками, меньшевиками, троцкистами, незалежниками-петлюровцами и бывшими белогвардейцами.
Но Мария этих несчастных не видела – к семи утра она заканчивала уборку и с мешком стирки уходила домой задолго до того, как из двух полтавских тюрем, что на улицах Пушкина и Фрунзе, привозили и приводили на допрос первых арестантов.
Правда, недели через две, в шесть утра, когда Мария заканчивала мыть пол в кабинете Кривоноса, он собственной персоной шагнул через порог. На нем была белая косоворотка (выстиранная и выглаженная Марией еще три дня назад), красные галифе (тоже выстиранные Марией) и до блеска начищенные хромовые сапоги. Кивком отправив из кабинета колченогого Охрима, он сел за свой стол и стал смотреть, как Мария домывает пол. Поскольку с мокрой и тяжелой, из мешковины, тряпкой приходилось нагибаться до пола, Мария физически ощущала цепкий взгляд Кривоноса на своих ягодицах и бедрах.
– Ну, хватит вже мыть! – не выдержал он. – Иди до мэнэ!
Мария с первого дня знала, что рано или поздно такой момент наступит. Магнетическую силу своей фигуры знает каждая красивая женщина, и Мария убеждалась в этом всякий раз, когда шла по полтавским улицам. Нет, она не считала себя красавицей, но что-то в ее походке, стройной фигуре, крутых ягодицах, высокой груди, гордо поднятой голове, ярких глазах и пшеничной косе – что-то во всем этом было такое, от чего мужики не могли оторвать глаз, даже когда шли под руку со своими женами. Теперь она медленно выпрямилась и, глядя Кривоносу в глаза, с силой выжала в ведро черную воду из половой тряпки. С этой тяжелой, мокрой, свернутой жгутом тряпкой Мария стояла и ждала – если он подойдет и попробует взять ее силой…
Но он не подошел. И даже не повторил своего требования.
Мария нагнулась, взяла дужку ведра и, не сгибаясь от его тяжести, вышла из кабинета. Босая, с тяжелым ведром в руке она все равно шла той самой своей походкой, которая, как магнитом, всегда притягивает мужские взгляды. И она знала, чувствовала, как Кривонос смотрит ей вслед…
Когда через час она домывала пол на первом этаже, к ней, гулко стуча сапогами, сбежал по мокрой лестнице Микола Гусак, адъютант Кривоноса. Мария была уверена, что сейчас он объявит об ее увольнении. И только гадала – заплатят за две недели работы или уволят, не заплатив ни гроша?
Но вместо увольнения Микола вручил ей заборную книжку с продовольственными карточками второй категории.
– Шоб ты знала, – сказал он, – з согодняшнего дню ты советска служаща! А скоро и паспорт получишь!
Получение продовольственной карточки второй категории, по которой Мария, как служащая, имела теперь право на покупку трехсот граммов хлеба в день (к первой категории относились только рабочие) и еще по двести граммов на иждивенцев (дочку и мать), плюс двести граммов жиров и литр подсолнечного масла в месяц, означало спасение от наступающего голода!
А ведь она так и не «дала» Кривоносу! Ну, разве ж это не чудо?
3
Конечно, одним заходом посягательства Кривоноса на женские прелести Марии не ограничились. Но если он входил в кабинет тогда, когда Мария мыла пол, она тут же подхватывала ведро с водой и уходила, оставив пол недомытым. Кривонос молча смотрел ей вслед и, вздохнув, садился за свой стол читать очередные указания руководства ОГПУ и писать этому руководству свои донесения:
В Полтаве на заборах кирпичного завода и мукомольной фабрики обнаружены листовки следующего содержания:
«Братья, тяжелое время на Украине. Палачи грабят, обдирают и нашим народом тюрьмы заполняют. Сибирь взрыта могилами, где лежат замученные наши братья. Оставшийся народ замучен голодом, босый и голый, молчит и терпит нужду. Ждет откуда-то спасения, а комиссары и коммунисты над вами смеются. Люди, люди, что вам будет, когда хлеб поспеет. Вас обдерут комиссары, оставят голых, босых и голодных. Пора, братья, давать палачам отпор. Не давайте хлеба, требуйте сапог, одежды. Рабочие, спасайте себя, бросайте работу, требуйте хлеба, одежды, и мы придем на помощь и выручим вас. Красная армия, не бейте братьев, палачи ограбили ваших отцов и вас грабят. “Махновский совет”».
«Товарищи, страна наша превратилась в разряженную тощую девицу, жизнь которой сочтена и спасти которую можно не поддельными нарядами, а свежей переменой атмосферы. Да здравствуют грядущие бои, да здравствует угнетенный хлебороб и обманутый рабочий! Да здравствует вольная мысль! Долой опекунство партии! “Бюро Правых и Левых Эсеров”».
«Товарищи крестьяне! Вот уже несколько лет, как наша страна наглухо прикрыта чугунным колпаком диктатуры, под которым задыхается все живое. Ни в одной стране Европы положение крестьянина не является столь безотрадным, как в СССР. В Дании, например, половина крестьянских хозяйств имеет по пяти коров и больше. А у нас в стране не только такие хозяйства, но даже менее мощные немедленно объявляются кулацкими, и против них начинается травля. Их владельцев лишают избирательных прав, облагают непомерным налогом, исключают из школ их детей. У нас надо быть нищим, бедняком, полупролетарием, живущим за счет кредитов от государства и не платящим никаких налогов, – только тогда будешь считаться опорой Советской власти. Политика Батыя во времена татарского нашествия была разумнее политики Советского правительства. А вспомните, что обещало вам это правительство в первый год революции. Обещало свободу и равенство (дало рабство и бесправие). Обещало довольство и сытость (дало небывалую бедность и безработицу). Обещало радость и братство (дало уныние, ненависть и злобу). Товарищи крестьяне! Коммунистическая партия правит от имени рабочих, но она их не спрашивает. Сталин и Молотов правят от имени коммунистической партии, но они ее тоже не спрашивают, действуя через продажного партийного чиновника. Сама коммунистическая партия впитала в себя сейчас столько подхалимов и проходимцев, что стала сборищем всякого сброда, который душит голоса и действие оставшихся честными чудаков-коммунистов. Такая партия – стадо, готовое повиноваться кнуту любого погонщика. Для большинства нынешних коммунистов партийный билет является продовольственной карточкой. И вот такая-то партия строит социализм. Товарищи крестьяне! Политика Сталина провоцирует гражданскую войну. Власть натравливает одну часть деревни против другой и на этой розни хочет держаться, как царизм на еврейских погромах. Не поддавайтесь провокации. Готовьтесь к борьбе за все то, что отняло у вас существующее правительство. Дни сталинской диктатуры сочтены. Сталинского социализма наша страна больше не хочет, как не захотела его Европа. Долой диктатуру! Да здравствует власть свободно избранного собрания народных делегатов! “Союз Освобождения России”».
В связи с появлением таких листовок оперативными действиями Полтавского ОГПУ при массовой операции по белой контрреволюции арестован бывший помещик Гудим-Левкович, который показал о наличии в г. Полтаве с 1926 г. контрреволюционной офицерской организации «Союз Освобождения России». Организация делала ставку на военное выступление Польши совместно с белоэмигрантскими войсками. Гудим-Левкович дал показания о руководстве организации – Руководящем комитете в составе двух бывших офицеров Мамчура, Ушацкого и бывшего крупного собственника Орурка. Уделялось особое внимание вовлечению в контрреволюционную работу учащейся молодежи. «Комитет» был связан с Москвой, Ленинградом и Харьковом, отдельные члены организации выезжали с заданиями в села Полтавского и Киевского округов и в Одессу. Гудим-Левкович показывает о связях организации с французским посольством в Москве, которое якобы было в курсе деятельности организации, давало указания и снабжало средствами. Сам Гудим-Левкович якобы получал для организации из посольства 400 долларов и был связан с секретарем посольства Верленом. Ведется интенсивная работа по проверке показаний Гудим-Левковича…
Одновременно совместными действиями Полтавского и Харьковского ОГПУ вскрыта эсеровская повстанческо-террористическая организация «Областное объединенное бюро правых и левых эсеров». Организация проводила вербовочную работу, были созданы диверсионные группы, в Оргбюро разрабатывались планы терактов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства. Отдельные члены организации, работая на ответственных должностях, проводили вредительскую деятельность для осуществления своей конечной цели – вооруженного свержения Советской власти, для чего изыскивали пути установления контактов с правящими кругами фашистских стран – Германии, Польши, Японии. На сегодняшний день арестованы все члены Оргбюро в количестве 17 человек и еще 79 завербованных (поименный список прилагаю)…
Устав от этой работы, Кривонос выходил из кабинета на лестницу, закуривал и молча наблюдал, как внизу Мария домывает пол в коридоре на первом этаже.
Неизвестно, чем бы закончилась эта молчаливая игра, если бы весной 1930 года Кривоноса самого не арестовали по громкому делу «Союза вызволения Украины», который, оказывается, «имел целью свержение советского правительства и превращение Украины в буржуазную страну». Как сообщили газеты, все сорок обвиняемых признали себя виновными, однако, «принимая во внимание их искреннее раскаяние на суде», смертная казнь была заменена восемью годами лишения свободы. Порой, в начале тридцатых, советская власть еще проявляла великодушие…
Впрочем, по пятнам крови на стенах и на полу в кабинетах следователей ГПУ Мария уже знала, как признают себя виновными любые обвиняемые. И хотя теперь та же участь постигла самого Кривоноса, который не только раскулачивал полтавских крестьян, но, возможно, принимал участие в расстреле ее мужа и свекра, Мария не чувствовала никакого удовлетворения от его ареста. Наоборот, она навсегда запомнила взгляд, которым Кривонос посмотрел на нее, когда прибывшие из Харькова оперативники областного ГПУ повели его мимо нее по лестнице, которую она домывала. В этом взгляде было все, что может сказать мужчина отказавшей ему женщине, когда его с заломленными за спину руками уводят от нее навсегда, на смерть – и укор, и прощанье, и какой-то мгновенный, как вспышка магния, охват всей ее фигуры, лица, глаз и даже половой тряпки у нее в руках. Ей показалось, что мысленно он просто поднял ее на руки и унес с собой – на пытки, на суд, в сибирский лагерь…
И еще долго после этого, еще, наверно, много месяцев Мария, лежа без сна со своей двухлетней дочкой, вспоминала этот взгляд и думала: а шо було бы, як бы она уступила Кривоносу? Нет, не в первый, конечно, раз, а потом, после…
После Кривоноса, с 1930 по 1938 год, в Полтавском районном ГПУ сменилось четыре начальника, и каждый из них, конечно, претендовал на Марию, а двое даже силой пытались овладеть ею, но она отбилась и отказала им всем. И не потому, что записала себя в монашки, а просто каждый раз вспоминала тот взгляд Кривоноса. И в этой ее упертости была какая-то особая, чуть ли не назло самой себе, принципиальность: уж если я тому не дала, то этим и подавно!
4
Между тем время текло, как вода в ручье, который по весне заполнял Лавчанские Пруды. Летом к одному из таких прудов, северному, трехлетняя Оксана спускалась сначала с матерью, бабкой и с мешком одежды гэпэушного начальства. Тут они втроем и купались, и плавали, и стиркой занимались. А потом, когда Оксана стала подрастать, а бабушка перестала ходить в церковь, поскольку большевики все церкви закрыли, согнулась и даже с палкой не решалась спускаться с обрыва, стиркой уже занимались только Мария и Оксана. Зато плавать Оксана здесь научилась – просто как русалка! С любой высоты ухнет в воду и – нет ее! Минуту нет, полторы – у Марии уже сердце останавливалось, пока эта озорница не выскакивала из воды в совершенно неожиданном месте – возле одной не то пещеры, не то землянки, оставшихся еще с Первой мировой войны…
В начале двадцатых годов в ближайшей к Полтаве западной деревне Пушкаревке были вместо срытых церкви и монастыря построены открытые, окруженные земляными валами стрельбища 73-го полка Красной армии, а в трех километрах на север от Прудов стал строиться аэродром. Точнее, поначалу там было просто поле для планеристов ОСОАВИАХИМа, затем появилась Всеукраинская школа летчиков, потом – единственные на всю страну Высшие курсы штурманов ВВС, а в конце тридцатых – уже полноценный аэродром с твердым покрытием для тяжелых самолетов 1-й Авиационной армии особого назначения. То есть для бомбардировщиков. Первые пару лет жители тихих Прудов глухо роптали на эхо снайперской стрельбы, долетавшее к ним с Пушкаревского стрельбища, и, особенно, на ревущую в небе авиацию. Но затем как-то привыкли к взлетающим над их головами двухмоторным бомбардировщикам Петлякова Пе-2 и четырехмоторным тяжелым бомбардировщикам Туполева ТБ-1, а подрастающая Оксанка и другие подростки даже радостно выбегали из хат и махали летчикам платками, косынками и пионерскими галстуками. Пионерская организация, советский вариант скаутов, возникла в СССР в 1922 году по инициативе жены Ленина Надежды Крупской, а с тридцатых годов участие в пионерских организациях, руководимых сталинской партией ВКП(б), стало обязательным для всех школьников в возрасте от семи лет. Дети, с их природной склонностью к стадности, с удовольствием маршировали под партийные гимны и легко усваивали большевицкие грезы о скором построении коммунистического рая…
Однажды, летом 1939-го, под рев взлетающей эскадрильи ТБ-1 (от их грохота даже вишни в садах усыпали землю крохотными белыми лепестками) неслышно открылась калитка, и во двор вошел коротко стриженный, с седым бобриком мужик в сером потертом пиджаке, парусиновых брюках и с фибровым чемоданчиком в правой руке. Мария, возившаяся в огороде, выпрямилась, всмотрелась и узнала его – Кривонос!
Какое-то долгое – почти вечное – время, пока одиннадцатилетняя Оксана дергала мать за руку и спрашивала «Мамо, хто цэ е?» – они пристально рассматривали друг друга. Затем он поставил чемоданчик на землю, подошел, хромая, к Марии и Оксане и сказал:
– Ну, здрасти, дивчата. Дозвольте доложить? Судимость с меня снята, в партии восстановлен. Имею два назначения на выбор – в Харьковское ГПУ и в Криворожское. Но если вы меня примете, то зостанусь в Полтаве.
– Маты, хто цэ е? – снова нетерпеливо спросила Оксана.
– Хто? – пришла в себя Мария. – Твiй новый батько, ось хто.
5
«Нового батьку» Оксана не приняла. Хотя она никогда не видела родного, не сидела у него на плечах и не гордилась, как ее школьные подружки, заслугами отца перед советской властью, а, наоборот, должна была скрывать, что она дочь раскулаченного, и везде говорить и писать, будто ее отец «пропал без вести», она не приняла Кривоноса совсем по другой причине. Ей было уже одиннадцать, и все эти одиннадцать лет она была единственной и безраздельной владычицей над своей матерью и бабкой. Больше того: угловатая, конопатая, вечно в каких-то царапинах и синяках из-за лазанья с пацанами по чужим садам и зарослям камыша и бурьяна, заполонившего крутые склоны Лавчанских Прудов, она все равно была принцессой в своей хате, а когда садилась обедать с бабушкой и мамой, то сразу за бабкиной молитвой «И хлiб наш насущний даждь нам днєсь… бо Твоє є Царство і сила і слава навіки, амінь!» мать и бабушка раскладывали еду, начиная с ее тарелки. И неважно, что то были только картошка и огурцы, выращенные на своем огороде, или борщ из крапивы и бурака. Главное: ей, Ксаночке, всегда доставался первый черпак и самый вкусный кусок…
А тут вдруг невесть откуда появился мужик, который не только по-хозяйски садился во главу стола, но которому и бабуля, и маты стали накладывать первые порции. Правда, с появлением Кривоноса стол в их хате преобразился. В лагере, после того, как на лесоповале упавшим бревном ему сломало ногу, Кривонос освоил бухгалтерскую профессию и теперь устроился счетоводом в местную заготконтору по обеспечению продовольствием всех служб Полтавского аэродрома, – да, теперь на их столе кроме картошки и пустого крапивного борща появились и мясо, и гречневая каша с топленым маслом, и вареники, и клецки из настоящей пшеничной муки, и даже шоколад «Аврора», который входил в питательный рацион первых советских летчиков. А потом стараниями и давними знакомствами Кривоноса до Лавчанского тупика добралось по столбам даже электричество и радио! И теперь керосиновая лампа не чадила в потолок, а радиоточка каждый день сообщала о загнивании мирового империализма, нерушимой дружбе Иосифа Виссарионовича Сталина и Адольфа Гитлера, присоединении Восточной Польши и Бессарабии к братскому союзу советских народов и триумфальном шествии по стране стахановского движения – к 1939 году оно охватило не только всех рабочих страны Советов, но и сотрудников НКВД, которые по-стахановски перевыполняли теперь планы по арестам шпионов и врагов народа.
Прошедший лагерную закалку «новый батько» никак не комментировал эти радостные сообщения и победные марши.
- В целом мире нигде нету силы такой,
- чтобы нашу страну сокрушила, —
- с нами Сталин родной, и железной рукой
- нас к победе ведет Ворошилов!..
Молча слушая репортаж из Брест-Литовска о совместном параде немецких и советских войск, «освободивших город от польских помещиков и капиталистов», – параде, который принимали «генералы-побратимы» выпускники Рязанского танкового училища Хайнц Гудериан и Военной академии имени Фрунзе Семен Кривошеин, – Кривонос, сжав зубами цыгарку, с каким-то злым остервенением чинил полусгнившую в конце двора беседку, посадил вокруг нее сирень и вишню, а за ними – в самом дальнем углу двора – покрыл крышей дощатый, как скворечня, нужник.
Да, как ни крути, а именно его трудами в их маленькой хате жизнь, как сказал бы товарищ Сталин, стала лучше, жить стало веселее. Однако в первый же день появления этого Кривоноса Оксану вдруг перевели из маминой кровати на раскладушку в бабушкину комнату! И по вечерам он, обняв мать за талию (а то и еще ниже!), владыкой уводил ее на «их половину» и еще закрывал за собой дверь!
А в свои одиннадцать Оксана уже знала, что это значит – и школьные подруги, и рисунки в школьном сортире давно объяснили ей, как и откуда дети берутся. И не раз по ночам, разбуженная скрипом материнской кровати и зажатыми материнскими стонами, Оксана на цыпочках подкрадывалась к их половине и прикладывалась ухом к двери. Что этот злыдень делал там с мамой, отчего она так сладко стонет и просит: «Да… да… Щэ… щэ… Нэ зупыняйся!..»?
Оксана любила мать. Нет, «любила» – это не то слово. Она обожала ее всем своим горячим маленьким сердцем. Когда они ложились вместе спать, то самым высоким, самым теплым и нежным моментом прошедшего дня была минута полного счастья – обнять маты, уткнуться головой в теплую грудь, глубоко вдохнуть медовый запах и всем худеньким тельцем прижаться к ее большому горячему телу. И так – совершенно счастливой – расслабиться и заснуть в безопасном коконе материнского тепла, чтобы утром проснуться вместе с ней, любимой…
Кривонос лишил Оксану этого счастья. Теперь там, за плотно закрытой дверью, на той же материнской кровати не Оксана прижималась к матусе, а этот хромой Кривонос. Да так крепко прижимался, что кровать скрипела и даже стукалась спинкой о стену… А потом там щелкала зажигалка, через закрытую дверь тянуло папиросным дымом, и слышен был прокуренный голос:
– Цэ чудо, шо меня в тридцатом арестовали. А кабы сейчас? Живым бы не вышел…
В старой бабушкиной хате было, если не считать холодных сеней, всего три комнаты – кухня с кирпичной печью, которую топили кизяком, дровами и углем, горница-вiтальня в три окна, прилегающая к тыльной стороне печи (здесь теперь спали бабушка и Оксана), и спальня, обогреваемая третьей стенкой печки. Под низкими, крапленными мухами потолками каждый звук, даже стрекот сверчка, расходился по всей хате.
– Тихо, – шепотом просил из спальни голос матери. – Ксанка не спит.
– Да спят они обе! – громко, в полный голос отмахивался Кривонос и продолжал о сокровенном: – За то время, шо я в лагере був, в НКВД вже три чистки було. И всех без разбору к стенке ставили…
Недослушав эти уже неинтересные ей разговоры, Оксана уходила на свою раскладушку и под громкий, с присвистом бабушкин храп долго не могла заснуть, нянча в душе сладостный материнский стон «Да… Щэ, Семен, щэ… Нэ зупыняйся!..» и обдумывая планы мести им обоим…
Между тем, с тех пор как у них поселился Кривонос, мать оставила работу поломойки в ГПУ-НКВД и расцвела, как роза из бутона – раздобрела в бедрах и груди, округлилась лицом и даже туфли себе на рынке купила – лодочки-лакирашки. Но что же он делал с ней по ночам такого, что она и днем, при дочке и матери своей, миловалась с ним, прижималась к нему то бедром, то плечом, а то ногой под столом?
Не в силах больше терпеть материнскую измену, Оксана наказала ее – вместо школы сбежала на пруд и сховалась-спряталась в прибрежных зарослях. Летом склоны холмов у Лавчанских Прудов так зарастали крапивой и высоким, выше человеческого роста, бурьяном, что даже собаки в них не совались. Но дети… Местные пацаны уже давно нашли тут обвалившиеся лазы, и теперь Оксана мстительно забилась в один из них и жадно ловила громкие крики матери, которая бегала по берегу пруда и звала: «Оксана! Ксана! Убью засранку!..» Нет, Ксана не вышла на эти крики, не отозвалась. И только к вечеру, проголодавшись, тихо пробралась к своей хате и, помня, что мать собиралась убить ее, выдрать, как сидорову козу, укрылась, зареванная, в беседке, отремонтированной Кривоносом. А мать – даже не ударила! А села рядом, обняла и прижала к себе, да так, что у Оксаны слезы брызнули из глаз, всю мамкину блузку намочили…
С тех пор за обедом и ужином Оксана ревниво, а порой и кокетливо поглядывала на своего «нового батьку». Она входила ту пору, когда девочки еще неосознанно становятся конкурентками своим матерям.
Однако «батькой» Оксаны сорокалетний Кривонос пробыл недолго.
На рассвете 22 июня 1941 года они проснулись от ужасного грохота. Никогда, даже в самую ужасную грозу, земля так не сотрясалась и небо так не гремело. Испуганно выскочив из хаты, они увидели, как несколько самолетов со свастикой на крыльях с надсадным воем ныряют с неба в пике на соседний аэродром. А у земли, на выходе из пике, от них отрываются тупорылые черные бомбы и летят на склады горюче-смазочных материалов и на прижавшиеся к бетонным стоянкам советские Пе-2 и Як-1 – бомбардировщики и истребители. И тут же – жуткие, ужасающие взрывы, столбы пламени и черного дыма, ошметки стали и алюминия. От каждого взрыва сотрясались все полтавские хаты и садовые деревья усыпали землю неспелыми плодами.
– Немцы! Фашисты! – орал полуголый, в одних трусах, Кривонос. В ярости он бил искривленной ногой по забору и уже не сдерживал в себе все, что за лагерный срок накопил к товарищу Сталину: – Мудак, бля! Сука! Бандит кавказский! Знал же, что нападут, а приказал снять пушки со всех самолетов! Нам даже стрелять нечем!
А фашистские самолеты продолжали с воем пикировать на аэродром и совершенно беспрепятственно гвоздить и гвоздить его бомбами.
И так было повсеместно! Помня, как легко досталась большевикам власть в поверженной Германией России и ожидая подъема революционной ситуации в поверженной Гитлером Европе, Сталин всячески способствовал его триумфальным наступлениям – танки Хайнца Гудериана катили по Франции на советском топливе (в 1941 году СССР поставил немцам 232 000 тонн нефти); немецкие бомбы, которые сровняли с землей Роттердам, были начинены советским пироксилином, а во время гитлеровского блицкрига в Норвегии, Голландии и Бельгии Германия получила от СССР 23 500 тонн хлопка, 50 000 тонн марганцевой руды, 67 000 тонн фосфатов, 4000 тонн каучука и 600 килограммов платины. «В мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть, – просвещал Сталин членов своего Политбюро в августе 1939 года. – Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию…» И сразу после этого, в сентябре 1939 года, когда немецкие подводные лодки топили английские лайнеры, а Британия объявила морскую блокаду Германии, СССР напал на Польшу и открыл Гитлеру право транзита через свою территорию товаров для торговли с Ираном, Афганистаном и странами Дальнего Востока. «Ожидая своего часа, СССР будет оказывать помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и продовольственными товарами… В побежденной Франции… – продолжал прогнозировать вождь, – коммунистическая революция неизбежно произойдет, и мы сможем использовать это обстоятельство для того, чтобы прийти на помощь Франции и сделать ее нашим союзником. Позже все народы, попавшие под “защиту” победоносной Германии, также станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции».
Действительно, если ради русской революции Ленин помог немцам сокрушить царскую Россию, то почему бы теперь «для развития мировой революции» не помочь Гитлеру сокрушить Францию и Англию? И, «ожидая своего часа», Сталин к лету 1941 года довел советские поставки зерна в Германию до максимума – 208 000 тонн! Таким образом, даже во время наступления на СССР немецкие солдаты жрали советский хлеб! А оболочки пуль, которыми они убивали наших солдат, были отлиты из советского медно-никелевого сплава – накануне войны немцы получили от СССР 8340 тонн этого металла! Но и это не все! 18 июня 1941 года, то есть за четыре дня до гитлеровского вторжения, вся артиллерия Красной армии стала по приказу Сталина переходить на летнюю смазку, для чего с самолетов сняли пушки и пулеметы и разобрали даже орудия ПВО. Именно в те дни, когда радио на всю страну пело «Если завтра война… если темная сила нагрянет…», небо над страной оказалось без всякого прикрытия, и всего за трое суток – с 22 по 24 июня 1941 года – немецкие бомбардировщики беспрепятственно уничтожили все военные аэродромы и 4317 боевых самолетов! После чего пилоты люфтваффе легко перешли к уничтожению советских военных заводов и железнодорожных узлов. В Полтаве они разбомбили электростанцию, паровозное депо и машиностроительный завод.
Во время самой первой бомбежки Оксана с бабушкой, визжа от страха, сиганули в подпол и укрылись там под его деревянной крышкой. Но в подполе оказалось еще страшнее – темно, глиняные стены трясутся и трескаются от близких взрывов, а когда кринки с молоком и сметаной грохнулись с полки и разбились, Оксана в ужасе решила, что это бомба попала в дом, и закричала так, что… вдруг стало совершенно тихо. Просто тихо и все. И совсем не страшно. Правда, странно, что мама, отбросив деревянную крышку подпола, открывает рот и, наверное, зовет их с бабушкой выходить, но она, Оксана, ничего не слышит и почему-то ничего не может сказать.
Так товарищ Сталин второй раз вмешался в судьбу неизвестных ему Марии и Оксаны – из-за его союза с Гитлером тринадцатилетняя Оксана оглохла и онемела во время немецкой бомбежки на рассвете 22 июня 1941 года. Правда, глухота через несколько дней прошла, и слух вернулся, а вот немота осталась. И сколько не пытались мама, бабушка и Кривонос выпросить у нее хоть слово, Оксана только давилась онемевшим горлом и не могла выдавить из себя ни звука.
Через неделю, 28 июня, Семена Кривоноса вызвали в Полтавский горком партии и, как офицера запаса, направили, несмотря на хромоту, политруком на паровозоремонтный завод для ударного строительства бронепоезда. Через полтора месяца бронепоезд был готов, на паровозе и четырех вагонах белыми аршинными буквами было выведено гордое имя «Маршал Буденный». Утром 15 августа на перроне Южного вокзала духовой оркестр Полтавской музыкальной школы играл «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!». После чего секретарь Полтавского горкома сказал с паровоза короткую речь «за геройскую победу над проклятым врагом», спрыгнул на землю и дал отмашку машинисту. Кривонос обнял мать Оксаны, поцеловал ее в губы, потрепал Оксану по волосам и запрыгнул на подножку уходящего бронепоезда.
– Семен, ты ж инвалид, навищо ты йдеш? – умоляла Мария, идя рядом и держа его за руку.
– Так я ж построил цэй бронепоезд! – объяснил он и выдернул руку.
А через три дня, 18 августа 1941 года, в районе станции Анновка бронепоезд «Маршал Буденный» был в упор разбит немецкой артиллерией. Политрук-комиссар Семен Кривонос погиб от прямого попадания снаряда.
Но полтавчанки, проводившие бронепоезд на фронт, еще не знали о гибели своих мужей и братьев. По решению горкома партии все полтавчане и даже подростки – 83 700 человек – были призваны на строительство оборонительных сооружений – траншей и дзотов для пушек и пулеметов. При этом каждый мобилизованный был обязан иметь при себе лопату, топор, две пары белья, теплую одежду, а также кружку и ложку. Правда, бабушке Фросе ничего этого не понадобилось – 25 августа, в первый же день работ, когда на западной окраине города Мария, Оксана и другие женщины копали яму для пулеметного дзота, бабуля, тихо помолившись, легла на дно свежевыкопанной траншеи и уже не встала…
Да и вся эта каторжно-патриотическая работа женщин, стариков и детей оказалась зряшной – в августе 1941 года, когда Сталин запретил эвакуацию Киева и приказал войскам Юго-Западного фронта стоять насмерть, немцы просто смели (или рассеяли) четыре армии этого фронта численностью в 700 000 человек и беспрепятственно двинулись дальше. Да, в первые два месяца войны только на отдельных участках – Брестская крепость, Могилев и еще нескольких – немцы наткнулись на сопротивление. А в целом, всюду царил такой хаос и такое бегство и дезертирство, что фашисты сквозняком летели до Смоленска и Ельни, говоря «впереди нет врага, а позади нет тыла» – обозы с продовольствием даже не успевали за их войсками. Тем, кто хочет убедиться в «гениальности» нашего «эффективного менеджера», готовившего страну к мировой революции песнями «Броня крепка и танки наши быстры» и обещаниями «сокрушить врага могучим ударом», полезно сравнить всего две цифры официальной статистики: на момент нападения на СССР «боевой и численный состав вооруженных сил фашистской Германии составлял 5,2 млн человек», а «личный состав, находившийся в советских вооруженных силах – 5,68 млн человек». И затем прочесть докладную Леониду Брежневу маршала Ивана Конева, опубликованную его писарем: «За три дня, к 25 июня, противник продвинулся в глубь страны на 250 километров. 28 июня взял столицу Белоруссии Минск. Обходным маневром стремительно приближается к Смоленску. К середине июля из 170 советских дивизий 28 оказались в полном окружении, а 70 понесли катастрофические потери. В сентябре этого же 41-го под Вязьмой были окружены 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артполк Резерва Главного командования и полевые Управления четырех армий. В Брянском котле очутились 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артполков и полевые Управления трех армий. Всего же в 1941-м в окружение попали и не вышли из него девяносто две из ста семидесяти советских дивизий, пятьдесят артиллерийских полков, одиннадцать танковых бригад и полевые управления семи армий».
Поскольку от этих цифр рябит в глазах, вот более литературное свидетельство из книги Константина Симонова «Сто дней войны»: «Они [немцы] успели за двадцать девять дней войны пройти по прямой с запада на восток 650 километров… Стремительно прорвавшись от Шилова к Смоленску и от Быхова в тылы наших 13-й и 4-й армий, немцы совершенно внезапно для армий Резервного фронта в ряде пунктов выскочили туда, где эти армии еще только-только заканчивали занятие оборонительных рубежей… Бои в районе Ельни [310 км от Москвы] были тяжелыми… Бесконечные потоки беженцев, гражданского населения с запада на восток стекались с широкого фронта к Соловьевской переправе. Это были старики, подростки, женщины с котомками за плечами и детьми на руках. Переправа никакого прикрытия с воздуха не имела. Поэтому фашистские летчики с бреющего полета расстреливали людские потоки, а переправу непрерывно бомбили… Жутко и обидно было смотреть на это… Жутко – от варварства немецких летчиков, а обидно – как же мы смели это допустить, почему же мы не можем защитить свой народ? Мне и сейчас еще видятся: окровавленная умирающая женщина, чуть вылезшая из воды на берег, а по ней ползает грудной ребенок, тоже окровавленный, а рядом с оторванной ногой истекает кровью трех-четырехлетний ребенок…»
Думаю, даже трех этих цитат достаточно, чтобы убедиться, как с первых дней войны кремлевский «эффективный менеджер» бездарно и преступно обрек на гибель миллионы наших отцов и дедов – в среднем по 20 869 человек в сутки выбывало из строя Красной армии. Из них около 8 тысяч человек – безвозвратно…
Впрочем, Константин Симонов, которого я имел удачу видеть в «Литературной газете» в пору своей журналистской юности, был в первые дни войны на Западном фронте. А действие моей повести разворачивается южнее, на Украине…
Утром 18 сентября 1941 года фашисты вступили в Полтаву. Двести с чем-то лет назад, в 1709 году, Петр Первый остановил и разгромил здесь шведскую армию. Но немцы, в отличие от шведов, никакого сопротивления тут не встретили, потому что накануне все городские партийные, хозяйственные и милицейско-гэпэушные начальники бежали из города. Воспользовавшись безвластием, полтавчане весело били витрины брошенных магазинов и грабили все, что попадалось под руку: спички, соль, сахар, муку и другие продукты. Охрана двух тюрем на улицах Фрунзе и Пушкина разбежалась, и уголовники, которые находились там, пополнили ряды мародеров. Кондитерская фабрика напоминала улей: тысячи полтавчан заполнили ее цеха, хватая все – повидло, варенье, патоку несли домой в ведрах, тазах, коробках и даже в кульках, сделанных из советских газет.
6
Почти все, кто остался на завоеванной немцами Украине, приняли их, как освободителей от сталинского режима, подарившего стране гражданскую войну, продразверстку, карточную систему, ГУЛАГ и такой голодомор, что в 1933 году люди на Украине доходили до людоедства, а кое-где даже матери поедали своих детей. «Пусть будут немцы, только бы не Советы – хуже все равно не будет», – было общим мнением тех дней. Зная об этом, Гитлер в своем «Обращении к украинскому народу», которое тысячами листовок сыпалось с неба перед вступлением немецких войск, пообещал «всем подневольным трудящимся народам Советского Союза принести на их землю социальную справедливость, порядок, хлеб и настоящий социализм». И теперь пожилые крестьянки падали на колени перед проезжавшими в машинах и на мотоциклах немецкими офицерами-освободителями и целовали им ноги. На окраине Полтавы группа девчат в белых вышитых блузках и двое парней в цветастых украинских сорочках поднесли хлеб-соль немецким арьергардным мотоциклистам. На улице Фрунзе, по которой немцы вошли в Полтаву, стояло настоящее ликование. Люди дарили пришедшим солдатам только что награбленные детские игрушки, цветы, пестрые косынки. Кепки и шапки радостно взлетали в воздух, люди кричали «Ура!», многие крестились. В газете «Лохвитское слово» украинский поэт Яков Вышиваный опубликовал оду «Адольфу Гітлеру», в ней говорилось:
- Тобі, великий Визволитель,
- Що пекло ката розтрощив,
- Тобі народ – о, наш учитель, —
- В пошані голову схилив.
В спешно открываемых церквях священники возглашали: «Настал день, ожидаемый народом, который ныне воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы… Древний Киев светло торжествует свое избавление как бы из самого ада преисподнего. Освобожденная часть народа повсюду уже запела “Христос Воскресе!”».
Поняв силу духовенства на завоеванных землях, немцы не только разрешали открытие православных храмов, но и финансировали их восстановление. В 1941–1942 годах с помощью немцев на захваченных ими территориях было открыто больше семи с половиной тысяч церквей, в которых священники и толпы прихожан ежедневно совершали молебны «о даровании Господом сил и крепости германской армии и ее вождю для окончательной победы над советским адом…»
19 сентября, на следующий день после вступления немцев в Полтаву, Мария разбудила дочку в пять утра.
– Вставай, доча. Пишлы на работу.
Оксана изумленно глянула на мать: яка работа? Чому?
– Тому що житы треба шо при коммуняк, шо при нiмцiв. Нiмцi даже бiльше чiстоту шануют…
Мария взяла ведро и половую тряпку и пошла с Оксанкой на Жовтневу улицу в то самое двухэтажное здание, где раньше находилось Полтавское управление ГПУ-НКВД. Хотя утреннее солнце светило и грело совсем не по-осеннему, и сады за заборами душно пахли спелыми яблоками и грушами, а уличные каштаны то и дело роняли на тротуары мягко-колючие зеленые бомбочки, из которых выпадали глянцевито-коричневые плоды, город еще не проснулся, не то отдыхая после загульного праздника освобождения от большевиков, не то в каком-то выжидании. На окраинных улицах старухи не собирали, как обычно, коровьи плюхи для сушки на кизяк, на перекрестках не было привычных очередей у водопроводных колонок, и даже собаки не лаяли из-за заборов. А освободители, допоздна отмечавшие свою победу, сладко спали в домах бывших партийных бонз на их пуховых перинах…
Мария и Оксана дошли до Корпусного сада и вошли в знакомый двухэтажный особняк. Как мать и предполагала, здесь царил полный разгром – грязь и обгорелый бумажный мусор в коридорах, двери всех кабинетов распахнуты настежь, в кабинетах все шкафы открыты, на полу – груды пепла от сожженных документов на расстрелянных «по первой категории» и сосланных «по второй категории», а на стенах – забытые портреты Сталина и Дзержинского.
Мария сняла портреты, вымела их вместе с мусором в коридор, а из коридора во двор. После чего выдала Оксане вторую половую тряпку и вдвоем с дочкой стала мыть полы.
Через час, когда они уже мыли лестницу со второго этажа на первый, с улицы послышался шум мотора, там остановился «Опель»-кабриолет, и малорослый толстяк в зеленых погонах штабс-офицера, сняв офицерскую фуражку, и утирая потный лоб, вошел в здание. Увидев Марию и тринадцатилетнюю Оксану, моющих ступеньки, он изумленно остановился и спросил на чистом украинском языке:
– Шо ви робитэ?
Мария выпрямилась и усмехнулась:
– А вы нэ бачите? Полы моем…
– А вы хто? Шо тут було?
– НКВД. Я тут вбыраюсь з двадцать девьятого року.
Толстяк молча поднялся на второй этаж, осмотрел все кабинеты – чисто убранные, с вымытыми полами – и спустился на первый, где Мария и Оксана, как ни в чем не бывало, продолжали убирать очередной кабинет.
– Як тебе звати?
– Мария Журко…
– Розумна жинка. Тут в нас будэ гебисткомиссариат. Будеш тут прибирати і отримувати зарплату. Дивчину сюды нэ таскай, нэ трэба.
– Дякую. А як вас звати?
– Я гебисткомиссар Панас Гаврилюк. Шпрехен зи дойч? Ты балакаеш по-германски?
– Ни, нэ можу.
– Ничого, навчишся. Продовжуй работу. Хайль Гитлер!..
Так Мария восстановилась в прежней должности на прежнем месте.
Но остальным полтавчанам повезло значительно меньше. Хотя поначалу все выглядело радужно – тысячи портретов Гитлера-освободителя заменили висевшие всюду портреты Ленина и Сталина, множество немецких агитационных плакатов с обещаниями социального рая появились поверх бывших советских плакатов и воззваний, и сотни красных флагов со свастикой вместо красных флагов с серпом и молотом украсили общественные здания. Молодые немецкие офицеры разъезжали по городу на мотоциклах и в открытых автомобилях и, пользуясь книжечками-разговорниками, по-гусарски заигрывали с украинскими дивчинами:
– Панэнка, дэвушка! Большевик – конэц! Украйна!
– Украина, – смеясь, поправляли дивчата.
– Йа, йа! У-край-ина! Ходит гулят шпацирен битте!
И дивчины охотно принимали приглашения завоевателей всей Европы…
Через неделю после вступления немцев в город Полтавский музыкально-драматический дал для них оперетту «Наталка Полтавка», а вскоре под руководством немецкого пианиста Зигфрида Вольфера актеры уже на немецком языке играли «Мадам Баттерфляй». И германские офицеры так вольно чувствовали себя на этих спектаклях, что вешали на спинки кресел свои пояса с пистолетами в кобурах.
3 декабря 1941 года и 1 июня 1942 года Адольф Гитлер лично посетил Полтаву и выступил с балкона детского сада № 14: «Вся человеческая культура зависит от успеха германской армии. Фюрер германского рейха освободил вас от преступников-большевиков. Покажите вашу благодарность – поезжайте на работу в Германию. Это в ваших интересах трудиться для Германии». Затем фюрер провел совещание с фельдмаршалами фон Боком и Паулюсом и, проезжая по улицам, вышел из машины и угостил конфетами полтавских детей.
Но «медовый месяц» освободителей и освобожденных длился недолго. Начиная войну, фюрер рассчитывал за девять недель дойти до Урала и Баку, а когда этот блицкриг забуксовал под Москвой, немцы перестали играть в строителей «настоящего социализма» и принялись открыто грабить «освобожденных» – точно так, как недавно это делали сталинская продразверстка и комбеды. «Іншими словами, – говорили старики на полтавском рынке, – кожен раз, коли комуністи, фашiсти чи ще хтось обіцяют побудову “суспільства соціальної справедливості”, чекай грабежів». Иными словами, каждый раз, когда коммунисты, фашисты или еще кто-то обещают построение «общества социальной справедливости», жди грабежей. За время оккупации немцы только из Полтавской области вывезли 392 900 голов рогатого скота, 1 113 000 свиней, 109 906 коней, 241 000 овец и 12 838 000 пудов хлеба.
И уже с первых дней «освобождения» полтавские дети ощутили на себе прелести нового порядка: по распоряжению рейхcкомиссара Украины Эрика Коха были закрыты все школы, кроме начальных. Адольф Гитлер сам определил предельный объем знаний для славянских детей: «В лучшем случае им можно разрешить выучить значения дорожных знаков. Изучение географии должно быть ограничено одним: столица рейха – Берлин. Математика и подобные науки вообще не нужны». Таким образом, в начальной, четырехклассной школе разрешалось учить детей только писать, читать и считать. Зато вводились физические наказания. «Сейчас, в военное время, – сообщил выходивший в Полтаве «Педагогический информационный бюллетень», – учитель для поддержания дисциплины может применять методы физического воздействия на недисциплинированного ученика. Этого требует время. От пощечины еще никто не умер, и удар линейкой ничуть не смертелен. Мальчишки в играх терпят и большую боль».
Еще большую боль применили к взрослым. 14–17 сентября на подходе к Полтаве, в Великих Сорочинцах, на месте знаменитой гоголевской «Сорочинской ярмарки», немцы повесили и расстреляли 86 жителей. Но это были только цветочки. Утром 20 сентября, закончив уборку гебиcткомиссариата и уходя домой, Мария увидела развешанные на всех улицах объявления:
«Все жиды Полтавы и ее окрестностей обязаны явиться 22-го сентября к 8 часам утра к гебисткомиссариату на Октябрьской улице. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».
До начала войны в Полтаве жило 22 тысячи евреев. Перед вступлением немцев часть из них успела эвакуироваться, но остальные… Солнечным утром 22 сентября, выйдя на крыльцо гебисткомиссариата задолго до восьми утра, Мария увидела их своими глазами На Жовтневой улице уже стояла огромная толпа – больше шести тысяч перепуганных женщин, стариков и детей с чемоданами и заплечными котомками. Как требовало распоряжение, многие были в зимних пальто и шубах, полагая, что их повезут куда-то на север. В восемь утра появились зондеркоманды СС и украинских полицаев, они построили толпу в колонну и повели на юг. Сначала Марии было с ними по пути, и она видела в этой колонне женщину – худую, потную, противную, в сбитом набок парике – запрягшись в двухколесную тележку, та везла в ней шестерых, мал мала меньше, детей – рыжих, конопатых и кучерявых. За ними старик со старухой толкали перед собой ножную швейную машинку, нагруженную фибровыми чемоданами и узлами…
Но затем колонна пошла вниз по улице Фрунзе, а Мария свернула в переулки и направилась к Прудам, до своей хаты. Тут, по дороге, ей открылась неожиданная картина. Хотя в немецком приказе было ясно сказано, что все, кто проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе их вещи, будут расстреляны (привилегию грабить евреев немцы оставили за собой), удержать полтавчан от соблазна обогатиться за счет ушедших на смерть оказалось невозможно. То здесь, то там дорогу Марии торопливо, как мыши, перебегали женщины и мужчины, нагруженные стульями, коврами, фарфоровой посудой с могендовидами, швейными машинками «Зингер», меховыми шубами и даже детскими игрушками.
Но Мария этим грабежом не соблазнилась. Правда, через пару часов, когда совсем рядом, в двух километрах от Прудов, на стрельбище между деревнями Пушкаревка и Супруновка, стали трещать пулеметы, и немая Оксана пугливо глянула на мать – мол, десь цэ стреляют? – спокойно ответила:
– Та за Пушкаревкой…
«Чому?» – снова спросили огромные очи дочки.
– Жидов расстрiлюють, – пояснила Мария и вышла из хаты закрывать ставни. То же самое сделали все их соседи по Прудам и, вообще, в Полтаве. Антисемитизм издавна был такой же частью украинского сознания, как православие и католицизм, и полтавчане спокойно отнеслись к тому, что «освободители» вывели на загородное стрельбище женщин, стариков и детей, заставили их вырыть трехкилометровую траншею-могилу и расстреляли из пулеметов. Тех же, кто не явился по приказу, еще долго разыскивали с помощью полиции и местных добровольцев-антисемитов. Окружив центральный, возле церкви на улице Чапаева, рынок, они заставляли всех произнести слово «кукуруза». У тех, кто говорил «кукугуза», проверяли документы. Людей с еврейской фамилией тут же швыряли в грузовики, вывозили в тот же яр за Пушкаревкой и расстреливали. Заодно был расстрелян и цыганский табор, стоявший возле Белой горы по дороге на Харьков.
Но куда больше, чем расстрел евреев и цыган, напугало Марию появление 1 сентября 1942 года нового гебисткомиссара Брененко. Потому что накануне, в августе, она своими глазами увидела, как в открытом грузовике «Bogward» немцы привезли в тюрьму на улице Пушкина захваченных под Полтавой партизан и среди них Миколу Гусака, ее бывшего спасителя и адъютанта Кривоноса. А первым распоряжением нового, взамен Гаврилюка, гебисткомиссара Брененко был приказ расстрелять всех арестованных, находящихся в полтавских тюрьмах. В тот же день шестьсот арестантов раздели догола, грузовиками вывезли к глинищу за школой № 27 и расстреляли из пулеметов. Заодно были убиты тысяча обитателей полтавской психбольницы, в том числе сто детей.
Так новый гебисткомиссар отметил свое назначение на пост полтавского градоначальника.
Его вторым административным актом было учреждение в здании опустевшей психбольницы Клуба офицеров, который вскоре стал почти открытым публичным домом для высшего офицерского состава.
А третьим значимым жестом гебисткомиссара Брененко был особый подарок, который он вручил Марии – кусок мыла с надписью «Juden-seife» (сделано из жира уничтоженных евреев), и приказ начинать каждый день с молитвы: «Heil main fuehrer, я обещаю выполнять мои обязанности во имя любви к фюреру».
Затем началась практически насильственная отправка молодежи на работу в Германию. Правда, первая группа «добровольцев» – 500 юношей и 500 девушек – выехали из Полтавы еще в мае 1942 года при Панасе Гаврилюке. На вокзале их провожали с тем же духовым оркестром Полтавской музыкальной школы, который год назад играл на проводах бронепоезда «Маршал Буденный», а также с цветами и пышными речами немецкого командования и гебисткомиссариата. На вагонах было написано: «ARBEIT MACHT DAS LEBEN SIS» («Работа делает жизнь сладкой»). Радио исполняло новый гимн немецкой молодежи: «Deutschland, Deutschland uber alles…», «Сегодня Германия наша, завтра весь мир будет наш!».
Но с появлением Брененко набор полтавской рабочей молодежи стал похож на простую охоту за ней. Парней и девчат отлавливали на базарах, в новооткрытых частных столовых, в банях и даже в церквях. За два года оккупации из Полтавы было отправлено в Германию восемь тысяч юношей и девушек. А всем, кто был старше четырнадцати лет, было приказано пройти регистрацию в городской комендатуре и получить удостоверение личности, которое полагалось обновлять каждые три месяца. По исполнении шестнадцати лет ты уже признавался годным к работе на рейх. «Keine arbeit, keine fressen», – твердили немцы. Кто не работает, тот не ест.
И Мария поняла, почему бывший рейхскомиссар Гаврилюк сказал ей не таскать Оксану в гебисткомиссариат – в апреле 1942 Оксане исполнилось четырнадцать лет. То есть еще год-два и…
В октябре, когда 346 подростков, схваченных на базаре, в церкви[1], двух банях, Крестовоздвиженском женском монастыре и просто на улицах, принудительно, в товарных вагонах и под вооруженной охраной, отправили с железнодорожного вокзала в Германию, Мария подобрала на улице написанную от руки листовку. И прочла короткие стихи:
- Сумні обличчя у людей.
- Куди не глянь, сама руїна —
- Невже це наша Україна?
- І сльози ллються із очей.
- Біля розстріляних батьків
- Лежать убиті немовлята…
- Безвинно карано людей,
- Ще й немовляточок-дітей.
Назавтра Мария, тщательно вымыв все полы комиссариата, один кабинет – зондерфюрера Фридриха Шванкопфа – оставила напоследок. Майор Шванкопф неплохо говорил по-русски и с явным интересом поглядывал на Марию, когда заставал ее утром в комиссариате. Правда, если его взгляд опускался по ее фигуре и ногам к ступням, этот интерес тут же угасал – Мария была босая. Конечно, дома у нее хранились и туфли-лодочки, и даже фетровые ботики, купленные ей Семеном Кривоносом. Но еще при первой встрече с толстячком Гаврилюком Мария заметила, как он брезгливо поморщился, увидев ее босые, красно-коричневые и потрескавшиеся ступни. Мария тут же взяла это на вооружение, как лучшую защиту от мужского интереса к ней всех немецких офицеров, и даже зимой, в двадцатиградусные украинские морозы, приходила на работу почти босиком – в самодельных чунях. Впрочем, босиком или почти босиком – в чунях из автомобильных покрышек – ходила в то время половина, если не больше, полтавских жителей. И почти у всех женщин ступни были такие же, как у Марии – растоптанные и потрескавшиеся от обязательной летней работы: замешивания и утрамбовки на кизяки коровьего навоза с соломой…
«Сумні обличчя у людей. Куди не глянь, сама руїна – Невже це наша Україна?» — не выходили из ее головы стихи из вчерашней листовки.
Когда зондерфюрер Шванкопф вошел в свой кабинет, Мария сделала вид, что только что закончила уборку – взяла за дужку ведро с половой тряпкой и пошла к двери. Но остановилась в шаге от нее:
– Герр Шванкопф, можно у вас спросить?
Герр Шванкопф, высокий и похожий на голливудского актера, сказал:
– Битте. Я всегда рад упражнять мой русский язык.
– Данке шон. У моих суседей е дочка, ей чотырнадцать рокив, но вона немая. Ну, не балакае, понимаете?
– Понимаю. Doofe.
– Ее могут узяты на работу в Германию?
– Битте! – снова улыбнулся герр Шванкопф. – Doffe это есть ошень харашо! Все doofe ошень харашо работать! Никогда не перечают! Я буду сказат герру Брененко про вашу девочку.
– Дякую, – поспешно сказала Мария. – Данке шон.
И с этого дня перестала выходить на работу в гебисткомиссариат. А дочку переселила в землянку на склоне к Лавчанскому Пруду.
7
Как я уже написал, летом склоны холмов у Лавчанских Прудов зарастали крапивой и бурьяном выше человеческого роста и так густо, что даже собаки в них не совались. Найти среди этих зарослей обвалившиеся лазы не то в пещеры, не то в древние, времен Первой мировой войны, землянки было почти невозможно. Но во время походов Марии и Оксаны на стирку к Северному пруду Оксана показала матери несколько лазов, где она пряталась, когда «сбежала из хаты». А потому землянка, которую они выбрали, была лишь снаружи похожа на кротовью нору. А в глубине, в двух метрах от узкого лаза, эта нора расширялась и поднималась в маленькую, но сухую и никакими дождями не заливаемую пещеру.
За три ночи Мария и Оксана вручную, без всяких лопат, расширили этот лаз так, что смогли протащить в него бабушкин матрац, а потом вновь засыпали дерном и землей настолько, что лишь девчоночья худоба позволяла Оксане протиснуться внутрь. И это действительно спасло ее от угона в Германию – уже с октября 1942-го немцы, взбешенные своим отступлением от Москвы, ожесточенным сопротивлением Ленинграда и Сталинграда, стали открыто грабить «освобожденную» Украину («Вы не можете даже представить, сколько в этой стране сала, масла и яиц!» – объявил немцам Герман Геринг). Зондеркоманды облавами прочесывали каждый квартал и сгоняли молодежь на призывные пункты для отправки в Германию. Всех, кто пытался укрыть своих детей от «добровольного призыва», карали огромными денежными штрафами и изъятием живности – свиней, гусей, кур…
Правда, каким-то совершенно непостижимым образом слухи о каждой предстоящей облаве облетали город быстрей колонны немецких грузовиков и мотоциклов. Точнее – немцев выдавала их европейская организованность. Когда у зданий гестапо, полиции или гебисткомендатуры раздавался рев сразу двух десятков моторов, то тут же взлаивали все дворовые собаки не только на ближайших улицах, но и дальше, вплоть до окраин. И полтавчане спешно прятали своих детей в сараях, погребах и на чердаках, а Мария бегом отправляла Оксану в нору-землянку у Лавчанского Пруда.
Поначалу эта игра даже нравилась Оксане. Лежишь себе в темной пещерке и вспоминаешь довоенную жизнь. Песни из любимых фильмов «Вратарь», «Дети капитана Гранта», «Искатели счастья», «Волга-Волга»… Или: «В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир расцветает миндаль…» Конечно, петь у немой Оксаны не получалось даже в темной пещере – слова застревали в горле. Но мычать «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…» – это она могла, ведь никто ее мычанье не слышал.
В начале ноября выпал первый снег, а в конце ударили морозы. Отлеживаться в холодной землянке Оксане стало невмоготу даже во время облав. Вместе с матерью она перетащила туда почти всю теплую одежду, которая была в хате, но что у них было? Еще до того, как Мария бросила работу и лишилась самой высокой зарплаты, которую немцы платили наемным украинцам – 850 советских рублей в месяц, она регулярно продавала на рынке все ценное, что было в хате – свою и покойной матери одежду. Потому что иначе было не выжить – хлеб на базаре стоил 100 рублей за кило, сало и масло –1500 рублей за кило, молоко 50 рублей за литр, а яйца 10 рублей за штуку. И рынок на всю Полтаву был один – все тот же Центральный, рядом с церковью между улицами Шевченко и бывшей Чапаева. Там стояли ряды деревянных прилавков, за которыми хамоватые перекупщики торговали привезенными из деревень и сел шматами сала и свинины, яйцами и мороженым молоком, а также сивушным самогоном и подсолнечным маслом в разлив. А вокруг было море нищих и полунищих стариков и старух, которые пытались с рук продать свою одежду, постельное белье, посуду и даже иконы. Ну, кто из них мог купить себе килограмм сала или хлеба? Даже для детей люди все покупали микроскопическими дозами. Сало и масло – кусочками не больше спичечного коробка, а хлеб ломтями толщиной в палец. Причем хлеб этот больше чем наполовину состоял из сушеного и толченого каштана…






