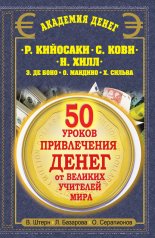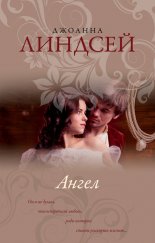Баллада о бомбере (сборник) Веллер Михаил

– Был колхозник, – тихо сказал детина. – Потом был солдат. Теперь – полицай я…
– А что к партизанам не сбежишь?
– Шлепнут.
– А наши приедут?
– Тоже шлепнут. Да где они, наши… Все под немцем уже…
– Шкура…
– Был бы я шкура – лежал бы ты, дорогой товарищ летчик, сейчас на том лужку носом в траву, и дружок твой рядом. Я что ж, думаешь, с двухсот метров из пулемета вас снять не мог?
– А что не снял?
– Свои же вы…
– Слушай, – попросил Гривцов, – дай сбежать!
– А самому к стенке за тебя? Нет… Что мог – сделал для тебя. Не взыщи… Направят тебя в лагерь, там тоже живут…
К вечеру телега загромыхала по булыжным мостовым Полоцка. В канцелярии полицейского управления детина сдал рапорт, взял расписку о доставке арестованного – и они расстались с Гривцовым, чтоб никогда больше не встретиться.
Дежурный по полицейскому управлению, весь какой-то мятый, в мятом галстуке на мятой рубашке, мрачно уставился на Гривцова:
– Что они там мудрят? На кой ляд ты мне сдался? Идиоты…
Он покрутил ручку полевого телефона:
– Алло! Гестапо? Полевой полицией доставлен захваченный парашютист. Да, показания дал. Через полчаса будет у вас. Есть.
Гестаповец, подтянутый светловолосый парень в черной форме, с серебряным жгутом на правом плече, бегло полистал показания Гривцова:
– Летчик? – он говорил по-русски с сильным акцентом, но, видимо, свободно.
– Борттехник, – мрачно сказал Гривцов.
– Борттехник?
– Ну да. Тоже летчик, но не пилот, – Гривцов изобразил, как держат штурвал, – техник, – он сделал жест, как будто крутил ключом гайки.
– Где и когда сбит?
Ничем не рискуя, Гривцов сказал правду. Гестаповец записал.
– Каждое твое слово будет проверено. За неправда – расстрел.
Гривцов старательно повторил то, что уже было записано в его «показаниях», после чего был отправлен в камеру и заперт.
Наутро всех арестованных – человек двести – выстроили в каменном квадрате двора. Автоматчики молчаливой цепью окружили их и пересчитали. На крыльцо вышел толстый офицер с моноклем и произнес короткую речь, повернулся и вошел в дверь обратно.
– Вы все – преступники против нового порядка, – лаконично перевел переводчик. – И всем вам одно наказание – расстрел.
Мертвая тишина повисла над двором. Скрипели сапоги у переминавшегося с ноги на ногу автоматчика.
– Хана, – произнес чей-то ломкий голос.
Переводчик снова открыл рот:
– Но германская армия в своем победоносном движении практически покончила с остатками Красной Армии. Вы не опасны могущественной Германии. Вы прощены, и вам даруется жизнь.
Автоматчики пихнули пленных под ребра автоматами, унтер-офицер скомандовал, и оборванная колонна потекла со двора на улицу.
Их вывели за город на огороженный тремя рядами колючей проволоки пустырь. Вышки с пулеметами стерегли его. Ворота распахнулись.
– Вот и концлагерь, – сказал кто-то в колонне.
…О четырех месяцах в концлагере у Гривцова осталось позднее воспоминание как об одном кошмарном дне, бесконечно длинном. Рыли руками ямы в земле. Выменивали на остатки одежды пустые консервные банки – в банки по утрам разливали по черпаку баланды, и надо было иметь свои – а их не хватало.
Расспрашивали «новеньких» о новостях – новости были обнадеживающие… Летнее наступление у немцев, вроде, провалилось, и на юге наступаем мы.
Как-то в сентябре их выстроили: полторы тысячи живых скелетов. Прибыло какое-то немецкое начальство.
Группа офицеров, похлопывая стеками по лаковым голенищам, прошла вдоль строя.
– Кто есть рабочие по металлу, три шага вперед! – скомандовал комендант лагеря.
Полсотни человек шагнуло вперед. Их отвели отдельно.
– Кто есть механики и водители машин и механизмов, три шага вперед!
Гривцов вышел среди прочих.
Их рассортировали. Германии, истощившей армейские ресурсы в летнем сражении сорок третьего года, требовались рабочие руки. Так Гривцов оказался за рулем бензозаправщика – огромного французского «Рено» – на немецком аэродроме.
Было предупреждено: за диверсию или побег, устроенные одним, расстреливается десять. Работали под дулами пулеметов с вышек.
Гривцов трезво рассудил, что лучше погибнуть десяти, но с какой-то пользой, чем этим же десяти работать на врага. И когда смотрел на ровные ряды стоящих «Юнкерсов», бессильная тоска скручивала его: улететь к своим!.. Пробраться в заправленный самолет! Хоть попытаться, хоть что-то сделать, чем жить так… Но охрана работала четко, и этой его мечте не суждено было сбыться.
На четвертый день, проклиная себя, он готовил самолеты к ночным полетам. Его семитонная автоцистерна была заправлена у вкопанных в землю баков, немец махнул в полутьме – «пошел!»
«Была не была!» – Гривцов вывернул руль, мотор взревел, ломая мелколесье бензозаправщик выскочил на дорогу и понесся на шлагбаум.
Часовой у шлагбаума заорал, отскочил и поднял автомат, но Гривцов шевельнул рулем, толчок, отброшенный немец исчез под колесами, удар, хруст, отлетел сломанный шлагбаум, и бензозаправщик, набирая скорость, понесся прочь от аэродрома.
Гривцов гнал сейчас машину по той же дороге, которой их несколько дней назад вели сюда. Вскоре здесь должны были показаться река и мост.
Он не доехал до моста, потому что два мотоциклиста с пулеметчиками в колясках вылетели с аэродрома ему вслед, и очереди прошили баллоны, машина осела, завиляла и потеряла скорость. Решив испробовать последний шанс, он на повороте, где его левая дверца была скрыта в сгустившейся уже тьме от глаз преследователей, выдвинул до отказа сектор ручного газа и выбросился из кабины на траву.
Дорога к мосту шла под уклон, и разогнанный бензозаправщик – семь тонн авиационного бензина – воя двигателем катился на мост. Обода бешено вращались в спущенных баллонах, резина дымила. В недоумении и панике охрана моста открыла стрельбу вверх. Заметались лучи подъезжавших мотоциклистов. Бензозаправщик влетел на настил, подпрыгнул, снес перила и, переворачиваясь, рухнул вниз, на пологий берег реки. Ударил столб желто-багрового пламени, огонь облизнул край моста, охрана забегала с ведрами, мотоциклисты спешились и полили очередями останки несчастной машины.
Гривцов этого уже не видел, потому что, выбросившись из кабины, откатился за кустик и приник к земле, а как только мимо него проскочили в темноте мотоциклисты, он бросился подальше от дороги – сначала на четвереньках, потом бегом, – держа направление к реке.
Взрыв дал ему время для побега. Пока горит – пусть думают, что он там, в кабине. А когда погаснет – еще посмотрим, где он будет тогда.
Когда погасло, был он посреди реки, километрах уже в двух ниже по течению. Близился октябрь, вода была холодна, и задача стояла – продержаться на плаву как можно дольше, а уже течение пусть несет само.
Через час левую ногу свела судорога, но он был готов к этому, и руками стал грести к берегу. По его расчетам, от моста его отделяло сейчас километров шесть.
Берег сделался неразличим в ночи. Шея затекла, и держать голову над водой делалось все труднее. Руки делались чужими, не слушались. Он хрипел, все чаще заглатывая воду.
…Качаясь, он сделал несколько шагов по песку и рухнул. Когда очнулся – уже вышла луна, и в ее свете выступил кустарник, которым порос берег, и вдали – зубчатая черная стена леса.
Он достиг этого леса к рассвету и шел не останавливаясь вглубь его весь день и всю следующую ночь. На рассвете он упал и заснул.
Проснулся он, как от теплого толчка, от Катиного голоса:
– Эй… Ты живой?..
IV
Он вскочил, ничего не соображая спросонок, и очумело уставился на пожилую женщину в крестьянском платке. Почему Катя так состарилась?! И тут же, окончательно проснувшись, понял, что к Кате, разумеется, эта женщина не имеет никакого отношения…
– Ты кто? – спросила женщина.
И Гривцов задумался: а кто он сейчас? Летчик? Беглый заключенный? Окруженец? Наконец, проговорил:
– Свой я, тетка. Летчик. Из лагеря бежал. Поесть нет у тебя?
Она протянула корзинку с ежевикой. Он в несколько горстей сунул ягоды в рот, сжевал.
– Давно в лесу плутаешь? – спросила женщина.
– Три дня как бежал… Немцы есть в деревне у вас?
– Стоят, паразиты…
– Много?
– Двенадцать человек. С машиной.
– А партизаны, не знаешь, есть здесь где?
– Откуда ж мне знать…
– А до наших, до линии фронта далеко?
– Ой, далече…
Гривцов вдруг почувствовал приступ слабости, голова закружилась, он покачнулся и сел на землю. Должно быть, лицо его побледнело, потому что женщина посмотрела на него с жалостью, вздохнула и промокнула глаза уголком платка.
– Далеко до вашей деревни?
– Версты три.
– Принеси поесть, а…
– Сегодня не могу. Детишки у меня… И в лес идти второй раз если – немцы заметят, подозрение будет…
И Гривцов увидел, что лет-то ей немного. Может, на несколько лишь больше, чем ему… Несладкая, видать, жизнь-то, что чуть не старухой выглядит…
– Ладно, – сказала она, подумав, – иди со мной.
Он поднялся, с удивлением чувствуя, что дрожат ноги.
Они шли с полчаса, пока не выбрались через заросли к обвалившейся от ветхости охотничьей избушке.
– Вот здесь жди меня, – велела она. – Завтра с утра приду. Напиться захочешь – ручей рядом.
Он следил из окна, сидя на чурбаке, как она уходит в своем выцветшем платке, тяжелой крестьянской поступью, потом лег на полусгнившие нары, подумал, слез, забился под нары на пол, поглубже, чтоб было его не заметить, если кто войдет, закрыл глаза и от слабости потерял сознание.
Она пришла через сутки и из своей корзинки достала из-под листьев укутанный в тряпицу каравай свежеиспеченного хлеба. Хлеб пах головокружительно. Гривцов вдруг подумал о голодных детишках, ждущих ее дома, в разоренной войной избе, о мужике ее – есть он еще где на свете, нет его?.. – о хлебе этом, взятом от собственных детей, и от голода, жалости и слабости вдруг заплакал.
– Оголодал, милый, – сказала женщина. – Как звать-то тебя?
– Андреем, – сказал он, дрожащей рукой ломая краюшку.
– Много не ешь сразу… Тяжело животу будет. Дня на три растяни. На третий день, может, придет к тебе кто… Про меня – молчок, понял?..
Она повернулась и быстро исчезла.
Три дня в избушке он ломал себе голову: пришлет она к нему партизан? Или еще что-нибудь непредвиденное с ним стрясется? И что делать, если никто не придет? Пробираться на восток?
По ночам примораживало, октябрь наступил, и он дрожал в своем жалком тряпье.
Трое суток прошли. Хлеб был съеден до последней маленькой крошки. Гривцов решил ждать еще сутки, а следующей ночью идти на восток.
Он не спал, когда услышал в лесной темноте у крыльца тихие шаги. Негромкий уверенный голос приказал:
– Кто тут есть? Выходи!
– Ребята! – сказал Гривцов. – Я свой, ребята!
– А вот посмотрим сейчас, какой ты свой…
Луна светила вовсю, бросая на поляну причудливые зубчатые тени сосновых вершин. При ее свете трое придирчиво исследовали Гривцова, похлопали, обыскали.
– Из лагеря, говоришь, бежал? – с издевкой произнес тот, кто приказал выходить, хотя Гривцов еще ничего не говорил. – А вот сейчас проверим, из какого такого лагеря.
– И отправим обратно, – пообещал хриплый бас. В руках обладателя баса был короткий немецкий карабин.
«Полицаи? Неужели продала? Или проверка, провокаторов боятся? Не шлепнули бы под горячую руку…»
– Закурить дайте, ребята, – попросил Гривцов.
– Курить у самих нема, – ответил третий, по голосу – совсем мальчишка.
«Тогда – не полицаи. Те должны от немцев курево получать».
Допрос был краток.
– Когда бежал?
– Шесть суток назад.
– Где сидел?
– Аэродром обслуживал.
– Немцев обслуживал, сволочь… Что делал?
– На бензозаправщике.
– Как бежал?
– Рванул через шлагбаум.
– Почему не пристрелили?
– Стемнело уже. Били по скатам. Я выпрыгнул на повороте – не заметили.
– Почему не гнались?
– Бензозаправщик на мост влетел, рухнул и взорвался. А я – ползком к реке, и вплавь.
– Складно врешь.
– Да не вру я, ребята! – взмолился Гривцов.
Басистый с карабином мирно прогудел:
– Ладно… Брось ему душу мотать, Яшка. Все сходится ведь.
Яшка возразил:
– А руки я ему все-таки свяжу!
К утру Гривцов увидел партизанский лагерь.
В его представлении партизанский отряд был чем-то вроде усиленной отдельной роты, напичканной подрывными средствами. Партизанский отряд оказался: два десятка человек, в возрасте от пятнадцати до пятидесяти, одетых кто в нашу форму, кто в немецкую, кто в штатское. Столь же пестрым было вооружение: от крупнокалиберного авиационного пулемета Кольта, добытого не иначе как с нашей сбитой «Аэрокобры» или «Тандерболта», до обшарпанного обреза, сделанного из трехлинейки еще в гражданскую войну, вероятно. Лица небритые – а чем особенно-то побреешься? Отношения не военные, а скорее, какие-то домашние: «Петька, вали в караул – сегодня твоя очередь! – Почему я! – Давай-давай!»
Над землянками поднимались в утреннем туманце уютные дымки. Пшенной кашей пахло, оружейной смазкой, крутым мужицким духом; пила повизгивала где-то рядом.
Командир, озабоченный бородач в ватнике, жестом велел вести Гривцова к нему. В прокопченной землянке сели за дощатый стол. Гривцов коротко изложил свою одиссею.
– Хлебнул, браток, хлебнул. – Командир пошарил в ящике, достал кисет и самодельную деревянную трубочку. – На, покури. Заслужил.
И пока Гривцов с наслаждением окутывался дымом крепчайшего самосада, он внимательно буравил его маленькими карими медвежьими глазками.
– Ну что, – спросил испытующе, – партизанить будем?
– Партизанить, – повторил Гривцов. – А… летчиков здорово не хватает. С Большой Землей связи нет у вас?
– У отряда Мацилевича была летом связь, – сказал командир. – У него ребята с Большой Земли работали, железнодорожные мосты рвали. Вот это были спецы! К одному мосту – ну никак не подойти было. Пулеметы кругом натыканы, сигнализация – прямо как в швейцарском банке! Так они что придумали: за километр сверху по течению пустили чурбаки, а один сидит в лесу на самой здоровой сосне, на вершине, с биноклем, и по часам засекает секунды – сколько надо чурбаку, чтоб доплыть до моста. Потом сколотили плот, к нему – поперечные рейки, чтоб он между быками пройти не мог, на плот – взрывчатку, бикфордов шнур отмерили, и ночью пустили. Доплыл плотик, встал под мостом, и тут же рванул! Одно удовольствие!
– А связь? – спросил Гривцов, холодея от внезапной надежды.
– Со связью тоже была смехота. Подрывников этих выбросили с парашютами ночью, ну, радистка их и села на верхушку сосны, зацепилась парашютом и повисла. Ей бы подождать, пока мужики соберутся и начнут ее искать, а она давай по инструкции ножом стропы резать. Молодая – старательная и глупая. Это иногда одно и то же. Ну, перерезала стропы и грюпнулась с двадцати метров. И смешно, и жалко девчонку… Сбросили им вторую – они ее неделю ждали, искали, – нашли: ободранная, без рации, пистолетик держит и пищит: «Летчика тащите! Летчика тащите!»
– Я этот летчик! – заорал Гривцов не своим голосом. – Я! Где она?!
Командир ухватился двумя руками за волосы, зашевелил бородой и стал со вкусом хохотать:
– Ох-х! Ха-ха-ха!.. Где вас таких… ха-ха-ха! берут только! Простое дело… ха-ха!.. сделать не можете… ой…
Просмеявшись и вытерев глаза, он глубоко вздохнул, переведя дыхание, и сообщил:
– Они на днях уйти должны были.
– Куда уйти?!
– Куда! В отпуск! В ресторан! На Большую Землю уйти должны были.
– А радистка жива? – со страхом спросил Гривцов.
– Почему ты пошел в летчики, а не в подрывники? – поинтересовался командир. – Работал бы с ней вместе. Это что, твоя девчонка, что ли?
– Ты, братишка, до войны не иначе артистом на эстраде работал, – со злостью на его бессердечный юмор сказал Гривцов. – Не конферансье?
– Не, – сказал командир. – Я до войны в Минске, в институте, историю преподавал. Интересная наука, знаешь? Очень настраивает на юмористическое отношение к происходящему.
– А у тебя-то самого никто в войну не погиб?
– У меня-то самого все погибли, – ответил командир спокойно. – Но головой об стенку с горя мы будем биться после войны. Когда победим. Если кто доживет. А сейчас воевать надо. А воевать надо спокойно и по возможности с юмором. Это помогает лучше соображать.
Он в молчании набил трубочку, закурил, вздохнул:
– Через пару дней придет связной от Мацилевича. Узнаем, что там делается. И решим, как с тобой быть. Поживи у нас пока…
При последних словах Яшка, скуластый крепышок в немецкой подрезанной шинели, который ночью допрашивал Гривцова на поляне, сунулся в дверь:
– Что значит «поживи»? Пусть на задание сходит, а я присмотрю за ним, чтоб не сбег! Проверим, какой он такой летчик.
– Яков, – сказал командир ласково, – пошел вон. – И, когда дверь закрылась, улыбнулся Гривцову: – Яков прав. Проверка, знаешь, – основа доверия. Тебе же самому спокойнее будет, если с нами попартизанишь немного. И здесь спокойнее будет, и на Большой Земле, когда выйдешь туда. Доверие – оно, знаешь, тяжело заслуживается. Тебе из чего стрелять больше нравится?
– Из пушки! – сказал Гривцов зло.
– Яков! – позвал командир. – Дашь ему пострелять из пушки.
– Откуда пушка? – спросил Гривцов уже с интересом.
– Для гостя у нас все найдется.
«Пушкой» оказался сорокадвухмиллиметровый немецкий ротный миномет. Это Гривцов выяснил на следующее утро, когда, накормленный горячей пшенной кашей, он сутки проспал в командирской землянке и был разбужен Яшкиным тычком: – Вставай, Чкалов! Пошли повоюем немного…
Яшка оказался командиром отделения. Отделение – те двое ребят, с которыми он ночью и пришел за Гривцовым в охотничью избушку. Оказалось, что несмотря на типично штатскую внешнюю разболтанность, дисциплина в отряде железная. Каждый отвечал головой за порученное ему дело, – на прочее внимания не обращалось.
Они позавтракали поплотней, взяли сухарей, Яшка помусолил самодельный план местности и стал навьючивать на Гривцова миномет.
– Почему я?
– Чтоб служба медом не казалась. Шагом марш!
И капитан Гривцов, скрючившись под тяжестью трофейного немецкого железа, затопал под командой вчерашнего колхозного разгильдяя Яшки.
К вечеру пришли на место. Яшка полазил по кустам:
– Объясняю задачу. Здесь деревянный мост через речку. Здесь – пост охраны. Здесь – дом, где живет охрана, два с половиной километра от нас. Двадцать ноль-ноль – время построения и поверки этих аккуратных. Вот мы их и угостим.
– Потом они нас догонят и так угостят – не унесем, – усомнился басистый с карабином, Николай.
– Объясняю для несознательных: они нас не угостят. Потому что мы отделены от речки и от дороги километром отличного болота. И жалкая дюжина фрицев никогда не сунется ночью в болото, за которым лес. Вопросы?
– Промажем, – сказал Гривцов.
– А ты не промажь, – недобро сказал Яшка.
– Да я же не минометчик! И таблиц стрельбы у вас нет! И заряды наверняка сырые!
– Не саботируй, – предупредил Яшка. – Мы стреляли – и попадали иногда. А ты – человек с военным образованием, если не врешь.
Гривцов засопел над самодельным планом, пытаясь определить поточнее разницу в высотах и расстояние. Яшка достал из кармана прицел и вставил в корзинку миномета. Басистый вынул из ящика мину и нацепил на ее хвост три круглые колбаски зарядов.
– Давай по мосту хлопнем для пристрелки, пока не стемнело, – предложил Гривцов.
Яшка посмотрел на трофейные часы:
– Десять минут осталось. Ну, хлопни без минуты восемь.
Без минуты восемь миномет хлопнул, и мина взорвалась в полукилометре от моста. Гривцов быстро подкрутил прицел, Яшка опустил в ствол вторую мину, и она пришлась далеко за домиком охраны. Оттуда высыпали почти неразличимые в бинокль фигурки – смеркалось, – и третья мина легла левее и ближе.
– Лапоть ты, – сплюнул Яшка.
– Рассеивание большое, – виновато оправдывался Гривцов.
– Большое, маленькое… Привередничаешь! Живо! Пять мин есть.
Четвертая мина хлопнулась во дворе.
– Вот так давно! Беглый огонь!
Оставшуюся они послали на том же прицеле.
– А теперь спокойно даем драла!
Они вернулись утром. Яшка отрапортовал о выполнении задания. Командир посопел:
– Хоть в одного-то попали?
– Восьмерых уложили, – ответил Яшка, не сморгнув глазом.
Командир пошевелил бородой, хмыкнул и пошел к себе. Там засветил коптилку, достал огрызок карандаша и амбарную книгу и принялся писать сопроводительную бумагу на Гривцова. Связной из отряда Мацилевича дожидался тут же. Судьба сбитого, плененного, беглого и партизанившего летчика была им уже обговорена.
– Ты, что ли, Гривцов? – спросил связной, выйдя к костерку.
– Я.
– Чего радисткой интересовался?
– Да так, – глупо ответил Гривцов, чувствуя, как у него отчаянно заколотилось сердце. – А… она где сейчас?
– Они с другим отрядом сейчас работают. Вскоре уходить собирались. Наших ребят подрывному делу обучили вполне. Отзывают их, вроде.
– Это далеко от вас?
– А вот послезавтра придем – узнаешь все, что тебе положено.
И послезавтра Гривцов узнал все, что ему было положено. Положено ему, как оказалось, было не так много. Но ему хватило. Главное – он узнал имя радистки…
Отряд Мацилевича был хозяйством солидным: полсотни человек, две телеги, четыре лошади и даже одна корова, дававшая молоко для раненных. Мацилевич, бывший школьный завхоз, любил обстоятельность.
– Отправим тебя завтра на Большую Землю, – сказал он.
– А… подрывники те где?
– Два дня назад пошли.
– Я их не нагоню?