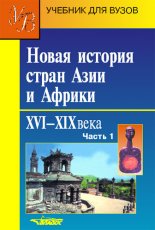У звезд холодные пальцы Борисова Ариадна

Толпа тоже напрочь забыла о правилах борьбы. А смуглая спина чужака под убийственным туловищем ботура выгнулась упругим мостом!
Как ни тужься в крике, не отдашь человеку часть своей силы. Заморенный верзила истратил в последнем усилии остатки мощи, ослабил хватку. Почти уже не шевелился, будто его самого поймали в железный захват. Ловкач еще был способен выскользнуть и, к скорби эленцев, – не слишком бы подивились! – очутиться сверху. И тут откуда-то с краю толпы донесся запоздалый девичий вскрик:
– Дави, жеребец!
Чужак дернулся, обернулся на голос, как уже оглядывался в прошлый раз. Желтые глаза нашли девушку. Всмотрелись внимательно, насколько можно быть внимательным в вывернутом дугой положении. Впрочем, отыскать дерзкую было нетрудно. Подпрыгивая, она махала рукой, словно всем и каждому сообщая: «Вот она – я!»
Она была красива. Очень! Светлоликая, с тонкими дугами бровей и ртом ярким и пухлым, как ягода осеннего шиповника.
Парень открыл в улыбке белоснежные зубы и неспешно выпрямил спину. Загорелые лопатки двойной печатью пометили чужую для него землю долины.
– Поддался!!! – яростно завопили зрители, потрясая кулаками. – Нарочно лег!
– Глупая девка ему помешала!
Вгорячах кто-то выдал имя девицы:
– Ох, Олджуна, такую игру испортила!
Только что толпа глотки готова была сорвать, подбадривая ботура. По правилам или нет, он бы наверняка победил. Но возмущенные «нечестным» окончанием борьбы, зрители забесновались, засвистели ожесточенно, будто гость совершил предательство.
Растерянный и удрученный, поднялся воин с колен, по-мальчишески шмыгая носом. Стало видно, как он еще юн. Подбородка его пока не тронула даже та необильная щетина, что выступает на лицах парней саха, перешедших за первую ступень взрослости. Люди, ненавидящие в этот миг проигравшего, не желали приветствовать и победителя. Толпа буйствовала и надрывалась в гневе. Поймешь ли изменчивые настроения толпы?..
Соблюдая закон поединка, ботур угрюмо протянул поверженному руку. Тот весело хлопнул по ней, но помощи не принял. Оттолкнулся от земли и прыжком подбросил тело, точно с силой прижатый и отпущенный куст тальника. Сорвал с головы рогатый обруч, метким броском зашвырнул в пустое берестяное ведро из-под древесной трухи.
Некому было смотреть, как воин, тушуясь, принял из рук Второй Хозяйки кумысный кубок победы, как поднял его, опустив голову. Негодующие ряды расступались, пропуская чуженина к роще, где ждала привязанная лошадь. Откуда он только взялся, этот желтоглазый?
Звонко окликнула его светлоликая девушка:
– Эй, эгей! Из каких мест ты родом?
Пришлец поворотился и ничего не ответил. Лишь снова оскалил в улыбке зубы, белые, как кипень. Похоже, он не знал языка людей саха.
– Боишься назвать свое имя? – поддразнила девушка.
Гость что-то понял. Остановился, ткнул себя пальцем в грудь и засмеялся всем лицом. Смеялись взлетевшие брови, золотистые волчьи глаза, зубастый рот и твердый подбородок с ямочкой посередине.
– Барро! – крикнул парень гортанно. Перепрыгнул через ручеек, протекающий перед рощей, и слился с тенью деревьев.
– Давненько не было такой славной схватки, – с ублаженным видом сказал Кытанах.
– Не славной, а странной, – осторожно поправил Мохсогол.
– Э-э, да что ты понимаешь в настоящей борьбе? – пренебрежительно махнул рукой старец. – Мои глаза утратили солнце, но уж слух мой получше слуха некоторых глухих тетерь.
Напарник не остался в долгу:
– Кажись, понапрасну глухие тетери заменяют некоторым неблагодарным слепцам их зрение, добрым словом питая бесполезную голову.
– Спасибо и на добром слове, – проворчал Кытанах и остановил приятеля – тот направился было к соседней поляне. Прыгуны раскладывали на ней куски бересты для замера длины прыжков.
После приятных впечатлений старцу не хотелось расстраиваться. Больше четырех двадцаток весен проло с тех пор, как он считался лучшим прыгуном в Элен. Никто не мог превзойти в кылы, ыстанга и куобахе[6] малорослого и щуплого, как подросток, Кытанаха. Что в «заячьем» со сдвинутыми ногами, что в «оленьем» с прыжками нога на ногу, да и на одной ноге.
– Тяжко мне глядеть на нынешних неумех, – жаловался он, по привычке не меняя слово «глядеть» на «слышать». – Ведь в былое время мои прыжки были длиннее моего же роста в несколько раз!
– Сложно припомнить, – пробормотал Мохсогол.
– Не веришь? – рассердился Кытанах и закричал, потрясая посохом: – Не веришь или от зависти притворяешься?!
– Я ж тогда мало знал весен, – вывернулся смущенный напарник.
– Воистину, откуда такому молокососу знать, каким я был! Когда ты еще валялся кверху стручком в чаше-люльке небесного озера, женщины, завидев издали мои ноги, сходили с ума! О-о, они со слезами счастья бежали ко мне навстречу!
– Что такого интересного находили эти дуры в твоих ногах? – полюбопытствовал Мохсогол.
– Мои ноги были стройными! – пронзительно проверещал старец и без сил повис на посохе.
Мохсогол обеспокоенно потряс друга за плечо:
– Что с тобой?
– Не видишь – отдыхаю, – пискнул Кытанах, дыша, как загнанный заяц. Передохнув, продолжил: – Без вранья скажу. У других табунщиков, да хоть на себя посмотри, ноги всегда лучком. А я, как ты знаешь, всю жизнь обнимал ногами крутые бока лошадей, но бедра и ноги мои оставались стройными. Они и сейчас такие. Хочешь, штаны спущу и ты сам убедишься? Гляди! – и старец принялся развязывать ремешок штанов.
– Что ты, что ты, людей испугаешь! – в ужасе попятился Мохсогол.
– Ну, то-то, – удовлетворенно хмыкнул Кытанах, оставив штаны в покое.
– Чуть не обделался я со страху, что женщины, увидев твои стройные ноги, набегут толпой и начнут с ума сходить у меня на глазах от счастья, – пробурчал Мохсогол.
Так, привычно переругиваясь и с нежной заботою поддерживая друг друга, старики обогнули поляну прыгунов. Потащились обратно по священному кольцу аласа туда, где на незатухающих кострах кипели котлы радушного Асчита и тек из бездонных симиров целебный кумыс – напиток богов.
Домм четвертого вечера. Не сравни себя с божеством
К вечеру у дымокура возле трех коновязей собрались знатоки древних былей и преданий, постигшие сладость слова. Старейшему сказочнику дали молвить почин – легенду по заказу, временем небольшую, чтобы и другие успели свою рассказать. Обведя округ головы чорон, почтенный сотворил заклинание, плеснул кумыса в костер и вопросил:
– О чем бы вы хотели послушать?
Никто и рта раскрыть не успел, как Дьоллох, сидящий близко, выпалил:
– О мастере Кудае!
Люди не стали возражать. Игрой на хомусе паренек успел снискать любовь эленцев. Почему бы и не о Кудае? Всем любопытно больше узнать о трехликом дарителе джогуров.
– Думы о боге-кузнеце когда-то волновали мою душу, как и твою, внук незабвенного Торуласа, – начал старик, узнав юного хомусчита. – Волновали, пока не посетило печальное открытие: нет у меня дара, способного возвыситься над джогурами истинных мастеров. Посокрушавшись, я уразумел, что и обычный труд вознаграждает упорство, и посильное ремесло льнет к простому, не дареному умению. А после, услышав олонхо знаменитого Ыллыра, даже порадовался отсутствию дара в себе. Не столь неколебим мой нрав, чтобы противостоять искусам Кудая… Если старая память не станет играть со мною в прятки, может, вспомню начало сказания прославленного олонхосута.
- Есть во времени бессрочном
- между днем и ночью место,
- где раскормленные тучи
- превращаются в вершины
- несгибаемых утесов,
- а неколебимый камень –
- в облаков пушистый иней.
- Там понять бывает трудно,
- то ли небо землю точит,
- то ль земля снедает небо…
- Там над мертвыми волнами,
- что текут туда-обратно,
- радугою мост восходит,
- пестрый, как перо сапсана,
- созданный из слез и смеха
- мастеров земли Срединной.
- Там повсюду звон и скрежет,
- вся земля в железной гари,
- в сером беспросветном дыме
- не видать луны и солнца.
- Там вздымается в тумане
- высоченный холм железный,
- трижды опоясан медью
- трех пределов пограничных.
- Снизу он, как огнь, палящий,
- сверху он, как лед, морозный,
- до него – пять кёсов конных,
- два ночлега пешим ходом,
- а потом – ползком семь взмахов.
- В том холме сокрыта кузня.
- В ней, объятой едким паром,
- трудится Кудай трехликий,
- безобразный и красивый!
- Правый лик Кудая светел
- и божественно сияет,
- левый – гнусен, словно беса
- отвратительная рожа,
- ну а тот, что посередке, –
- лик обычный, человечий…
- На плечах Кудая копоть
- в треть ладони толщиною,
- грудь широкая покрыта
- ржавчиной на девять пальцев,
- торс в окалине и саже.
- С конского хребта Кудая
- сыплются зола и пепел,
- круп усеян серым шлаком,
- хвост в пылище, а копыта
- утопают в грудах угля.
- Бесконечно прекословят
- лики пылкие друг другу,
- и тому веленью служат
- руки мастера Кудая,
- чьей личины верх сегодня.
- Он – единственный кователь
- удивительных джогуров,
- малых, средних и великих.
- Облечен высоким правом
- наделять детей во чревах,
- в круглых чашах материнских,
- искрой Бога или беса –
- ведать, чувствовать и делать
- то, что прочим недоступно…
- Ох и трудно трем личинам,
- меж собою несогласным,
- к одному прийти решенью!
- Потому-то, верно, людям,
- обладающим джогуром,
- ни покоя нет, ни лада,
- в их сердцах то жар, то стужа –
- скоротечный праздник славы
- и сомнений долгих мука,
- счастья высшего блаженство
- и отчаянье глухое!..
Пропев отрывок, сказочник прикрыл глаза и словно уснул.
– Ты говорил об искусах, – коснулся руки старика Дьоллох.
– Да, об искусах, – встрепенулся почтенный. – Вы, наверное, поняли, о чем олонхо предупреждает. Соблазны Кудая губительны, но столь неистово желанны, что порою не вынести их человеку. Проще руки лишиться, чем продолжать жить, как все. Раньше сверх меры одаренные кузнецы так и поступали: отрубали себе левую руку, избывая искус.
– Почему?!
– Страшное случается с ковалем, который достигает высшего, девятого уровня мастерства и заглядывает за эту грань. Всему на земле есть предел. Кудай не прощает дерзновенного. Поворачивается к нему левым демоническим лицом, стуча от злости железным копытом. И тогда джогур рвет человечью душу на части: то вознесет ее высоко, до звездного ветра в ушах, то со всей силы жестоко грянет о землю! Подлинный дар не бывает безмятежным. Полный неведомых страстей, он может помешать избранному жить по-людски, может сделать изгоем и посмешищем в глазах остальных. В мгновения, когда мастер всей душою, всей плотью и кровью сливается с возлюбленным делом, ему кажется, что он подобен Творцу… и он создает божественную красоту! Это беспредельное счастье, доступное единицам. Но это есть и лукавый искус. Редко для кого проходит бесследно сравнение себя с божеством. Не счесть великих мастеров в холме о трех поясах. Там в кузне трехликого выращиваются цветы мастерства. Из нежных на вид, а на ощупь твердых, как железо, лепестков Кудай кует джогуры для все новых и новых умельцев. Смешанным огнем небесных высот и подземных глубин полыхает его громовое горнило! Полуптицы-полулюди с железными клювами присматривают за кузнецами, чтобы не смели выбраться из горы окалины. Несчастные вбиты в нее по пояс за то, что дерзнули сунуть нос в знания, недоступные людям. Кузнецы помогают трехликому наливать звезды джогуров небесным огнем. После этого кому-то на Орто достаются огненные дары. Одному – чародейский с отворенной миру душой, другому – дар чувствовать открытою плотью духов земли и вод, третьему – предвиенье грядущего… Говорят, прежде воины девятого уровня, ослабнув, ложились в горн Кудая, чтобы закалиться и окрепнуть для великих побед.
– Знал ли ты сам певца, искушаемого трехликим? – спросил Дьоллох, в странном напряжении глядя в костер.
– Знал, – кивнул старик. – Мальчонкой повезло мне слышать несколько полных сказаний Ыллыра, олонхо которого я помянул. Певцу было даровано несказанное счастье, но пришлось заплатить за него прекращеньем мужских родовых колен. Единственная дочь, рожденная от седьмой баджи, вышла замуж за парня, живущего далеко на севере, и тоже родила дочь. Замкнулся отцовский род.
– Чем же Ыллыр отличался от других?
– Уменьем добывать красоту из звуков горного ветра, а красоту слов из журчания рек. Устами певца вещали духи предков, помнящие бессчетные олонхо, полузабытые и вовсе безвестные. Непросто поверить, однако было воистину так: он пел, а голос его потрескивал в балках потолка, жгучим пламенем трепетал в очаге, гулкими шагами отдавался на крыше юрты… Случилось однажды, что в тело жены старейшины тонготов, страдавшей душевным недугом, забрался бес. Стал буянить, выворачивать изнутри больную. Кости ходуном ходили, горло само собой кричало непотребное человечьему слуху. Шаману кочевых людей никак не удавалось обнаружить беса. Вертким оказался окаянный. Щуренком ускользал от пронизывающего взгляда, ужом увиливал от выманивающего слова. Отчаявшись, старейшина позвал Ыллыра и попросил его спеть ту часть олонхо, где земной ботур побеждает воина демонов. Внимая голосу певца, бес прекратил буйство и притих. Так увлекся, что выскочил из женщины – песенному собрату помочь! Тут уж тонготский шаман живо схватил пронырливого злыдня, свернул узлом и затолкал в турсучок тюктюйе… Кочевники сами о том рассказывали моему отцу, а я, спрятавшись неподалеку, собственными ушами слышал.
В подтверждение сказанного почтенный весело подергал себя за мочки ушей.
– Многие хотели знать на память олонхо Ыллыра. Он соглашался учить. За то, чтобы вызубрить одно из них, ученики платили коровой. Потом из аймака в аймак, от праздника к празднику олонхосуты повторяли сказания. Были отчаянные головы, желающие большего – певческого мастерства. Предлагали за обучение все свое имущество. Ыллыр и тут не отказывался. Но через день-два, не найдя в голосах певцов чего-то ему лишь ведомого, отступался, и никакое богатство его не прельщало.
– Где Ыллыр теперь? – поинтересовался черноглазый мальчуган. Приткнувшись к плечу матери, он сидел с открытым от волнения ртом.
– Тому две двадцатки весен, малыш, как никто не видел великого олонхосута на Орто, – улыбнулся старик. – Ушел однажды в тайгу и не вернулся. Соблазнил его трехликий Кудай, забрал в свои сопредельные земли. Так и не узнал Ыллыр о рождении внучки своей Долгунчи, что стала знаменитой певицей.
Дьоллох закашлялся, будто подавился чем-то, и с натугой переспросил:
– Долгунчи?..
– Да, – кивнул старейший. – Долгунча соблаговолила приехать к нам на праздник. Ты, наверное, завтра будешь с ней состязаться. Она тоже играет на хомусе.
Помедлив, продолжил:
– Певцы девятого уровня часто сходят с ума, погибают или добровольно соглашаются уйти к Кудаю, перед величием которого отступает время. Должно быть, Ыллыр поет нынче в бессмертном хоре великих певцов. Чудесные голоса баламутят глубины в морях и нагоняют ураганы со смерчами… Эти люди стали духами. Их сказания хранят вершины древних утесов. Их песни крадет очарованное эхо и носится с ними в ущельях. Опасные песни – они навевают тоску по красоте неземных звуков и могут насмерть заворожить человека.
– Ох, зачем же нужны такие песни людям? – поежилась мать черноглазого мальчика.
– Нет, не говори так! – воскликнул сказочник. – Без них – беда! Если замолкнут певцы, умрет эхо, и люди забудут прошлое. Всё некогда звучащее на Срединной земле, от мышиного писка до грома, канет в вечность и затеряется в ней. Мертвая тишина – тишина без прошлого – накроет миры. Как тогда будущему родиться? Ведь грядущее появляется из эха памяти о вчерашнем…
– Кто-нибудь помнит олонхо Ыллыра?
– Его певучие олонхо разлетелись во все концы Орто, разделились на множество крылатых преданий. Люди поют их на разных языках. Каждый народ думает, что вот эта история произошла с их предками, слова вот этой складно сложенной былины придуманы их певцом. Живет, говорят, где-то в Великом лесу олонхосут, помнящий несколько трехдневных сказаний Ыллыра. Этот знаток берет за учебу не одну корову, а объезженного вола и корову с приплодом. Однако самые длинные сказания величайшего из певцов, что продолжались от новорожденной луны до ее истощения, не помнит ни один человек. И так дивно, как пел Ыллыр, – заставляя забыть обо всем на свете, вынимая голосом сердце и печень, – никто пока не умеет.
– Есть и нынче много хороших певцов, – едва слышно возразил Дьоллох, опустив глаза.
– Много, – усмехнулся старик. – В народе саха всегда хватало людей с красивыми голосами. Недаром говорят, что наши детишки начинают петь прежде, чем говорить. Но вот досада: никому из тех, кого я слышал, таинство слова не подвластно в той же мощи, какою был наделен Ыллыр. А он обладал красотою слова и слога. К тому же владел не просто голосом, но и складом мелодий, выносливостью дыхания, быстротой перевоплощений и способностью все это слить воедино. Иные безумцы и сейчас готовы променять всю свою живность на знание хотя бы одного олонхо Ыллыра. Подражают ему, как могут, желая заполучить крупицу великого джогура… Надобно сказать, в чем еще заключается коварный замысел Кудая. Трехликий волен ранить человека с незначительным джогуром излишне высоким мнением о доставшемся подарке. Такой бедняга смертельно обижен на людей, не желающих признать его уменье великим… Есть ли грех тяжелее, чем тайное желание сравняться с Творцом в мастерстве? Однако у некоторых эта мечта огромнее жажды богатства, сильнее плача голодных детей и даже смерти Ёлю!
Рассказчик помолчал и с непонятным сочувствием глянул на Дьоллоха.
– Запомни, внук Торуласа, то, что я пропою, прежде чем завершить почин. Запомни и подумай, ибо тебе придется размышлять об этом, может быть, всю свою жизнь.
- Дар трехликого Кудая,
- дар бесценный и счастливый!
- Дар, как божество крылатый,
- открывает человеку
- тайны мастерства и смысла
- созидать, Творцу подобно!
- Но беги, блаженный мастер,
- человеческих ошибок,
- ведь у дара есть коварный
- враг – твой нрав несовершенный,
- поддающийся искусам!
- Ты, джогуром наделенный,
- можешь вызвать в людях зависть
- или сам попасть в тенета,
- позавидовав другому.
- Не преодолевши спеси,
- можешь дар убить гордыней
- или, меры в нем не зная,
- от натуги занедужить.
- Можешь в похвальбе погрязнуть
- и растратиться на мелочь
- либо, в поисках уменья
- большего, чем дал трехликий,
- известись и обезуметь.
- Можешь навсегда остаться
- средь толпы, в семье любимой
- беспредельно одиноким
- или, вовсе оторвавшись
- от земли своей Срединной,
- навсегда уйти к Кудаю…
- Счастье ль это – быть с джогуром?
Почтенный поклонился и передал слово следующему.
Домм пятого вечера. Осуохай с Луной
Новые серебряные кольца вдела в уши Лахса. Подчернила углем реденькие бровки, вплела в негустую косу пучок конской гривы, чтобы казалась толще. На пышную грудь легло родовое украшенье – наследство матери мужа – солнце-гривна с льющимися ниже пояса чеканными звеньями.
Манихай выпятил тощий живот, селезнем прошелся вокруг жены. Тоже принарядился – накинул на плечи кафтан с дымчато-серой опушкой. Прост был беличий мех и подол коротковат, зато не обноски чьи-нибудь, обновка с иголочки. Лахса залатала рубаху Дьоллоха, проверила, все ли в порядке с одеждой младших.
Ну вот, все подготовлены ко второму праздничному дню. Не стыдно будет гордиться успехом сына и брата в хомусном состязании. В том, что Дьоллох не ударит в грязь лицом, никто не сомневался. Даже он сам. Может, и не получит награду, главное же не это… Он знал, что его хомус окажется лучше многих.
Дьоллох мог бы посоревноваться с певцами, – отлинявший голос его реял легко, – но решил не тратить попусту силы. Зачем ему кус жирной вареной конины на мозговой кости, вручаемый за веселые припевки? К чему узорная власяная циновка за исполнение высокой песни тойука?[7] Славно со стороны послушать состязанье певцов, когда ты уверен в своем пении-игре на хомусе, сулящем, пожалуй, двухвёсного стригуна[8]. Или кобылу.
Парень досадливо поежился: прочь, прочь, хвастливые думы! Отругал себя: помни слова сказания славного олонхосута Ыллыра. Вчера от них было так страшно, что почти весь вечер хотелось родиться заново простым, не отмеченным Кудаем человеком. В мудром олонхо истина всегда сверху, как масло в воде…
На завтрак Дьоллох выпил чашку кумыса, а от еды отвернулся. Сегодня нутро должно наполниться свободным дыханием и стать послушным для отраженья волшебных звуков. Сидя у окна с хомусом в руках, без конца проверял на свету, ярко ли блестят отполированные щечки снасти, по-прежнему ли упруга и податлива дразняще высунутая хомусная «птичка» – кончик закругленного язычка.
Мысли крутились у трех праздничных коновязей. Прикидывал, как стать выгоднее, чтобы и видели его все, и не так сильно бросался в глаза стыдный загорбок… Но предложи сейчас боги поменять джогур на красивую внешность, Дьоллох бы не раздумывая отказался. Наружную красоту губят долгие весны, а чудесный дар останется с ним до встречи с Ёлю, а может, и дольше. Примерно так вчера говорил почтенный.
Местным нравится, как поет-разговаривает хомус Дьоллоха, вторящий звукам небес и земли. Пусть теперь послушают и удивятся гости, прибывшие с далекого севера. Особенно эта загадочная Долгунча, внучка знаменитого Ыллыра.
Атын зачем-то окликнул брата, но тот и не пошевелился. Манихай поднес палец к губам: не беспокой певца, перед испытанием уши его слушают тишину…
В полдень, когда тень солнца укоротилась, у трех коновязей послышались переливы запевок, что настраивают голоса на песенный звук:
– Джэ-буо! Джэ-буо-о-о!
Со всех концов Тусулгэ народ повалил к главной поляне, где уже установили семь барабанов на подставках-копытцах, Бешеную Погремушку[9] и ряды скамей вокруг.
Стараясь казаться выше, Дьоллох вытянул шею и приблизился к месту состязания степенно, как подобает уважающему себя взрослому человеку. Присел с краю, подальше от своих. Певцу необходимо одиночество.
После тойуков трех запевал начались лукавые песенки. Парень из соседнего аймака, скроив тоскующую мину, протянул руки к здешней певунье и запел.
- Эгей!
- На вороном жеребце
- нежная дева Луна
- в звездном высоком венце –
- как мне желанна она!
- Движенья ее легки,
- окутан туманом стан,
- очи ее глубоки,
- благоуханны уста!
- Покину старуху мать
- вместе с постылой женой,
- готов все, что есть, отдать
- за осуохай с Луной!..
- Паду перед нею ниц
- в немом восхищенье я:
- – О, не опускай ресниц,
- о, не прогоняй меня!
– Эгей! – откликнулась раскрасневшаяся певунья, бросая на парня страстные взоры.
- На золотистом коне
- некто, высок и могуч,
- причудился нынче мне,
- как солнца слепящий луч!
- Крепость мою побороть
- вздумал, коварный, и вмиг
- в печени нежную плоть
- мукою сладкой проник!..
- Стану когда-нибудь я
- костью и телом стара,
- будет гнездо бытия
- ломким, как в стужу кора,
- но не скажу и тогда,
- гаснущим тлея углем,
- что не была никогда
- счастлива в сердце своем!
«Слушать забавно», – подумал Дьоллох и тотчас же отвлекся. Приметил невдалеке молодую, очень высокую женщину в белом платье… Нет, не женщину – девицу. Богатый серебряный венец и отсутствие на груди гривны говорили об ее затянувшемся девичестве. Дьоллох, даже если б приподнялся на цыпочки, вряд ли достал бы макушкой девушке до подбородка. Она о чем-то говорила со стоящим позади багалыком Хорсуном. Оборачивалась к нему всем телом легко и мягко, будто не на земле стояла, а кружилась в волнах реки.
Дьоллох исподтишка разглядывал рослую незнакомку. Глянцевитую кожу ее покрывал ровный загар, нос был чуть великоват и глаза под черными стрелами бровей столь же избыточны, цвета неба в зимнюю ночь. А губы пухлы и ярко-розовы, словно сбрызнуты брусничным соком. Крупные, под стать сложению, браслеты с вырезными узорами охватывали исполненные спокойной силы большие руки. Все это, собранное вместе, неожиданно являло собой красоту броскую и необычную. Казалось, вначале боги хотели поместить душу красавицы в мужчину, но в последний миг раздумали. Расщедрились и дали крепко скроенному телу больше влекущей женственности, чем нужно одной.
Багалык, по-видимому, собрался отойти. Она снова поворотилась, на этот раз резко. По гибкой спине тугой плетью стегнула взметнувшаяся коса. Хорсун помешкал и остался, хотя девушка ни слова не сказала.
«Долгунча, – мысленно произнес Дьоллох ее имя. – Долгунча – Волнующая. Внучка великого Ыллыра», – и облеклось имя смыслом, большим и красивым, как она сама.
Старейшина Силис упоминал о семи спутниках Долгунчи. Обежав взглядом ряды, Дьоллох высмотрел молодых мужчин в светлых кафтанах, ростом как на подбор. Правда, не выше своей предводительницы. Выше был только багалык.
Девушка громко рассмеялась и что-то сказала Хорсуну. Дьоллох не расслышал, пораженный ее дерзостью и грудным, необычайно глубоким голосом, от которого по его забывчиво согнувшемуся горбу просквозил холодок.
Песни еще хотели звучать и веселить души, еще доставало в них словесных украшений, и горное эхо не устало отзываться в ущельях. Но уже забили, затренькали в умелых руках создающие мелодию инструменты. С протяжными дребезжащими всхлипами заныла трехструнная кырымпа[10], похожая на срезанный повдоль чорон, чьи полированные бока спаяны клеем из осетровой вязиги. Переливчатые коленца Люльки Ветра истаивали в воздухе кудрявой трелью. Подобно раскатистому бряканью и шороху камней под ногами бегущего с горы человека погрохатывала на вертком стержне Бешеная Погремушка. По мере верчения, выпадая из пазов, сверху по ней колотили деревянные подвески, а в полости гулко крутились сушеные налимьи пузыри. С ураганной скоростью шуршала-ссыпалась в них скорлупа кедровых орехов.
Кто-то дернул Дьоллоха за руку. Он оглянулся на серьезные лица соседей – нет никого, кто бы мог подшутить. А ниже не поглядел. Маленькая смуглянка Айана, дочка старейшины Силиса, вывернулась из-под локтя и заявила:
– В награду за лучшую игру на хомусе дадут черную махалку с серебряной ручкой. Этот дэйбир сделал мой отец, а серебро приладил дядька Тимир. А я принесла свою махалку. Хочешь, стану отгонять от тебя комаров, когда ты будешь играть? Потом ты, как лучший из хомусчитов, черную получишь!
Девочка еще о чем-то болтала. Дьоллох подавил досадно кольнувшую мысль: зачем ему какая-то махалка?
По туго натянутой коже барабанов замолотили длинные и короткие колотушки. Каждый барабан звучал особо. Большой, обитый бычьей кожей, рокотал нарастающим громом. Средние, из кобыльей кожи, изумляясь чему-то, густо ахали. Верхние помельче, с кожей жеребенка, призывали эхо, разбрасывая навстречу ему радостную дробь.
Но вот наконец замолчали и барабаны, предварявшие хомусную часть праздника. Приспело желанное время – один за другим всколыхнулись, заполоскали бойкими язычками деревянные и железные хомусы. Надо признать, здесь все же были славные умельцы. Словно из воздуха извлекали они звон весенней капели, утреннее пенье жаворонка, трескотню дятла и торжественное гудение табыков.
Дьоллох усмехнулся: все это превосходно, не придерешься. Игра чиста, как роса на цветке… Но без искры. Без огневого трепета, вастно берущего в плен огромное ухо толпы, когда никто не способен уйти от волшебных звуков. Разве что залить уши смолой!
Глянул на своих. Они сидели поодаль в немом ожидании. Отец помахал рукой… А где Долгунча? Отступила к трем коновязям, встала, как четвертый, живой и подвижный столб. И Хорсун рядом с ней. Красивый, высокий человек. Воин. Мало того багалык.
Вздохнув, Дьоллох отвел глаза. Что ж, пора выходить, показать свое умение. Сейчас он докажет Долгунче, что мастер Кудай благосклонен не только к ней. Пусть она поймет, эта девушка, которая не стесняется громко смеяться в толпе и таскает с собой кучу мужчин, что он, Дьоллох, не нуждается в ее хваленых уроках. Тогда она, может, взглянет на него с должным вниманием, а не будет скользить равнодушным взглядом, как по пустому месту.
– Мне отгонять комаров?
Глазенки Айаны сияли. Дьоллох растерянно пожал плечами. Вот уж некстати привязалась малявка… Обернулся стыдливо: не заметил ли кто? Поймал смешливый взгляд старейшины Силиса, страдальческий – Эдэринки.
– Потом, – торопливо шепнул прилипчивой девчонке. – Потом отгонишь, ладно? А пока не мешай.
Вышел с достоинством, вперился взглядом в никуда и мягко сжал губами лучший на свете хомус. Прилежная гортань напружинилась, приготовилась помогать. Легкие превратились в мехи, а изогнутая полость носа – в чуткие гудящие трубы. Правая ладонь легонько ударила краем по железному язычку, добывая пробные звуки.
Птичка проснулась, дрогнула радостно и тревожно: «Ты?! Я ждала! Я придумала новую песнь. Она тебе понравится!»
Дьоллох качнул воздух, удлиняя звук, приоткрыл и вновь твердо и нежно сомкнул губы на вдохе. Кисти рук затанцевали, проворно перебирая пальцами хомусную струну. Корень языка привычно задвигался, воздух прохладной струею вкруговую побежал внутри.
Из рощи отозвалась кукушка. Видно, решила посоревноваться и устроила нешуточный перепев. Хомус не выдержал, хохотнул. Вместе с ним весь алас забурлил было смехом, но вдруг над коновязями пролетели невидимые лебеди, шумя крыльями и трубя! Вслед за тем ликующе курлыкнул стерх. Послышался клекот гуся и резко вскричала чайка, будто на зов волшебной птички откликнулись из ближних мест все имеющие крылья, что вернулись с Кытата… И зазвенел, зажужжал, заливисто подхватился песенный хоровод!
Плясали веселые пальцы. Язык бился о нёбо, как колотушка в бубен, гудели трубы носа, прокатывало переливы горло. Посвистывала и похрипывала грудь. В искореженной спине хрустели-выпевали болезные позвонки. Каждый отголосок тела, пропущенный сквозь чуткий хомус, соединялся в рой удивительных звуков, творящих новую песнь. Мозг до костей пронизали острые, шипуче-кумысные уколы восторга. Свежий ветер дыхания прокачивался через живот все быстрее и быстрее. Трепещущий язычок-птичка почти исчез, застриг воздух, обернувшись в невесомое стрекозиное крылышко. Радужный алас, светлые пятна лиц… жертвенные веревки с желтыми игрушечными туесками… взмывающие к небу коновязи, большая девушка в белом… Все кружилось, пело, играло яркими звуками-красками. Песнь собирала обрывки радуг, перемешивала их, меняла местами. Слышались зеленый шелест, желтый звон, синий плеск, голубое журчанье… Весенний хоровод сливался в сплошное пестрое колесо, бегущее в облака. Дьоллох вновь выкликал небесные создания, что норовили унести на крылах в вышину самые красивые рулады.
Треть времени варки мяса продолжалась чудесная песнь. Затем бурный ритм удлинился, звуки поблекли. Когда на конце хомусного стерженька показалась содрогающаяся в последней трели птичка, на Тусулгэ наступило почтительное затишье.
– Уруй! – завопил, нарушив молчание, Манихай.
– Уруй! Слава! Слава! – закричали все, бросая вверх вязаные власяные шапки. Сегодня еще никого так не чествовали. Дьоллох превзошел самого себя.
Он улыбался восторженным лицам и не видел их. Алея щеками, сложил поющий-говорящий хомус в каповую укладку. Бросил горделивый взгляд на девушку у коновязи. Она тоже посмотрела на него. Вскользь, но с интересом… или померещилось?
– Ах, как хорошо ты играл! – воскликнула Айана и прижала руки к груди. Ей не хватало слов.
К Дьоллоху спешили брат и сестренка. Илинэ потянулась понюхать щеку. Дьоллох смущенно отодвинулся – совсем стыд потеряла, люди смотрят! Но людям было не до происходящих вокруг него телячьих нежностей. Общим вниманием завладела Долгунча с семью спутниками. Их игра завершала нынешнее состязание.
Мужчины полумесяцем выстроились за спиной девушки. Ее белое платье мягко сияло на фоне их светлых кафтанов. Все враз тряхнули длинными волосами и одинаковым жестом поднесли к губам хомусы, словно чороны, из которых собрались отпить.
Зрители выжидающе замерли. Миг тишины – и Тусулгэ со всех сторон вкрадчиво обступили восемь вздыхающих ветров. Ломкий, тревожный звук, призывая кого-то, поплыл в воздухе, то усиливаясь, то отдаляясь.
Дьоллох подметил, что на хомусе девушки порхают две «птички», а под язычками хомусов ее помощников висят капли голубого железа разной величины. Из-за этого звуки неслись от низко гудящих к щекотно-высоким, словно бегали вверх и вниз по незримым певучим ступеням. Семью звуками управляла Долгунча, семью парами внимательных глаз, ласковых рук. «Что эти северяне делают в свободное время?» – с незнакомым чувством подумал Дьоллох.
– Гэй, гэй, хоть-хоть, бар, ну-у-у! – зазвенели хомусы со средним и высоким звучаньем. Подгоняемая лихими ветрами, песнь помчалась, как ныряющая в сугробах оленья упряжка по бескрайней тундре. Снег посвистывал под торопливыми полозьями нарт. Кто-то куда-то запаздывал и торопился, но олени не успели – волосы-струны ветров запутала налетевшая вьюга. С неистовым хохотом и гиканьем прокатилась она над скрипучими сугробами. В подоле ее потерялся новорожденный месяц. А лишь только вьюга исчезла, небо с шорохом выкинуло бахромчатые ленты северного сияния.
Это было почти то же радужное многозвучье, что и у Дьоллоха. Однако у приезжих хомусчитов оно оказалось богаче, ярче и без лишних звуков. Чужаки не старались представить все свои приемы. Их, очевидно, имелось в избытке.
…Радостно захлопали двери. Полозья нарт пронзительно взвизгнули и остановились. Хомусы-спутники взорвались праздничным ликованьем, с наслаждением втянули дымный воздух. Запели-заговорили, в нетерпении перебивая друг друга:
– Есть новости?
– Есть!
А пока позади прокатывалась кипучая молвь, стихая за притворенными дверями, снег слабо скрипнул под ногами двоих.
Задумчиво поклевали-потрясли двуязычковый хомус гибкие длинные пальцы. Долгунча закрыла глаза и медленно закачалась. Солнце вспыхнуло на серебряных пластинках ее девичьего венца. Послышались широкие увесистые шаги по снегу. Донеслись и другие, легче и мельче. Тихо запели два смущенных голоса. Чья-то бесхитростная душа доверчиво раскрывалась перед множеством глаз и ушей, выплескивая невинную тайну.
Неожиданно Долгунча вскинула голову. Задышала часто, хрипуче, перемежая оленьим хорканьем выдохи-вдохи. Из губ ее или, может, из клювика птички выдулось густо мельтешащее облачко – сгусток горячего Сюра. Пылкое облачко поплыло, колыхаясь в воздухе, и растворилось в нем.
Шаги сменились сердечным перестуком. Два взволнованных дыхания устремились друг к другу и слились в одно. И случилось чудо – из приглушенного мужского рокота и застенчивого женского лепетанья, робко звеня, сплелась песнь-таинство. Сколько же было в ней серебристых оттенков и подголосков! Дьоллох не заметил, как искусные пальцы, проскользнув сквозь воздушные струи, кожу и ребра, больно и сладко сжали в комок его взрыдавшее сердце.
В песне говорилось о нем, Дьоллохе. Это его душа кого-то звала, моля и тоскуя. Это он плакал о несбывшемся и влекся по ветру. В пророческих звуках буйно прорастали побеги его будущих весен и победных сражений. Хрупкими шарами перекати-поля бежали вдаль по сугробам его грядущие зимы…
О, Долгунча-Волнующая! Такой женщине хотелось подчиниться беспрекословно и сделать все, что она велит. Стать хомусом в ее руках, жить ради нее или умереть!
Рядом брат и сестренка переживали свое. Хомус пел для всех и для каждого в отдельности. Люди бесшумно поднимались со скамей. На их потрясенных лицах отражалась чарующая музыка песни. Мягкая, она в то же время знала твердую правду о любом человеке. Нежная, она вместе с тем обладала одуряющей силой. От нее мог пошатнуться взрослый мужчина, не то что подросток. К тому же калека…
Бедный, наивный Дьоллох, кричавший о себе громко, как ждущий внимания младенец! Кичился скудной сноровкой, побуждая свое увечное тело стать продолженьем хомуса! Тщился показать ловкую игру, усладить слух песней, легкомысленной, как полет мотылька-однодневки!
А Долгунча не играла. Она просто жила. Песнь была ее жизнью, а хомус – ее неотделимой частицей. Ее пуповиной, весенней завязью, почкой, еще не распустившейся, тугой и восхитительно нежной…
Словно во сне созерцал Дьоллох, как розово-алый рот Долгунчи ласкает согретую горячим дыханием железную плоть хомуса. В голову с запоздалым прозрением вникло: «Готов все, что есть, отдать за осуохай с Луной!..» Дьоллоху уже не казалась забавной лукавая песенка. В ней сегодня тоже пелось о нем. Это он жаждал ночи-осуохая с девой Луной, как ничего на свете. Он мог бы отдать свой голос за то, чтобы стать железом, которое она ласкала…
– Ты плачешь?
Поспешно смахнув предательскую слезу рукавом, Дьоллох опустил глаза на докучливую девчонку, разбившую чары бессмысленным вопросом.
– Иди отсюда, – прошипел осипшим голосом.
Грудь мучительно стиснуло, горлу не доставало воздуха. Может, поэтому вырвались жестокие слова:
– Что ты все липнешь ко мне, будто пиявка?!
Айана попятилась. Смуглое лицо побелело. Побледнела даже коричневая родинка посреди лба, чуть выше глаз. Девочка не верила, не могла, не хотела верить, что Дьоллох гонит ее от себя. Он, самый лучший человек после матушки, отца и братьев… Ошеломленная горем, Айана закрыла лицо руками и не увидела, как Дьоллох сорвался с места и побежал куда-то.
Он летел сломя голову, задыхаясь и плача. Деревья больно хлестали ветками по лицу. Дьоллоху было все равно. Не вернуть назад сегодняшнее утро, когда он был спокоен и уверен в себе. Не повторить, не изменить день, перевернувший душу.
Кукушка все еще выводила скучную песенку в зеленом сумраке Великого леса. Однообразный напев безмозглой птахи был так же беден и слаб по сравнению с игрой Дьоллоха, как узенькая протока с привольной рекой… А его жалкие потуги были столь же ничтожны против волшебной музыки Долгунчи.
Вот почему Силис и Тимир приготовили для лучшего исполнителя черный дэйбир. Черный, а не белый! Мастера с самого начала знали, кто получит махалку. Ведь женщинам не положен священный дэйбир с белым хвостом.
Острое, смешанное с ненавистью и наслаждением отчаяние раздирало грудь, словно ребра раздвинулись, не вмещая вспухшее сердце. Уши наполнял неумолчный звон – властный зов колдовского хомуса с жалящим змеиным язычком. Дьоллох мчался, рассекая слои воздуха низко наклоненной головой. Оставленные за ним воздушные раны истекали густым благоуханьем свежей сосновой хвои. Мстительной издевкой блазнился долгий кукушкин напев.
Жар горящего дыхания прожигал уже до костей, когда Дьоллох запнулся. Земля-матушка, встав на дыбы, сначала наказала неразумного сына болезненным тычком в грудь, а потом милосердно объяла влажной прохладой. «Умираю», – подумал он с облегчением. Внутренности, похоже, воспламенились… Так вот что происходит с желающими смерти! Им не страшна Ёлю. Напротив, мысль о вечном спокойствии приятна и притягательна. С Дьоллохом еще не случалось подобного.
Внезапно грудь и горб пронзила дикая боль. Вломившись в гортань тяжелым колом, жгучий воздух пробуравил готовые лопнуть легкие. Иссушенная глотка взорвалась сотрясающим кашлем. Обессиленный и опустошенный, Дьоллох не сразу обнаружил, что упал возле мшистой канавки. По дну ее текла чистая вода…
Вода!!! Рыча от нетерпения, обдирая ногтями сырой мох и дерн, он подполз к канавке и жадно приник опаленным ртом к спасительному ручейку. А когда, сомкнув глаза в неимоверной усталости, перевернулся на спину, в багровом свете смеженных век предстал полураскрытый розовый бутон. Лепестки-губы шевельнулись, распахнулись чуть шире. Дразнящая тычинка продольно раздвоенного языка мелькнула в алой глубине.
Дьоллох возбужденно привстал, опираясь на локти. Зажмурился крепче, боясь отогнать пугливое видение, но мучительно-сладкая греза не собиралась покидать его скоро. Нежные лепестки губ, прерывисто трепеща, долго ласкали железную хомусную плоть.
Старейшина рассеянно наблюдал за женой. Эдэринка готовила ужин.
Он был вполне доволен двумя прошедшими праздничными днями. Вволю порезвились люди, испытали себя в разных умениях, на других поглядели. Правда, ворона, черная ворожейка, подпортила благословенье Сандала, и ковш нехорошо упал – к зною, мучителю трав. Ну да разве бывает, чтобы все без сучка-задоринки? Может, как-нибудь пронесет и к сенокосу потучнеют аласы.
А каким славным выдалось сегодня состязание хомусчитов! Силис не мастер извлекать из поющей снасти волшебные звуки, но чувствует их всей кожей. Если песнь хороша, перед глазами наяву возникают яркие сны.
Игра Дьоллоха понравилась людям. Вырос паренек, и песнь его выросла. Огненным и радужным стал хомус. Силис нахмурился, вспомнив красное, расстроенное лицо мальчишки. В рощу убежал. Не успели вручить награду – наборный пояс на двухслойной ровдуге, отделанный серебряными пластинками. Передали Манихаю.
Тонкую травяную чернь навел Тимир на пластинки, отчеканил вставших дыбом жеребца и кобылицу на солнечных кругляшах с завязками. Расстелешь пояс – встают кони на концах стражами от нечисти. Завяжешь – оказываются мордами друг к другу. С левого боку примостился ремешок для ножен батаса, с правого – вышитый кошель для мелких вещиц.
Точно такие же пояса вручили внучке знаменитого Ыллыра и семи ее спутникам. Сверх того девушка получила черную махалку с украшенной серебряными насечками ручкой.
Не зря пригласил Силис на праздник Долгунчу, прославленную хомусной игрой по всему северу. Волнующая песнь ее хомуса прошибла старейшину до слез. Оглянулся украдкой, досадуя на себя, и увидел, что глаза почти у всех на мокром месте. Едва не вскрикнул от изумления, приметив, как суровый Хорсун прикрыл лицо рукой. Чуть погодя, когда Дьоллох побежал в рощу, багалык тоже круто развернулся и ушел.
Паренек-то понятно из-за чего огорчился. Юный еще, не сумел достойно справиться с поражением. Ничего, полезно ему. Не следует слишком высоко думать о своем джогуре. Но и у Хорсуна было такое лицо, что лучше на пути не попадаться. Знать, разбередило душу. Может, вспомнил Нарьяну и страшный год ее смерти…
Нет слов описать, что делал с людьми вынимающий сердце и печень хомус Долгунчи! Самые заветные, потаенные воспоминания вытянул, заставил заново их пережить. Вот и Силиса растревожило полузабытое. Обнаружил внезапно, что обыденность и время незаметно обесцветили, приглушили в памяти его пятнадцатую весну. А тут вдруг нахлынуло свежо и тревожно.
…Та весна полнилась хмельным запахом сыпучих цветов черемухи. Поляна возле речки Бегуньи, где Силис встретил Эдэринку, была усеяна цветами. Пышные деревья холмились, словно покрытые сугробами. Силис тогда увидел в смешливой соседской девчонке женщину – прекрасную, как юная богиня. Белые-белые развесистые венки на их сумасшедших головах долго прятали разрумяненные лица от новой луны. А потом они обо всем забыли. Дева Луна завистливо подглядывала за первой ночью Силиса и Эдэринки до рдяной кромки в небе над скалами…
Позже пришлось отстаивать право той ночи. Хотя они были роднёй не по кровной, а по сторонней боковой линии, родичи долго не соглашались дать согласие на их союз.
Силис вздрогнул в тревоге: с ним ли содеялось чудо, что подарило лучшую женщину на Орто? Очнувшись, посмеялся над собой. Сколько весен с тех пор прошло, а сердце, через глаза любуясь женой, все еще учащенно стучит!
Долгунча чем-то похожа на Эдэринку. Такая же рослая и черноокая. Ввечеру эта девушка удивила его, испросив дозволенья переехать в долину к родичам деда. На северной родине у нее, оказывается, никого не осталось. И все же странно, что человек по собственной воле решил покинуть края, где явился на свет.
Говорят, Долгунча и своих помощников уговаривала здесь остаться, уехать хотя бы после торжищ в Эрги-Эн. Плакала даже. Не согласились. Сами, удивляясь немало, убеждали ее домой вернуться. Тоже напрасно, вот жалость-то.
Много потеряют хомусы от их разрыва. Приятно для слуха вместе звучали, больно складные песни надвое раздирать. Завтра после конных скачек отправятся парни обратно на север. Одни, без Долгунчи.
Конные скачки в завершающий праздничный день с новою силой взовьют над Тусулгэ веселые голоса. Но сперва на расчищенном поприще с утра учинятся шутливые состязания. Сильные парни с седлами на спинах побегут по кругу аласа, кто быстрее. На втором круге к седлам приторочат поклажу. Затем настанет черед молодцев, которые побегут наперегонки с лошадьми. Вначале с места сорвутся люди, а лишь достигнут четверти назначенного пути, наблюдатели пустят коней.
Бегунов нынче всего трое. Знаменитый Сюрюк, в свое время опередивший не одну ретивую лошадку, напрочь отказался вновь себя испытать. Две весны назад его сильно помял на охоте лесной старик. Сломанная левая рука срослась неправильно, вывернулась тылом ладони к боку. Видно, спутав себя с десницей, на предыдущих состязаниях сбила Сюрюка со стези направо. Костоправ Абрыр предложил снова сломать строптивую конечность и срастить как надо. Но скороход не отважился.
Каждому хозяину не терпится показать преимущество своих сильных и резвых коней. Обученные, они слушаются голоса человека, малейшего движения его колен на своих боках. У воинов с лошадьми занимаются приставленные люди. Объезжают до холощенья, к двум-трем веснам после первой стрижки. Купают, кормят отдельно от других, отмеряя пищу в зависимости от времени года и возраста коня.
Силис прикинул, чей скакун может прийти первым. Наверное, опять нравный вороной Хараска отрядника Быгдая.
Малошерстного коня с непривычно маленькой головой и высокими ногами Быгдаю пять весен назад посчастливилось выменять в Эрги-Эн у кого-то из заезжих торговцев. За всего ничего – кусок самородного золота с кулак величиной. Правда, добавил еще три связки соболей да пять медвежьих шкур. Берег Хараску, сам ходил за тонконогим, никому не доверяя. В морозные зимние дни держал в теплом стойле, отстроенном для изнеженного скакуна, и сено давал самое лучшее.
Ставка на доброго верхового – жеребенок будущего приплода. За те годы, пока Хараска бегает, Быгдай, должно быть, табун себе сколотил. Надо присмотреть за пылкими игроками вроде Манихая, способных в безрассудном порыве проиграть всех своих жеребят.
Кончатся скачки, и Силис с главным жрецом проведут славный обряд освобождения лошадей по старинному обычаю Кый. Отправят в исконные земли восемь кобылиц священного белого окраса с вожаком во главе.
В пределах Верхнего мира, не ведающих заката, на привольных молочных лугах пасутся громовые табуны небесных жеребцов и кобылиц. По аласам Срединной земли гуляют их братья и сестры – лошади белых, дымчатых, мышасто-серых, бурых мастей. Редко – пегие и красные, еще реже – вороные.
Что бы делали люди саха без лошадей, главного своего богатства? Они также дороги человеку, как здоровье тела, драгоценны, как зрение и слух. На конях ездят верхом и возят грузы. Жеребячье мясо – самое вкусное, из кобыльего молока готовят кумыс. Из шкур шьют постель и одежду, из волос плетут неводы, циновки и летние шапки. Из копыт нарезают пластинки для воинских доспехов.
Люди не строят лошадям крова. Небо для них должно быть открыто. Только кобыл с жеребятами и верховых коней держат вблизи от дома, летом на огороженных выгонах, зимой за открытыми плетеными изгородями. Веревка и сбруя, а тем более кнут не касаются вожака и матери-кобылицы – наместников Дэсегея на Орто. Им не ставят тавра, не стригут пышные хвосты и гривы. Не перестают люди каяться перед Дэсегеем за грех власти над свободными созданиями. Поэтому в праздник полагается отправлять к божественному прародителю табун белых лошадей в девять голов – таков древний обычай Кый. Провожатые отгоняют избранных туда, где в Великом лесу находятся ничейные пастбища, исконные места диких сородичей круглокопытных.
Завтра к ночи народ устанет славить Дэсегея, петь-танцевать хоровод осуохай. Костры высоко разгорятся для последнего праздничного события. На белую шкуру у трех коновязей усядется олонхосут, приглашенный из северного селенья, куда давно отбыл эленский сказитель. Исстари принято обмениваться исполнителями олонхо. Своего послушать всегда отыщется время, а новой весной приятно насладиться еще не слышанной песнью.
На рассвете гость перейдет в дружеский дом. Сидя на почетном месте, продолжит сказание с короткими перерывами на сон и еду. Три дня, три ночи будет петь-рассказывать о подвигах земных ботуров незапамятных колен.
Мудрое олонхо понудит людей помозговать о жизни. Не намереваются ли пагубные страсти тайком проникнуть сквозь трехслойную броню человеческих душ? Не нарушилось ли равновесие? Ведь так уж создано бытие, что Срединная земля колышется между мирами подобно тому, как люди качаются между благословением и проклятием…
В разные весны в Элен побывали многие именитые сказители обширной Земли саха. Сила корней памяти и певучего слова иных мастеров оказывалась порою настолько могучей, что олонхо длилось девять дней. Бывало, и девять раз по девять. В этот раз Силис попросил гостя спеть трехдневное сказание, не более того. Скоро начнется базар в Эрги-Эн, подготовиться надо. Вновь в бурдюках забродит кумыс. Отцы станут усмирять проказников угрозой не взять их с собою. Матери оденут дочек на выданье во все самое нарядное – вдруг да приглянется девица хорошему парню родом из дальних мест.
Ох, сколько же разномастного люда скопится на левобережье! Не меньше, чем кишащего в мелях нерестового тугуна. Приедут одуллары, луорабе, ньгамендри, тонготы, торговые люди нельгезиды с берегов священного моря Ламы. Может, и великаны-шаялы заявятся. Только и молись, чтобы торжища кончились миром и ладом, без распрей.
Едва Эрги-Эн опустеет, успевай наверстывать упущенное по хозяйству, не то увянут травы Месяца земной силы.
Так, вздыхая, размышлял старейшина Силис о прошедшем и предстоящем.
– Отец, Айана брала твой дэйбир на праздник, – съябедничал за ужином Чиргэл.
Чэбдик, сызмальства все повторяющий за братом, подтвердил:
– Да, я тоже видел.
Айана уткнулась в стол, спряталась за его краем. Поверх столешницы темнели родинка на лбу и виноватые глазенки.
– Но ведь дэйбир на месте? – улыбнулся Силис.
– Наверное, у Айаны была причина взять махалку, – заметила Эдэринка, вопросительно глядя на дочь. – А позволения спросить просто забыла.
– Я хотела… обмахивать Дьоллоха от комаров, пока он станет играть, – пискнула девочка, не сдержав всхлипа.
Близнецы покраснели от стыда за сестренку.
– Ты что, Дьоллохов хвостик? – возмутился Чиргэл.
– …хвостик? – эхом откликнулся Чэбдик.
– Сами вы хвосты друг друга, – огрызнулась Айана, не поднимая головы.
Эдэринка встала из-за стола. Есть ей вдруг расхотелось.
…В урасу вошла тишина. Тонкая ровдужная занавеска над хозяйской лежанкой посветлела от пролитого в окно света белой ночи. Обняв жену, Силис понюхал ее теплое темя, пахнущее дымом праздничных костров. Эдэринка скорбно вымолвила:
– Айана меня беспокоит.
Силис усмешливо хмыкнул.
– Неужто не видишь, что с девочкой творится?! – воскликнула Эдэринка, возмущенная его легкомыслием. – Ходит за Дьоллохом, как потерянный жеребенок!