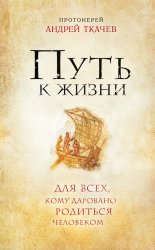Жена немецкого офицера Дворкин Сюзан

Edith H. Beer, Susan Dworkin: THE NAZI OFFICER’S WIFE: HOW ONE JEWISH WOMAN SURVIVED
Печатается с разрешения издательства HarperCollins Publishers, William Morrow Paperbacks.
© Edith H. Beer, Susan Dworkin
© Мария Кузнецова, перевод
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
В память о моей матери,
Клотильде Хан
Пролог
История, которую вам предстоит прочесть, замалчивалась мною сознательно. Как и большинство людей, переживших ужасные трагедии, я никому не рассказывала о том, как, сбежав от гестапо, жила «подлодкой», скрываясь в нацистской Германии под чужим именем. Я старалась забыть прошлое и не мучить новые поколения своими грустными воспоминаниями. Наконец раскрыть правду, рассказать ее миру, оставить письменное свидетельство меня убедила Ангела, моя дочь.
В 1997-м я решила продать свой архив фотографий, писем и документов военного времени на аукционе и обратилась в аукционный дом «Сотбис». Мое собрание приобрели два лондонских друга, любители истории и филантропы – Дрю Льюис и Дальк Фейт. Они приняли решение передать архив в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, США. Там он сейчас и находится. Я невероятно благодарна им за щедрость и ответственность. Архивные документы помогли мне многое вспомнить. Также я глубоко благодарна своему соавтору, Сьюзен Дворкин: выразить свои воспоминания без ее сочувствия и понимания мне бы не удалось.
Выражаю благодарность Нине Саспортас из Кельна, чей исследовательский пыл помог нам значительно улучшить и воссоздать возникшие передо мной сцены, и Элизабет ЛеВангиа Аппенбринк из Нью-Йорка, которая перевела все письма и документы на прекрасный, ясный английский. Большое спасибо Николасу Коларцу, Роберту Левине и Сюзанне Браун Левине, нашему редактору Колину Дикерманну и его коллеге Карен Мерфи, а также нашему издателю Робу Вайсбаху: все эти добрые друзья и прекрасные критики вложили в книгу свой дух, энергию и мудрость.
И наконец, эта книга появилась только благодаря Ангеле Шлютер, моей дочери. Это ее любовь, ее расспросы, ее желание знать, ее интерес к загадкам прошлого побудили меня наконец рассказать свою историю.
Эдит Хан Беер,
Нетания, Израиль
Тихий голос из прошлого
В какой-то момент лук исчез. Другие медсестры Красного Креста, с которыми я работала в Stdtische Krankenhaus, городской больнице Бранденбурга, говорили, что из лука фюрер производит ядовитый газ, необходимый для победы над врагами. Если честно, я уверена, что к тому моменту – стоял май 1943 года – многие граждане Третьего Рейха ради лука готовы были отказаться от удовольствия знать, что врагов потчуют газом.
Я работала в палате, где лежали иностранные рабочие и военнопленные. Я готовила для них чай и развозила его по койкам на специальной небольшой тележке, каждому улыбаясь и каждого подбадривая приветливым «Guten Tag».
Придя однажды на кухню мыть чашки, я застала одну из старших сестер за резкой лука. Кажется, ее звали Хильде. Хильде была из Гамбурга и замужем за офицером. Она сказала, что режет лук себе на обед, и пристально посмотрела мне в лицо, пытаясь понять, догадываюсь ли я, что она лжет.
А я улыбнулась своей глупой улыбкой, посмотрела на нее своими пустыми глазами и занялась посудой, как будто не знала, что лук, купленный на черном рынке, Хильде режет для смертельно раненного русского. Ему оставались считанные дни, и он мечтал вновь попробовать лук. Что покупка лука, что подобная дружба с русским легко могли стоить Хильде свободы.
Как и все немцы, нарушавшие гитлеровские постановления, Хильде из Гамбурга была исключительным явлением. Куда чаще работницы нашей больницы забирали продукты, предназначенные для иностранцев, и съедали их сами или относили в семью. Вы должны понимать, что эти медсестры не имели образования или воспитания, которое превратило бы для них уход за больными в святой долг. Многие из них выросли на фермах Восточной Пруссии. Они знали, что их удел – до самой смерти гнуть спину в полях и амбарах, а работа медсестры позволила им от этого удела сбежать. Вскормленные нацистской пропагандой, они искренне считали, что как «арийки» относятся к некой высшей расе, а русские, французы, голландцы, бельгийцы и поляки, попадавшие в нашу клинику, рождены, чтобы трудиться на благо нордической нации. Конечно, для них кража тарелки супа у низших созданий была не грехом, а совершенно оправданным решением.
Думаю, в то время в Бранденбурге находилось больше десяти тысяч пленных рабочих. Они работали на автомобильной фабрике Опель, на авиационном заводе Арадо и на других производствах. Почти все наши пациенты были жертвами несчастных случаев. Помогая строить немецкую экономику, они калечили руки в прессах, обжигались о раскаленные печи и обливались едкими веществами. Все они были беспомощными рабами. Их увозили от жен и детей, и они мечтали вернуться домой. Я боялась смотреть им в глаза, потому что в них я увидела бы себя, свой собственный страх и свое собственное одиночество.
Больница размещалась в нескольких зданиях, и все они были разделены по функциям. Мы, медсестры, ели в одном строении, стирали в другом. Пациенты, нуждающиеся в ортопедическом лечении, размещались в одном месте, а инфекционные больные в другом. Иностранные граждане, вне зависимости от того, что с ними случилось, всегда находились отдельно от немцев. Мы слышали, что однажды целое здание выделили для размещения иностранцев, заболевших тифом. Эта болезнь распространяется с зараженной водой. Мы, простые девушки, не в силах были понять, как они подцепили тиф здесь, в Бранденбурге, прекрасном старом городе, всегда вдохновлявшем творцов, в городе, где вода была чистой, а еда подвергалась строгим правительственным проверкам. Многие решили, что иностранцы были сами виноваты, что дело было в их нелюбви к гигиене. Эти медсестры сумели убедить себя, что болезнь возникла не из-за невыносимых условий, в которых эти люди вынуждены были существовать.
Сама я была не медсестрой, а скорее помощницей медсестры: я занималась только черной и самой простой работой. Я кормила тех, кто не мог есть сам, протирала тумбочки, отмывала судна. В первый же день работы я помыла двадцать семь суден – в обычной раковине, словно посуду после ужина. Еще я мыла резиновые перчатки. То были не сегодняшние одноразовые тоненькие белые перчаточки. Наши были тяжелые, толстые, рассчитанные на многократное использование. Их внутреннюю поверхность нужно было припудривать. Иногда я готовила черную мазь, наносила ее на бинты и делала компрессы, способные облегчить ревматические боли. Собственно, все. Ничего более сложного я делать не имела права.
Однажды меня попросили помочь с процедурой переливания крови. Сестры выкачивали кровь у пациента в особую емкость, а затем переливали ее в вены другого больного. Я должна была помешивать кровь, чтобы она не свернулась. Мне стало дурно, и я выбежала из комнаты. «Ну, Грета – всего лишь глупая необразованная девчонка из Вены, считай, уборщица, – сказали они. – Что с нее возьмешь? Пусть себе кормит иностранцев, которым оторвало пальцы».
Я молилась, чтобы в мою смену никто не умер. Видимо, молитвы были услышаны, потому что пациенты всегда дожидались моего ухода и умирали уже потом.
Я старалась их поддерживать. Чтобы унять тоску французов по дому, я говорила с ними по-французски. Похоже, я улыбалась слишком приветливо, потому что однажды старшая медсестра сказала, что я чересчур добра к иностранцам. В связи с этим меня перевели в родильное отделение.
Понимаете, тогда ведь повсюду были доносчики. Именно поэтому Хильде, нарезавшая запрещенный лук для русского пациента, так испугалась даже меня, Маргарете, сокращенно Греты. Даже меня, приехавшей из Австрии необразованной двадцатилетней помощницы медсестры. Заподозрить в работе на Гестапо или СС могли кого угодно, даже меня.
В начале осени 1943 года, почти сразу после моего перевода в новое отделение, скорая помощь прямиком из Берлина привезла к нам важного промышленника. С ним случился апоплексический удар. В таком состоянии человеку требуется покой, тишина и постоянный уход. С января Берлин постоянно бомбили, так что друзья и родственники пострадавшего решили, что восстановление пройдет быстрее у нас в Бранденбурге: бомбежек не было, работники больницы не сталкивались день ото дня с чрезвычайными происшествиями и могли посвятить ему достаточно времени. Ухаживать за этим человеком назначили меня – видимо, потому что я была самой младшей и почти ничего не умела. Во мне не слишком нуждались.
Работа была не самая приятная. Моего частично парализованного пациента приходилось водить в туалет, кормить, постоянно обмывать и переворачивать. Кроме того, его бессильное, мягкое тело нуждалось в массаже.
Вернеру, моему жениху, я об этом пациенте почти ничего не рассказывала: я боялась, что в Вернере проснутся амбиции, и он захочет воспользоваться моей близостью к такому важному человеку. Вернер везде высматривал новые возможности. По собственному опыту он хорошо знал, что в Рейхе люди поднимаются не благодаря талантам и уму, а исключительно через высокопоставленных друзей и родственников. Вернер был талантливым, вдохновенным художником. До прихода нацистов к власти он, со всеми своими талантами, был нищ и бездомен. Он спал в лесу, под открытым небом. Но для него настали лучшие времена. Вступив в нацистскую партию, Вернер стал руководителем малярного цеха на авиазаводе Арадо. Под его началом работало множество иностранцев. Очень скоро он должен был стать офицером вермахта и моим преданным мужем. Но он не расслаблялся – о нет, только не Вернер. Он всегда искал что-нибудь еще, какой-нибудь незамеченный путь наверх, туда, где он наконец получил бы все, что, по его мнению, ему полагалось. Вернер был беспокойным, импульсивным, амбициозным человеком. Расскажи я ему о моем важном пациенте, он бы тут же начал строить на него планы. Поэтому я сообщила ему ровно столько, сколько было необходимо, и ни словом больше.
Когда моему пациенту пришел букет цветов лично от Альберта Шпеера, рейхсминистра вооружений и военного производства, я поняла, почему другие сестры были так рады отказаться от ухода за этим больным. Работать с высокопоставленными членами партии было слишком опасно. Любой недочет – упавшее судно, разлитый стакан воды – мог подставить тебя под удар. А что, если я слишком быстро его переворачивала, слишком неаккуратно мыла, кормила его слишком горячим, слишком холодным или слишком соленым супом? А что, Господи боже мой, если у него будет новый удар? Что, если он умрет, когда я за него отвечаю?
Трясясь от ужаса при одной мысли о том, сколько всего можно сделать не так, как надо, я изо всех сил старалась не допустить ни одной ошибки. Естественно, промышленник был мной крайне доволен.
«Вы прекрасно работаете, сестра Маргарете, – сказал он мне однажды во время купания, – похоже, несмотря на юность, вы успели обзавестись незаурядным опытом».
«О нет, сэр, – ответила я очень тихо, – я только что закончила курсы. Я просто делаю то, чему меня научили».
«И вы никогда раньше не имели дела с последствиями апоплексии…»
«Нет, сэр».
«Удивительно».
С каждым днем он все лучше двигался и все четче разговаривал. Вероятно, быстрое восстановление очень его радовало, поскольку он почти всегда находился в прекрасном настроении.
«Скажите, сестра Маргарете, – поинтересовался он во время массажа стоп, – что жители Брандербурга думают о войне?»
«О, я понятия не имею, сэр».
«Но ведь какие-то разговоры вы наверняка слышали… Мне интересно, что думают люди. Что говорят о норме мяса?»
«Она весьма щедра».
«Что говорят о новостях из Италии?»
Могла ли я признаться, что знаю о высадке солдат Коалиции? Должна ли я об этом знать? Могла ли я об этом не знать? «Все уверены, что англичане вскоре будут повержены, сэр».
«Может, вы знаете кого-нибудь, чей жених сражается на Восточном фронте? О чем пишут солдаты?»
«Солдаты совсем не пишут о битвах, сэр, они не хотят, чтобы мы беспокоились, а еще они боятся написать какую-нибудь важную информацию, ведь почту могут перехватить враги. Тогда все их товарищи будут в опасности».
«Вы слышали рассказы о каннибализме русских? Как они поедают своих детей?»
«Да, сэр».
«Вы в это верите?»
Я решила рискнуть. «Многие верят, сэр. Но мне кажется, что, если бы русские ели своих детей, русских было бы гораздо меньше, чем сейчас».
Он рассмеялся. В глазах этого вежливого человека светился ум и юмор. Он даже напомнил мне моего дедушку, о котором я когда-то давно заботилась после апоплексии… Очень давно, в прошлой жизни. Я немного расслабилась и вела себя уже не так осторожно.
«Как вы думаете, сестра, чем фюрер мог бы порадовать своих граждан? Как вы считаете?»
«Мой жених говорит, что фюрер любит Германию как свою жену, и именно поэтому он не женат, и что он готов на все, чтобы граждане Германии были счастливы. Если вы можете с ним поговорить, сэр, скажите фюреру, что мы были бы счастливы, если бы нам прислали немного лука».
Это очень его повеселило. «Вы прекрасное лекарство, Маргарете. Вы прямая и добрая девушка, образец немецкой женственности. Скажите, ваш жених сейчас на фронте?»
«Пока нет, сэр. Он многое умеет и сейчас готовит для Люфтваффе новые самолеты».
«О, замечательно, – одобрил он, – мои сыновья тоже отличные молодые люди, они хорошо себя проявили». Он показал мне фото своих высоких, красивых сыновей в униформе и гордо рассказал, что они стали важными людьми в нацистской партии.
«Легко быть кардиналом, – сказала я, – когда твой кузен – Папа римский».
Он прекратил хвастаться и пристально на меня посмотрел. «А вы не такая уж простая девушка, – сказал он, – вы весьма умная женщина. Где вы учились?»
Я вся напряглась. Во рту пересохло.
«Так говорила моя бабушка, – объяснила я, перевернув его, чтобы обмыть спину, – просто семейная поговорка».
«Когда придет пора возвращаться в Берлин, я хочу, чтобы вы поехали со мной как моя личная медсестра. Я договорюсь с вашим начальством».
«Сэр, о, я была бы счастлива отправиться с вами, но я совсем скоро выхожу замуж, понимаете, я просто не могу уехать из Бранденбурга, это невозможно! Но спасибо вам, сэр! Большое спасибо! Какая честь! Какая честь для меня!»
Моя смена кончилась. Я пожелала ему спокойной ночи и, пошатываясь, вышла из палаты. Я была вся в поту. Медсестре, которая пришла меня заменить, я сказала, что вспотела, поднимая тяжелые конечности пациента. На самом деле я чуть не выдала себя. Самое небольшое проявление воспитанного ума – знание литературы или истории в объеме, недоступном обычной австрийке – могло выдать меня столь же верно, как обрезание у мужчин.
По пути домой, в восточную часть города, где мы с Вернером жили в комплексе для сотрудников Арадо, я в миллиардный раз повторяла себе, что нужно быть осторожной, что я должна прятать свой интеллект, что нужно молчать и казаться глупой.
В октябре 1943-го другие медсестры Красного креста доверили мне большую честь. Городские власти Бранденбурга запланировали митинг, и каждая группа рабочих должна была прислать представителя. Так или иначе, ни одна из старших сестер прийти не могла. Я думаю, что они просто не хотели посещать это празднование, потому что знали, что войскам Германии в России, Северной Африке и Италии приходится тяжело (как они это узнали, я даже представить не могу: по немецкому радио об этом не сообщали, а слушать «Говорит Москва», «Би-Би-Си», «Голос Америки» и швейцарское Беромюнстер было строжайше запрещено). Мне доверили представлять на митинге нашу группу. Вернер был очень горд. Так и вижу, как он хвастался коллегам на заводе Арадо: «Ну естественно, они выбрали мою Грету! Она настоящая патриотка своей Родины!» У моего Вернера было хорошее чувство юмора, он отлично умел подмечать иронию происходящего.
К митингу я готовилась очень тщательно. Надев униформу Красного креста, я убрала свои каштановые волосы в простую естественную прическу без заколок, завивки или помады. На мне не было ни макияжа, ни украшений, если не считать тоненького золотого кольца с крошечным бриллиантом, которое отец подарил мне на шестнадцатилетие. Я была невысокой, чуть выше 150 см, и фигура у меня в те времена была красивая. Я старательно ее скрывала под мешковатыми белыми чулками и бесформенным передником. Я не хотела выглядеть привлекательно. Аккуратно, чисто – да. Но обязательно просто. Выделяться было нельзя.
Этот митинг очень отличался от того, к чему мы все давно успели привыкнуть. Не было ни оглушительного барабанного боя, ни шумных маршей, ни развевающихся флагов в руках красивой молодежи в униформе. На этот раз митинг был подчинен определенной цели, а именно подавить пораженческие настроения, охватившие Германию после зимнего фиаско под Сталинградом. В августе Генрих Гиммлер был назначен рейхсминистром внутренних дел с требованием «Вернуть веру немцев в Победу!». Мы слушали одно выступление за другим. Нас убеждали бросить все силы в работу, чтобы поддержать храбрецов на фронте, ведь если мы проиграем войну, то нас снова настигнет донацистская нищета, которую многие прекрасно помнили, и работы больше не будет. Если же нам надоело наше вечернее Eintopf, скудное блюдо, провозглашенное Йозефом Геббельсом разумной жертвой, доступной каждому гражданину рейха, то мы должны помнить, что после Победы нас ждут королевские пиры с настоящим кофе и золотистым хлебом на яйцах и белой муке. Нам говорили, что мы должны всеми силами поддерживать высокую продуктивность, а также сообщать о тех, кто предал Родину, в особенности о тех, кто слушает зарубежные радио и верит в «неоправданно преувеличенные» поражения Германии в Северной Африке и Италии.
«Господи, – подумала я, – да они забеспокоились».
Нацисты, «повелители планеты», начали нервничать. У меня закружилась голова, перехватило дыхание. В голове заиграла старая песенка.
«Тс-с-с-с-с, – сказала я себе. – Для песен еще рановато. Тс-с-с-с-с».
Той ночью, включая вместе с Вернером «Би-Би-Си» я молилась, чтобы военные неудачи Германии привели к скорому окончанию войны, ведь тогда я могла бы больше не скрываться. Но я ни с кем, даже с Вернером, не делилась своими надеждами. Я скрывала радость, говорила тихо, вела себя скромно и незаметно. Невидимость. Тишина. Всему этому я научилась, пока, сумев скрыться от преследователей, тайно жила в самом сердце Третьего Рейха. Пережившие Холокост сейчас называют таких, как я, U-boat, то есть подводными лодками.
Когда я жила уже в Англии и была замужем за Фредом Беером, эти привычки меня оставили. Теперь же Фред умер, а я постарела. Мне тяжело контролировать свои воспоминания, и я снова веду себя так, как научилась тогда, во время войны. Я сижу, как сейчас с вами, в моем любимом кафе на площади в Нетании, на берегу моря, в Израиле, и кто-нибудь подходит и просит рассказать, каково было во время войны жить в Германии с членом нацистской партии, каково было притворяться арийкой и вечно бояться себя чем-нибудь выдать. Я отвечаю очень тихо, как будто стесняясь собственного незнания: «Не могу. Знаете, все это давно забылось». Глаза мои становятся пустыми, взгляд теряет фокус, голос делается сонным, тихим, робким. Такой я была, когда жила в Бранденбурге и притворялась необразованной двадцатилетней помощницей медсестры. Мне было двадцать девять, я была еврейкой и когда-то изучала юриспруденцию. Гестапо давно объявило меня в розыск.
Вы должны извинить меня за моменты, когда этот робкий голосок из прошлого вырывается на свободу. Останавливайте меня, напоминайте: «Будьте смелее, Эдит! Рассказывайте».
Прошло более полувека.
Пожалуй, пора.
Венская семья Хан
Давным-давно, когда я была венской школьницей, мне казалось, что весь мир собрался в нашем городе и сидит теперь за кофе и приятными беседами в солнечных кафе. Из школы я возвращалась мимо оперного театра, мимо прекрасных площадей, Йозефплац и Михаэлерплац. Я играла в парках Фольксгартен и Бурггартен. Я наблюдала за почтенными дамами в шелковых чулках и щегольских шляпках, за джентльменами с золотыми цепочками для часов и тросточками, следила за тем, как рабочие из всех уголков исчезнувшей империи Габсбургов штукатурят и красят великолепные фасады домов. Руки у них были мозолистые, крупные, умелые. Магазины были полны шелками, хрусталем и экзотическими фруктами. Появлялись все новые и новые изобретения.
Однажды, просочившись сквозь толпу, я пронаблюдала, как девушка в униформе горничной демонстрирует нечто под названием «пылесос». Она насыпала на ковер грязи и песка, включила прибор, и грязь волшебным образом тут же исчезла. Я, пища от восторга, ринулась рассказывать о пылесосе одноклассницам. В десять лет я отстояла длиннейшую очередь перед магазином под названием Die Bhne, «Сцена». Наконец я села за стол. Передо мной красовалась большая коричневая коробка. Милая девушка надела на меня наушники, и коробка ожила. Заговорила. Запела. Это было радио.
Я тут же побежала в папин ресторан, чтобы рассказать семье. Мою сестру Мими, которая была всего на год младше, радио не заинтересовало. Наша младшая, Йоханна, сокращенно Ханси, была еще слишком мала. Мама и папа были заняты, и времени слушать мой рассказ у них не было. Но я знала, что в тот день познакомилась с чем-то совсем особенным, что радио станет править миром. Помните, что в 1924 году оно только-только появилось. Просто представьте, каким волшебством все это казалось. Люди просто не могли не верить тому, что слышали по радио.
Я в полном восторге поделилась с моим любимцем из числа папиных постоянных гостей, профессором Шпитцером из Технического Университета: «Профессор, тот, кто говорит, может быть очень далеко! Но его голос летит по воздуху, как птица! Скоро мы сможем слышать людей, которые находятся на другом конце земли!»
Я с большим энтузиазмом поглощала газеты и журналы, которые папа держал для посетителей ресторана. Больше всего я любила читать о юриспруденции – описания дел, аргументы и задачи, от которых просто голова шла кругом. Я носилась по нашему «городу вальсов» в вечном поиске, кому бы рассказать о том, что я прочла и что видела.
Школу я обожала. В моем классе были только девочки: папа не одобрял совместное обучение. В отличие от сестер, я учиться любила, и уроки легко мне давались.
Нас учили, что Франция – наш главный враг, что итальянцы – предатели и что Австрия проиграла Первую Мировую войну только из-за «удара в спину». Впрочем, было не вполне ясно, кто этот удар нанес. Нередко учителя спрашивали, на каком языке мы говорим дома. Таким нехитрым путем они хотели узнать, не говорим ли мы на идише (на идише мы не говорили) и, соответственно, не еврейки ли мы (мы были, конечно, еврейки).
Они хотели знать наверняка, понимаете? Они боялись, что под нашими типично австрийскими лицами прячется еврейство. Этого обмана они допустить не могли. Еще тогда, в 1920-х, им хотелось, чтобы было сразу понятно, еврей человек или нет.
Однажды профессор Шпитцер спросил у папы, какие у него планы на мое дальнейшее образование. Он сказал, что после школы я стану учиться шить и пойду по стопам матери.
«Но у вас, мой дорогой господин Хан, растет крайне смышленая девочка, – сказал профессор, – вы обязаны отправить ее учиться дальше. Возможно, и в университет».
Папа только рассмеялся. Будь я мальчиком, он бы отдал за мою учебу последнюю рубашку. Я же была девочкой, и он даже не думал ни о каких университетах. Тем не менее раз уж об этом заговорил известный профессор, папа решил обсудить этот вопрос с мамой.
У моего отца, Леопольда Хана, были кудрявые черные волосы и красивые черные усы. Его веселый, общительный характер идеально подходил для ресторатора. У папы было пять старших братьев. Конечно, к моменту, когда можно было говорить о его образовании, деньги в семье давно кончились. Поэтому он и решил выучиться на официанта. Понимаю, что сейчас в это сложно поверить, но тогда для этого нужно было учиться несколько лет. Папу любили. Ему доверяли любые секреты. Ему достался редкий дар: он был очень хорошим слушателем.
Папа был опытным, искушенным человеком. Даже сложно представить, сколько всего он знал и видел. Ему довелось поработать на Ривьере и на чехословацких курортах Мариенбад и Карлсбад. Он бывал на сумасшедших вечеринках, участвовал в Первой Мировой войне на стороне Австро-Венгрии, был ранен и попал в плен, но сбежал и вернулся домой. Из-за ранения у него плохо двигалась рука. Бриться он сам не мог.
Ресторану в самом центре Вены, на улице Кольмаркт, папа посвятил всего себя. Посетителей встречала длинная полированная стойка. Столовая была дальше, в глубине. Люди приходили к папе каждый день на протяжении многих лет. Папа заранее знал, что тот или иной гость закажет на ужин. Он покупал каждому его любимую газету. Он создал для них уютный и надежный мирок, где все всегда было одинаково.
Мы жили в Четвертом районе, в двухкомнатной квартире в бывшем дворце по улице Аргентиниерштрассе, 29. Наш арендодатель был королевского рода – компания называлась «Габсбург-Лотринген». Мама, как и папа, всю неделю работала в ресторане, так что мы с сестрами там и питались. Пока мы были детьми, за нами следила няня. По дому все делала горничная.
Мою маму звали Клотильда. Это была невысокая, красивая, пышная, привлекательная женщина, но совсем не кокетка. У нее были длинные черные волосы. Мама была терпелива, задумчива, часто вздыхала. Она легко прощала людям ошибки и знала, когда лучше промолчать.
Всю свою нерастраченную нежность я щедрым потоком выливала на Ханси, самую младшую из нас троих. Она была младше меня на семь лет. В моих глазах Ханси с ее пухлыми розовыми щечками и крутыми локонами была просто херувимом из барочного собора. Мими я недолюбливала – впрочем, взаимно. У нее были слабые глаза, толстые очки и плохой характер: Мими всем вечно завидовала и ходила с кислым лицом. Маму постоянная грусть Мими пугала, так что ей доставалось абсолютно все, что она хотела: по мнению мамы, я, такая веселая и свободная, могла и сама о себе позаботиться. У Мими друзей не было, меня же, как папу, все любили, и мне приходилось везде брать Мими с собой и со всеми ее знакомить.
Папа усердно о нас заботился. Благодаря ему мы и не догадывались, что в мире далеко не все прекрасно. Он все за нас решал, собирал нам приданое. В хорошие времена, если у него было настроение, он мог по пути домой зайти на аукцион и купить в подарок маме какое-нибудь украшение – золотую цепочку или янтарные серьги. Дожидаясь, пока мама развернет упаковку, он всегда прислонялся к спинке одного из наших кожаных кресел и смаковал ее радость. Он восхищался мамой. Они никогда не ругались. Я не преувеличиваю: они никогда не ругались. Вечерами мама шила, папа читал газету, а мы делали уроки. Все мы наслаждались shalom bait – так говорят в Израиле, если дома царит мир и гармония.
Думаю, папа хорошо знал, как быть евреем, но нас он этому не учил. Наверное, он думал, что мы впитаем все необходимое с молоком матери. Днем в субботу мы должны были посещать Judengottesdienst, детскую молитву в синагоге. Водить нас туда должна была горничная, но она, как и большинство австрийцев, была католичкой и побаивалась синагоги. Мама же, зная, что все работающие женщины во многом зависят от воли прислуги, побаивалась горничной. В итоге посещали молитву мы редко и почти ничего не запомнили. У меня в голове прочно засела только одна песня.
- Однажды Храм будет воссоздан,
- Евреи вернутся в Иерусалим.
- Так говорит Святое Писание.
- Да будет так. Аллилуйя!
Если не считать символа веры – Шма, Исраэль! Адонай Элохейну. Адонай Эхад! – и детской песни о Храме, больше я о еврейских молитвах и службах не знала ничего.
Жаль, что так получилось.
И слава Богу, что я знала хотя бы это.
На Рош а-Шана и Йом Кипур папин ресторан закрывался (там, как и у нас дома, не подавали ни свинину, ни морепродукты, но в остальном правил кашрута не придерживались). На эти праздники мы ходили в синагогу – впрочем, в основном чтобы встретиться с родственниками. Мама и папа состояли в дальнем родстве: оба еще до свадьбы носили фамилию Хан. У мамы был брат и две сестры, у папы – три сестры и шесть братьев. В Вене жило больше тридцати Ханов, приходившихся друг другу двоюродными и троюродными братьями и сестрами. Прогуливаясь по парку Пратер, в третьем по счету кафе вы непременно обнаружили бы как минимум одного Хана. Каждая ветвь нашей большой семьи соблюдала еврейские религиозные традиции по-своему. Например, тетя Гизела Киршенбаум, папина сестра и тоже владелица ресторана, каждый год бесплатно приглашала бедняков на Седер Песах. Мамин брат Рихард, стопроцентный атеист, женился на наследнице мебельной фабрики из Тополкани (это недалеко от Братиславы). Его избранницу звали Рози, и ее воспитывали в духе ортодоксального иудаизма. Ей было неприятно видеть, насколько Ханы ассимилировались, и она всегда уезжала на праздники в Чехословакию.
Иногда в моих родителях неожиданно просыпалось религиозное чувство. Например, как-то я, будучи в гостях у подруги, съела сэндвич с кровяной колбаской. «Это так вкусно!» – рассказала я маме, и она просто задохнулась от ужаса. Это меня поразило. В другой раз я, ничего особенного не имея в виду, поинтересовалась у папы, могу ли выйти замуж за христианина. Сверкая глазами, он ответил: «Нет, Эдит. Я этого не вынесу. Это меня убьет. Конечно, нет».
Папа считал, что евреи должны быть лучше других. Он требовал, чтобы мы лучше всех учились, чтобы осознавали социальную ответственность, чтобы имели прекрасные манеры, чтобы одевались с иголочки. Он хотел, чтобы в нас жили железные моральные принципы.
Тогда, конечно, я об этом не задумывалась, но сейчас понимаю: папа так настаивал, чтобы мы, евреи, были лучшими, потому что вся страна была уверена, что хуже нас никого нет.
У маминых родителей был серый дом с лепниной к северу от Вены, в небольшом городке Штокерау. Мы навещали их по выходным и всегда приезжали по праздникам. Там жила моя двоюродная сестра Юльчи. Когда Юльчи было девять, мама (мамина сестра Эльвира) оставила ее у бабушки, а сама уехала домой и покончила с жизнью. Отец Юльчи остался в Вене. Юльчи же, пережив эту травму, стала робким, сложным ребенком. Наши бабушка и дедушка воспитали ее, как свою дочь.
Юльчи была крупной, округлой, темноволосой и темноглазой девочкой. У нее были полные, чудесно очерченные губы, золотое сердце и то, чего так не хватало моей сестре Мими: великолепное чувство юмора. Юльчи играла на фортепиано – плохо, но, поскольку весь клан Ханов был обделен музыкальным слухом, нам ее слушать нравилось. Мы сочиняли оперы, а она старательно и неуклюже аккомпанировала. Я, «сестра-интеллектуалка», влюбилась в готические романы, полные тайн и страстей, а Юльчи обожала кино и свинг.
Бабушка Хан – низенькая, полная, сильная и невероятно строгая женщина – часто приказывала нам сделать что-нибудь по дому, а сама уходила на рынок. Конечно, мы ни секунды не занимались делами, а просто играли. Стоило нам увидеть ее вдалеке на дороге, как мы влезали в дом через окно и принимались, как послушные и старательные девочки, все мыть и подметать, чтобы бабушка, вернувшись, увидела, какие мы работящие. Не думаю, что она хоть раз нам поверила.
Бабушкой правило стремление привнести в мир как можно больше прекрасного. Она то вывязывала изящные кружевные салфетки, то учила Юльчи печь пироги, то ухаживала за курами, гусями или собакой (ее звали Морли), то поливала свои тысячи растений в горшочках. У нее были, кажется, все существующие в мире кактусы. Она заранее предупреждала маму: «Клотильда! В воскресенье у меня расцветет кактус. Привози детей, пусть посмотрят». Мы приезжали в Штокерау и восхищались этими цветами пустыни, тем, как мужественно они борются за жизнь в нашей холодной стране.
Дедушка Хан держал магазин швейных машин и велосипедов, а также работал агентом на компанию Пух, производителей знаменитых австрийских мотоциклов. По воскресеньям, когда местные фермеры, посетив церковь и насидевшись в пабе, отправлялись за покупками на всю неделю, бабушка помогала дедушке в магазине. Дедушку и бабушку знали все. Во время карнавалов, когда каждая гильдия готовила представление, губернатор Штокерау всегда усаживал их рядом с собой.
На очередной дедушкин день рождения нам дали задание выписать из маминой Wu..nschbuch одно стихотворение и выразительно его прочесть. Хорошо помню, как он сидел, гордо, словно кругленький король, принимая наше стихотворное подношение, и у него блестели глаза. Помню, как крепко он меня обнимал. Совсем недалеко от дедушкиного и бабушкиного дома протекала река, один из притоков Дуная. Мы с Юльчи обожали купаться. Чтобы дойти до берега, нужно было пройти по высокому деревянному мосту. Однажды, когда мне было семь, я проснулась раньше всех, побежала на речку, поскользнулась на этом мосту и полетела вниз, вниз, вниз – и в воду. Всплыв к поверхности, я в ужасе завопила. Меня спас какой-то молодой человек.
С тех пор я стала бояться высоты. Я не каталась на лыжах в Альпах, не влезала на крыши зданий и не вешала на купола социалистических плакатов. Я всегда старалась держаться поближе к земле.
В 1928 году инфляция дошла до того, что цена блюд успевала удвоиться за время обеда, и папа решил продать ресторан.
Слава Богу, ему повезло с новой работой. Его пригласила к себе семья Кокишей – папа уже работал у них на Ривьере.
Принадлежавший им отель «Бристоль» стоял на лужайке у снежных гор. В мраморных спа побулькивали лечебные источники, по саду бегали откормленные белки, а по дорожкам, негромко переговариваясь, прогуливались богачи. Вечером в беседке непременно пела или играла какая-нибудь талантливая, по мнению родителей, девушка. В этот рай мы приезжали каждое лето.
«Бристоль» был единственным кошерным отелем в этой местности, а значит, все евреи останавливались именно там. Там бывали, например, Оксы, владельцы «Нью-Йорк Таймс», Зигмунд Фрейд и писатель Шолем Аш. Однажды на обед в отель пришел высокий блондин в баварских брюках lederhosen и тирольской замшевой шляпе. Папа подумал, что он ошибся и зашел не туда. Однако блондин снял шляпу, надел ермолку и встал, чтобы произнести браху. «Да уж, даже сами евреи не всегда могут узнать своих», – рассказывал потом, посмеиваясь, папа.
Там, в Багдаштейне, мы впервые увидели польских раввинов: они носили прекрасные длинные бороды и ходили, степенно сложив руки за спиной. Их окружала аура таинственности и спокойствия. Один из этих раввинов спас мою жизнь.
Мне тогда было шестнадцать. Кто может в шестнадцать ограничить себя в удовольствии? Я слишком долго просидела в одной из купален и схватила тяжелую простуду. Началась лихорадка. Мама уложила меня в постель, сделала чаю с медом, приготовила компрессы для лба и запястий. Вечером в дверь постучался один из раввинов. Он объяснил, что пропустил вечернюю молитву в шуле и просит дозволения произнести ее у нас дома. Конечно, мама разрешила. Когда он закончил, мама попросила у него благословения для больной дочери.
Он весь так и лучился добротой. Он подошел к моей постели, погладил меня по руке, произнес что-то на иврите – я не знала на этом языке ни слова – и ушел. Я выздоровела.
В дальнейшем, когда я была уверена, что не выживу, я всегда вспоминала этого раввина и думала, что его благословение защищает меня. Это очень меня успокаивало.
Конечно, отдельные моменты в жизни этого маленького рая оставляли желать лучшего, но у нас не было иного выхода, как мириться с некоторыми неудобствами. Например, в провинции, где стоял отель, кошерный забой скота был запрещен. Шохету приходилось забивать животных в соседней провинции и оттуда доставлять мясо в «Бристоль». Кроме того, поколение наших бабушек и дедушек проживало в пригородах Вены – во Флорицдорфе или Штокерау. В самой Вене евреям жить запрещалось. Запрет был снят, когда наши родители были уже взрослыми людьми.
Как видите, мы сталкивались со всеми трудностями жизни евреев в антисемитской стране, но упускали все обычные плюсы еврейства. Мы не изучали Тору, не знали молитв, не жили тесной общиной. Не говорили ни на идише, ни на иврите. Нас не поддерживала глубокая вера в Бога. В Польше были хасиды, в Литве – ешивы, но мы не имели к ним никакого отношения. Мы не были внутренне свободны, как американцы. Израиля тогда не существовало. Не было солдат в пустыне, не было идеи, что наш народ ничем не отличается от других народов мира. Помните об этом, слушая мой рассказ.
У нас был только ум и стиль. Мы жили в Вене, а это особенный город. Императрица Дунайская, Красная Вена. Там были социальные пособия, рабочим выдавалось жилье, там гении нашего века, такие, как Фрейд, Герцель или Малер, рождали свои великолепные идеи, там все обсуждали психоанализ, сионизм, социализм, реформы, нововведения. Своим блеском Вена освещала весь мир.
Знаете, евреям полагается «нести свет народам». И уж в этом отношении ассимилированных венских евреев упрекнуть было не в чем.
Хорошая девочка Пепи Розенфельда
Папа решил, что я буду учиться дальше, и моя жизнь кардинально изменилась: я впервые получила возможность общаться и дружить с мальчиками. Я, конечно, говорю не о сексе. В моем кругу девочки и не думали расставаться с девственностью до свадьбы. Дело было в интеллектуальном развитии.
Видите ли, в те времена мальчики были гораздо более образованны, чем девочки. Они больше читали, больше путешествовали и больше думали. Впервые у меня были друзья, с которыми можно было обсудить то, что меня по-настоящему интересовало: литературу, историю, общественные проблемы и что нужно сделать, чтобы абсолютно все были счастливы.
Я любила математику, французский, философию. Записи я делала стенографическими знаками, но никогда их не перечитывала: слишком хорошо запоминала все на занятиях. Каждое утро перед уроками ко мне приходила заниматься математикой одна моя подруга. Математика так плохо ей давалась, что мама даже окрестила ее «фройляйн Энштейн». Я очень старалась объяснять все так, чтобы она не расстраивалась и не чувствовала себя униженной, но наградой за мой такт и терпение были сплошные жалобы. «Почему все евреи такие умные?» – горько вопрошала она.
Я тогда была типичным синим чулком. Меня страстно увлекали чужие идеи и мечты о приключениях. Я думала уехать в Россию, жить среди крестьян и писать гениальные романы о романтических отношениях с комиссарами. Я думала стать юристом, а может, и судьей, и вершить справедливость. Об этом я впервые задумалась в сентябре 1928-го, когда все только и говорили, что о суде над Филиппом Халсманом, так называемым «австрийским Дрейфусом».
Халсман с отцом отправились в поход в Альпы. Они были в районе Иннсбрука, когда Филипп сильно обогнал отца, а когда вернулся, обнаружил, что тот, видимо, оступился и упал с тропы вниз, в ручей. Он был мертв. Филиппа обвинили в убийстве собственного отца. У стороны обвинения не было никаких доказательств, но Халсман был евреем, а многие австрийцы вполне допускали, что евреи от природы склонны к убийствам. Этим и воспользовались прокуроры. Один проповедник провозгласил с кафедры, что отказ Халсмана признаться в убийстве отца делает его хуже Иуды. Какой-то полицейский утверждал, что к нему, как в Гамлете, пришел призрак убитого отца и обвинил в своей смерти сына.
Филиппа приговорили к десяти годам каторжных работ. Он провел в заключении два года. Затем благодаря вмешательству нобелевского лауреата Томаса Манна и других влиятельных людей Филиппу было даровано помилование и разрешение на выезд из Австрии. Он переехал в Америку и стал известным фотографом.
Эта история очень меня вдохновила. Я так и видела себя слугой закона, представляла, как сижу в зале суда. Я верила, что не допущу осуждения невиновного.
Я никогда не нарушала никаких правил, если не считать того, что я регулярно прогуливала физкультуру. Это никого не волновало, потому что и представить было невозможно, чтобы девочке из моего круга когда-то потребовалась физическая сила. Я была немного zaftig, пухленькой – тогда это считалось красивым. Мальчикам я нравилась.
Я прекрасно их помню. Вот Антон Ридер, красивый, высокий, бедный, строгий католик. Мы поглядывали друг на друга издалека. Вот Рудольф Гиша, умный и амбициозный. Он звал меня своей колдуньей и уговорил пообещать, что после учебы мы поженимся. Пообещать я пообещала, но сказала, что эта помолвка будет нашим с ним секретом. Я прекрасно знала, что если отец услышит о моем намерении выйти замуж не за еврея, он запрет меня дома и ни за что не пустит в университет. Ради университета я была готова на все. Он был для меня куда важнее всех мальчиков, вместе взятых.
В моем классе было тридцать шесть учеников, евреев из них было трое: Штеффи Канагур, Эрна Маркус и я. Однажды кто-то написал на их партах: «Евреи, ваше место в Палестине!». На моей парте надписей не было. Те девочки были из Польши, я же была австрийка. Кроме того, по ним было гораздо лучше видно, что они еврейки.
Стоял 1930 год.
Эрна Маркус была сионисткой. Мой отец как-то разрешил сионистам устроить встречу в его ресторане и пришел к выводу, что сама идея воссоздания еврейского государства в Палестине неосуществима, что это только пустые мечты. Тем не менее, на нас лилось столько антисемитской пропаганды, что многие молодые венские евреи тянулись к сионистам. Среди них была и моя сестра Ханси. Пока я читала Канта, Ницше, Шопенгауэра, зачитывалась Гете и Шиллером, Ханси успела присоединиться к левой сионистской молодежной организации Хашомер-Хацаир. Она решила пройти курс Hachshara и поехать в Израиль в числе первой группы поселенцев.
Штеффи Канагур была коммунисткой, как и ее брат Зигфрид. Как-то в воскресенье я сказала родителям, что пойду на демонстрацию коммунистов против христианско-демократического правительства. На самом деле я собиралась встретиться с Рудольфом Гишей.
«Ну что, как там демонстрация?» – поинтересовался вечером папа.
«Это просто нечто! – воскликнула я. – Было столько красных шариков, у всех были флаги! Выступал хор коммунистической молодежи, был оркестр с трубами и огромными барабанами… и… что такое?»
Папа ухмылялся. Мама спрятала лицо в фартук, безуспешно пытаясь подавить взрыв смеха.
«Демонстрации не было, – сказал папа, – правительство ее запретило».
Я с позором отправилась в комнату играть в шахматы с Ханси. Весь вечер я думала, почему правительство решило отменить демонстрацию Зигфрида Канагура.
Видите ли, я ничего не смыслила в политике. Все мое участие в политических собраниях было для меня в основном игрой, хорошей возможностью пообщаться с другими умными ребятами. Когда мы с Мими присоединились к клубу социалистов, идеология нас интересовала в последнюю очередь. Нам нравилось общение с новыми людьми. Мы слушали лекции о тяжелом положении рабочих, учили песни и знакомились с мальчиками из других школ. Там я подружилась с Коном по прозвищу Траур, который собирался стать врачом, с Цихом, которого все звали Весельчаком – он планировал всю жизнь провести в лыжных походах, с красивым, смуглым, невысоким Вольфгангом Ромером и, наконец, с Йозефом Розенфельдом. Его называли исключительно Пепи.
Пепи был старше меня всего на полгода, но в учебе он обгонял меня на год. Кроме того, психологически он был гораздо взрослее, чем я. Он был строен и грациозен, но уже в восемнадцать лет начал немного лысеть. У Пепи были ярко-голубые глаза и милейшая хитрая улыбка. Он курил. И, конечно, он был невозможно умен, просто гениален. Куда без этого.
Пока мы танцевали на школьном балу, я ему все уши прожужжала о пьесах Артура Шницлера.
«Давай встретимся в парке у Бельведера. В восемь, в следующую субботу», – предложил он.
«Хорошо, – согласилась я, – увидимся через неделю». Меня ждали вальсы с Цихом, Коном, Антоном, Вольфгангом и Рудольфом.
Что ж, в назначенную субботу я решила пройтись по магазинам и позвала с собой Вольфганга. Он согласился. Пошел дождь, и я промокла до нитки, так что Вольфганг повел меня к себе домой и познакомил с мамой, фрау Ромер. Фрау Ромер оказалась невероятно милой женщиной. Она высушила мне волосы и угостила клубникой в сливках. Вскоре пришел ее муж вместе со своим бесшабашным братом по имени Феликс. Чуть позже появилась, отряхивая зонтик, младшая сестра Вольфганга Ильзе. Мы свернули ковер, вытащили граммофон, включили новую свинговую пластинку и стали танцевать. И тут пришел насквозь мокрый Пепи Розенфельд.
«Эта девчонка из клуба социалистов – мы договорились встретиться у Бельведера, я ее час прождал и ушел. Вот зараза! Права была мама! Этих девочек не поймешь!»
Он стоял там и смотрел на меня. С него капало. Играла музыка.
«Прости, – сказала я, – я забыла».
«Давай потанцуем, – ответил он, – я расскажу, как я на тебя сейчас зол».
На следующий день ко мне домой пришел мальчик по имени Сури Фельнер. Он принес письмо, подписанное двумя именами: Вольфганг и Пепи. Видимо, они все обсудили и решили, что я должна выбрать, с кем из них я хочу быть. Избранник станет моим молодым человеком, а проигравшему придется залечивать разбитое сердце.
Я написала снизу на том же листке «Вольфганг» и отправила посыльного обратно. Через пару месяцев я поехала с родственниками в горы и начисто забыла, что успела выбрать Вольфганга Ромера. Слава Богу, он тоже забыл об этой истории.
Окончание старшей школы пришлось на 1933 год. Я решила писать работу по книге Ницше «Так говорил Заратустра». Для этого мне нужно было сходить в Национальную библиотеку (а по пути домой я пообещала встретиться с Мими у колонн-близнецов Карлскирхе). Неожиданно словно бы из ниоткуда возник Пепи Розенфельд. Он умел так появляться – подкрадывался беззвучно, словно кошка или привидение. Он всегда чуть улыбался. С ходу отобрав у меня книги, он пошел со мной в ногу.
«Ты уже была в Национальной библиотеке?» – поинтересовался он.
«Нет».
«Ну, а я вот с тех пор, как поступил в университет на юриспруденцию, там частенько бываю и знаю, какая эта библиотека огромная. Если не знаешь, как там все устроено, наверняка перепутаешь входы и выходы. Еще даже зайти внутрь не успеешь, а уже потеряешься! Пойдем, я тебя провожу».
Я разрешила. Мы шли с ним вдвоем мимо дворцов, сквозь парки и стаи голубей. Мы даже не слышали, как звенят городские часы.
«Работа будет очень длинной и сложной, – сказала я, – я собираюсь включить в нее цитаты всех великих философов – Карла Маркса, Зигмунда Фрейда».
«А Адольфа Гитлера?»
«Гитлера? Он не философ. Он просто крикун и кретин».
«Возможно, уже очень скоро люди не сумеют отличить одно от другого».
«Невозможно, – серьезно сказала я. – Я читала гитлеровскую Mein Kampf и пару работ его коллеги, Альфреда Розенберга. Я разумный человек, я стремлюсь к объективности и считаю, что, прежде чем принимать решение, нужно выслушать обе стороны. Так вот, я читала, что они пишут, и со всей ответственностью могу сказать, что они просто кретины. Их болтовня о том, как евреи испортили жизнь якобы высшей арийской расы и стали причиной всех бед Германии – просто бред. Ни один человек в здравом уме в это не поверит. Гитлер просто смешон. О нем очень скоро забудут».
«Как ты забудешь о других парнях», – хитро улыбнулся Пепи.
Мы зашли выпить кофе с пирожным – тогда мы часто заходили днем в кафе. Он рассказывал о своей учебе, о профессорах, о прекрасном будущем доктора юридических наук. Солнце золотило шпили церквей. В парке у Бельведера Пепи оборвал мою болтовню легким поцелуем. Я начисто забыла, о чем говорила. Он отложил книги, обнял меня и поцеловал, на этот раз крепко. До библиотеки мы так и не добрались. Я так и не встретилась с Мими (она еще несколько лет припоминала мне эту невнимательность). Но в тот день то, что предсказывал Пепи, действительно произошло: все остальные парни были забыты. Мгновенно. И навсегда.
Пепи умел привлечь мое внимание. Где бы я ни была – в классе, в книжном магазине, в кафе, стоило мне почувствовать особое покалывание на затылке, и я знала, что он рядом. Обернешься – и действительно, он здесь. Он никогда не говорил ни о чем, а всегда что-нибудь объяснял или доказывал. Казалось, мой вечный поиск человека, который разделяет мою страсть к книгам и мыслям, был окончен. Очень скоро я безнадежно влюбилась в Пепи и ни о ком другом думать не могла. В какой-то момент мне пришло письмо от бывшего фаворита, Рудольфа Гиши, который тогда учился в Чехословакии, в Судетенланде. Он писал, что решил вступить в нацистскую партию, что Адольф Гитлер абсолютно прав во всем, включая его взгляд на евреев, и что я должна простить ему то обещание на мне жениться. Я сделала это с большой радостью.
К моменту нашего с Пепи знакомства его отец был уже мертв. Он умер в Штайнхофе, знаменитой психиатрической больнице, выстроенной Кайзером. Дяди Пепи, влиятельные люди Айзенштадта, выплачивали его матери, Анне, ежемесячную пенсию. Ради брака Анна перешла в иудаизм, но в душе навсегда осталась истовой католичкой. После смерти господина Розенфельда Анна продолжала притворяться еврейкой ради этих выплат. Кроме того, в 1934 году ради денег она скрыла от семьи факт нового брака с господином Хофером, страховым агентом из Ибса.
Для Пепи устроили нечто вроде праздника бар-мицвы. Фактически Анна организовала бар-мицву, чтобы Пепи подарили побольше подарков. Она была весьма разочарована, когда вместо денег дяди преподнесли племяннику прекрасное собрание сочинений Шиллера и Гете. Странно, но мне кажется, что если что-то и связывало Пепи с его еврейской частью, то это были эти немецкие книги. Он знал, что от родственников с маминой стороны такого подарка можно было не ждать. Он знал, что интеллектуально глубоко связан с евреями, с папиной стороной семьи. А в Пепи ничего не было сильнее и важнее интеллекта.
Анна не была глупой, но ей недоставало образования. Она была суеверна, полна неосознанных страхов и надежд. Анна была крупной женщиной, лицо у нее постоянно было красное. Она страдала одышкой и одевалась, пожалуй, несколько неприлично ярко для дамы ее возраста и объемов. Она широко и фальшиво улыбалась, завивала свои рыжеватые волосы на мелкие бигуди и протирала лицо пивом. Целыми днями она сплетничала. Анна никогда ничего не читала.
Даже когда Пепи вырос, она продолжала спать с ним в одной комнате. Прислуживала она ему, словно королю: каждый день подносила обед на тонком фарфоре и шикала на соседских детей, чтобы не шумели, пока Пепи отдыхает после обеда.
Она лучше всех знала, у кого и когда родился ребенок с врожденным уродством, и имела собственную теорию, что от чего бывает: заячья губа – значит, мать тщеславна, колченогий – так отец развратник. Пепи она говорила, что его отец в конце жизни страдал деменцией – по ее словам, верный знак сифилиса. Я так и не узнала, правда это была или нет. Возможно, на эту мысль ее навел тот же сорт галлюциногена, что использовал Гитлер, когда решил, что сифилис – еврейская болезнь.
Анна покупала «новое вино»: она знала, что оно «еще молодое», а следовательно, «алкоголя в нем нет, напиться невозможно». Вечерами она сидела в гостиной в их квартире на Дампфштрассе, 1, распивала «новое вино» и с обеспокоенным видом слушала нацистскую радиостанцию.
«Ради Бога, мама! – как-то возмутился Пепи. – Ну что ты себя накручиваешь, слушаешь тут эту пропагандистскую ерунду?»
Анна глядела на нас расширенными от страха глазами.
«Эту ерунду нельзя сбрасывать со счетов».
«Ну мама…»
«Нет, сынок, все это очень опасно, – настаивала она, – они ненавидят евреев. Они во всем их винят».
«Но никто их не слушает», – пожал плечами Пепи.
«Все их слушают! – воскликнула Анна. – Все! В церкви, на рынке – я слышу, что там обсуждают! Я знаю, все это слушают и все в это верят!»
Она была глубоко взволнована, готова расплакаться. Я тогда решила, что виновато вино.
Папа сдался. Меня отправили в университет. Я решила учиться на юридическом факультете.
В те времена будущие судьи и будущие юристы учились по одной программе, а специализировались уже после выпускных экзаменов. Мы изучали римское, немецкое и церковное право, гражданский, уголовный и коммерческий кодекс, международное право, политологию, теорию экономики, а также несколько новых предметов, имеющих отношение к преступной деятельности и расследованиям – например, психиатрию и криминалистическую фотографию.
Я купила небольшой фотоаппарат и снимала знакомых.
Анна подарила сыну камеру Leica. Пепи устроил дома фотолабораторию и снимал разные натюрморты: кости домино на столе, освещенные косым лучом солнца, книги или фрукты.
Когда Гитлер пришел к власти в Германии, я была в горах с девочками из клуба социалистов. Помню, там были Хедди Дойч – ее отец, еврей, был членом Парламента – и Эльфи Вестермайер – она училась на врача. Мы ночевали на сеновалах у озер, недалеко от Сант Гильдена и Гмундена. В подошвы ботинок для лучшего сцепления мы вбили шипы. Мы гуляли по горам в голубых рубашках и распевали Интернационал, «Das Wandern Ist des Mllers Lust» и «La Bandiera Rossa» («Красный флаг»). Я до сих пор помню слова.
Во время семестра мы с друзьями собирались в клубе социалистов и обсуждали, как спасти мир. В те неспокойные месяцы многие только политикой и жили и готовы были умереть за свои идеалы. Мы же в основном спорили.
Два парня, Фриц и Франк, постоянно, но не слишком сосредоточенно играли в настольный теннис. Мячик отбивал по столу ровный и четкий ритм. Мир между тем сходил с ума. Пара девочек иногда приносили из дома торты. Кто-то принес пластинки с музыкой для танцев. Пепи отдал клубу шахматы. Мы втроем – я, Пепи и Вольфганг – регулярно устраивали матчи. Иногда я даже выигрывала.
«Освальд Шпенглер утверждает, что век культурных достижений прошел, – задумчиво сказал как-то Пепи, переставляя на нужное место ладью, – он считает, что мы становимся материалистами и философами, что мы разучились действовать».
«Наверняка его очень любят нацисты, – пожал плечами Вольфганг, обдумывая ситуацию на доске и прикидывая, что мне лучше сделать, – они ведь гордятся своей решительностью».
«Нет, его работы сейчас запрещены, – ответил Пепи, – Шпенглер говорит, что худшее впереди. Это их не устраивает».
«Конечно, они-то считают, что мир ждет прекрасное будущее, – сказала я, загоняя в угол короля Пепи, – они уже предвкушают тысячелетний рейх, где на них, на высшую расу, будут трудиться недолюди».
«А ты как думаешь, что будет?» – отвлекся от тенниса Фриц.
«Я лично надеюсь, что у меня будет шесть детей, я их рассажу вокруг стола, каждому подоткну за воротник салфетку, накормлю обедом, напою чаем, и они скажут мамочке, что штрудель очень вкусный!»
«Откуда там штрудель? – ухмыльнулся Пепи. – Что, если бабушка Хан будет занята?»
Я шутливо его толкнула. Он сжал мне руку.
«Слышали, что Гитлер забирает детей? – спросил Вольфганг. – Если родители не воспитывают их в духе национал-социализма».
«Но суды никогда такого не допустят!» – возмутилась я.
«В судах давно уже одни нацисты», – объяснил Пепи.
«Как вообще возможно, чтобы горстка наглецов так быстро подорвала демократические институты великой страны?!» – Вольфганг стукнул кулаком по столу, опрокинув несколько фигур.
«Фрейд сказал бы, что это триумф эго, – сказал Пепи, – нацисты считают себя великой силой. Такое самомнение слепит остальным глаза. Проблема в том, что у них полностью отсутствует самокритика. Стараясь достичь истинного величия, они добьются только пародии на него. Цезарь покорял народы, захватывал в плен их правителей, использовал их идеи и обогащал этим свою империю. Гитлер же сожжет целые нации, до смерти запытает их правителей и, наконец, уничтожит мир».
Все умолкли, услышав предсказание Пепи. Танцующие остановились, разговоры оборвались. Фриц и Франк отложили ракетки.
«Что же нам делать, Пепи?»