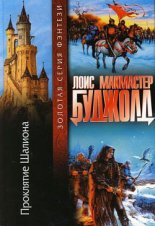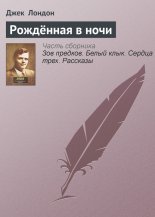Происшествие в Никольском Орлов Владимир
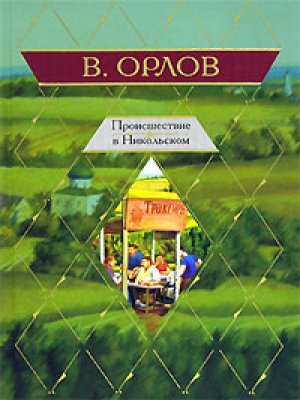
Происшествие в Никольском
1
Ox и скучно по утрам в Никольском. Ей-богу. Ну что за наказание такое – все в сотый, да и не в сотый даже, а в стотысячный раз. Словно слушаешь петую-перепетую песню и каждая буква в той песне тебе знакома, каждый звук, каждая интонация старательного певца, даже все его придыхания выучены наизусть. Вот проревел он в волнении: «Туча смешала землю с небом», – стало быть, дальше уж, конечно, с угрозой пропоет насчет серого неба и белого снега, а ты кричи, уши затыкай чем под руку попадется, но от этого гремящего серого неба, от неумолимого песенного порядка никуда не денешься, да и куда деваться? Вот хлопнула калитка у Монаховых, – значит, сейчас услышишь, как продавец гастрономического отдела пристанционного магазина пройдет шагов пять, остановится и крикнет жене трезвым металлическим своим баритоном: «Колбасы граммов четыреста купи, докторской, и масла…» – и точно, крикнул, и Монахова ответила: «Ладно», будто микрофон у рта держала, и разошлись супруги, довольные, успокоенные, подтвердившие еще раз честному народу, что не жулики они, не уголовные элементы, общества не разоряют, а покупают снедь в поселковом гастрономе. А за Монаховым по дымящейся, прожаренной уже пыли Дементьевы прошагают, отец и сыновья, молчаливые, несущие себя с достоинством получивших звание, выбритые до лаковой синевы с помощью безопасной бритвы и пенящегося крема «Флорена». Словно готовые еще раз фотографу столичной газеты у ворот завода швейных машин позировать для снимка «А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло…». Прошли. Вере кивнули. Валяйте, валяйте, спешите, ударники! А за ними, а за ними шалопай Корзухин пронесется, камнем засадит в чей-нибудь священный огород, так, безобидно, ради шутки, или собаку мирную соседскую подразнит диким голосом, а той уж будет огорчительно слышать этот дикий, издевательский голос, потому что и так, без Корзухина, жарко. «Ну ладно, проваливай, чего руки тянешь! – скажет Вера Корзухину грозно. – Дурной! Контуженый, что ли? Как только таких токарями держат! В армию хоть бы взяли…» Пробежал Корзухин, пробежал никольский битл, концы красной рубахи узлом связавший на голом втянутом животе; в распаренный, голову дерущий запахом краски автобус влезет, как всегда, первый, да еще и место, кому надо, займет. И повалит весь поселок Никольский на работу, на службу, на рынок, в магазины, в больницы, в районные конторы, мастерить швейные машинки и мотоколяски для инвалидов, исписывать бумаги красными и синими чернилами, торговать ранними огурцами из ухоженных парников, да мало ли занятий вытягивает по утрам деятельных людей из Никольского, пустошат поселок, заставляют никольских локтями работать в автобусной очереди, кряхтеть в резиновой машине, а потом, через три километра, спешить в электричку, а уж электрички, электрички по Курской, по тесной и веселой железной дороге, развезут, растрясут никольских кого куда – кого в Москву, кого в районную столицу, кого в Серпухов, кого на сумасшедшую станцию Столбовую, а кого и в пряничную Тулу.
Вот и повалил поселок Никольский.
А ей, Вере, спешить некуда, день отгульный, сиди на крыльце, подставляй смуглое уже свое лицо солнцу да поглядывай на утреннее никольское шествие.
Идут, идут, кто торопится, а кто нет, кто с черным интеллигентным и деловым портфелем, а кто с дерюжными мешками, с сумой переметной, старики в штопаных рубахах и пиджаках с заплатами, по давней никольской традиции привыкшие надевать на работу и в баню что похуже, а то попортишь или сопрут еще. Молодые, напротив, в отглаженном да в модном, длинные и здоровые, переросшие на голову приземистых своих родителей, не знавшие бомбежек и щей из лебеды, щеголи, по мнению своих мамаш, добро беречь не научившиеся. Идут, идут, а их дом, Навашиных, самый что ни на есть обыкновенный никольский дом, не раздражающий соседей никакими особыми достоинствами, самое что ни на есть заурядное подмосковное жилище, неискусный гибрид избы и дачи, стоит на главной поселковой улице, и, стало быть, утреннее шествие тянется перед Вериными глазами, и люди, шагающие к автобусу, успевают поглядеть на нее. А так как она своя, никольская, не дачница, выложившая сто пятьдесят целковых за лето, и вот сидит на крыльце с книжкой в руках, и ничего не делает, и никуда не спешит, это, естественно, моментально вызывает чувство досады или непонимания.
– Во, расселась, коленки выставила…
– Вера Алексеевна, не желаете двинуть с нами на Силикатную?
Это Астанин, шофер, возит цемент с Силикатной.
– Как же, – говорит Вера певуче и закрытой книжкой отгоняет муху, – потом пыль из меня выбивать веником, да?
Уж так ответила, по привычке, чтобы отстал и шел дальше, могла бы и поостроумнее что-либо сообразить, но лень попридержала язык, да и скучно.
И снова:
– Эй, Верка, ноги-то сгорят…
– Она подол обрезала напрочь…
– Привет, Верк! Гни свою линию, от этих-то уши отводи, а то вянуть начнут. Марья Ивановна с радостью паранджу бы надела…
– Пошли с нами. На Гривне нынче жакеты будут!
– И занятие-то себе нашла – не бей лежачего, да еще и сегодня загорает…
– Слабенькая! Ветер дунет – рассыплется!
– Валяйте, валяйте… Ну, еще чего?
Впрочем, слова летели в Верину сторону случайные и необидные, в Веру они не вцеплялись, а рассыпались в воздухе, и от них не надо было отмахиваться, как от обнаглевших июньских мух, не словленных еще липучей бумагой. Мужики и парни отпускали на ходу реплики скорее доброжелательные, им самим приятно было полюбезничать с навашинской девицей, такой смазливой и фигуристой не по летам. А женщины, даже если бы и пожелали Веру уязвить, хотя бы для того, чтобы досадить мужьям, сделать это все равно бы не решились, потому что шла в Никольском о Вере слава как о девке горластой и язвительной, к старшим не имеющей почтения, и связываться с ней – только давать повод ославить, осрамить себя на весь поселок. Да и чего цепляться к ней? Девка как девка, красивая, работящая, сегодня сидит – так завтра со всеми будет нестись к автобусу, а что коленки выставляет, так и их дочки нынче не прячут колен. Срамота, конечно, но…
Прошли.
Ну вот еще последние суматошные пробежали.
Вера вздохнула.
Скучно. Ох и скучно же…
И утро все тянется, жаркое, нестерпимое никольское утро.
И ничего в это утро в поселке не произойдет интересного, не может произойти, да и не происходило никогда. Вот днем или вечером в Никольском происшествия еще могут случаться. И случались же! Случались! В послеобеденные часы или еще лучше – в вечерние входит в жизнь поселка стихия. В новинку кое-что бывает, пусть не каждый день, но бывает, пусть раз в двадцать дней, но бывает все же, вечером в Никольском есть на что поглядеть, есть что послушать. На худой конец включишь телевизор, может, станут разучивать «хоппель-поппель» или начнут многосерийный фильм.
Но до вечера-то – жизни год! А сейчас такая в Никольском скучища! Наказание, ей-богу, наказание!
А чего ей-то, дуре, сидеть без дела и глазеть на утреннюю никольскую жизнь? И слушать эту жизнь? А вот сидит. И с места не двигается. В ней ведь, в этой жизни, не только появления ненаглядных соседей на пыльном, с травой у канавок главном Никольском проспекте расписаны, но и все запахи, рыбные, колбасные, картофельные и прочие, известны заранее, и все звуки, пусть даже самые пустяковые, словно бы записаны на магнитофонной ленте, и лента эта от старости уже потрескивает, да похрипывает, да похрюкивает, но и не рвется. Вот застучали у пруда молотки, поначалу застучали старательно, а потом растерялись, спотыкаться стали, застеснялись опасной своей старательности. Реставраторы – в пруд бы их водяными забрали! – к работе приступили, чтобы тут же заняться перекурами. Или на левые дела разбрестись. А церковь жалко – ничего, она времен Ивана Грозного или каких других времен, всего ведь не упомнишь, мало ли чем им в седьмом классе забивали голову. Стучат работнички, старые леса чинят, не спешат, не усовестились, хоть бы мелодию своим молоткам придумали посвежее, нет, все, как вчера, как и позавчера, как и всегда.
Но если молотки у пруда застучали, стало быть, кончилось утро и начался трудовой день.
А все равно веселее не стало. Скучно. И не скучно, а того хуже – тоскливо.
Хоть бы Сергей скорее вернулся. Уж больно долго длится его командировка. Ставит он теперь столбы высоковольтные в Тульской области, под городом Чекалином. И что это за Чекалин такой? Сергей писал: назван так город, бывший Лихвин, в честь пятнадцатилетнего паренька, то ли он немцев в войну убивал, то ли они его убили. И зачем этому городу Чекалину, бывшему Лихвину, держать Сергея? Столбов, что ли, в нем не хватает?
И хотя Вера знала точно, что Сергей вернется домой не позднее чем через три дня, а то и через два дня, она все же сидела теперь и ругала бессовестный город Чекалин, отнявший у нее Сергея, упрятавший его в свою неизвестную жизнь на месяц, на три месяца, на полгода, сколько там им еще жить в разлуке!
– Верка, козу-то не вывела… Все тебе загорать!
– Да сейчас. Ну что ты со своей козой пристала? Ничего с этой Дылдой не сделается…
– Матери так отвечаешь…
– Ну сейчас, – проворчала Вера.
Но в дом и во двор, к козе, она все же сразу не пошла, потому что ей хотелось думать о Сергее, просто повторять про себя его имя, вспоминать, какой он, какие у него волосы и какие руки, вспоминать, как он ласкал ее и как говорил ей: «Здравствуйте пожалуйста. Извините, что пришел». Тяжкими видались Вере последние ночи, и ведь уставала за день, а сон не шел, не шел – и все тут, так хотелось ей, чтобы Сергей был рядом, лежал рядом, так соскучилось по нему ее сильное, не девичье уже тело. И уж без поводов, а просто так, для собственной радости она рассказывала знакомым и случайным собеседникам, что есть у нее парень, вроде как муж, только для себя и говорила, потому что в Никольском все, наверное, давно знали, что они с Сергеем живут, да и мать если и не знала, то уж догадывалась.
– Верка! У-у, змея шелапутная…
– Ну ладно! – буркнула Вера. – И так тоскливо, а ты пристала!
– Идешь ты или не идешь?
– Ну иду, иду! Отстань ты, ради бога!
Босиком, книгу положив на ступеньки крыльца, Вера по утоптанной дорожке между вишнями и папировкой проскочила на задний двор, где перед грядами в хлеву не в хлеву, в сарае не в сарае жила коза. Стадо в Никольском было скудное, коров дюжина, овцы да козы, вечное мучение с пастухами, вытравило их время в Подмосковье, как извозчиков, а те, что появлялись иногда и слаживали с никольскими, оказывались вскоре людьми несерьезными и пьяницами. Вот и теперь никольский скот сиротел без пастуха, и Вере приходилось выгонять козу на зелень. Лет десять назад, как и многие никольские, и они, Навашины, имели корову. После решили обойтись козой. Свиней откармливать не любили, к козам же, как и к картофельным огородам, выделенным возле железной дороги, они, да и все никольские, привыкли с военных времен. С козами и возиться не надо было много, и молоко шло у них пусть с привкусом, но жирное, а потом можно было пошить из их шкур и душегрейки. Правда, в войну и после нее все держали по нескольку коз, теперь же оставили по одной, рассчитывали на магазины.
– Ну, Дылда, вставай, – Вера схватила козу за рог, – пошли. И так уж поздно выходим…
Коза поднималась медленно, пошла за Верой нехотя, не имела желания из тени хлева, пахнувшего пометом и сеном, плестись куда-то по жаре. На дворе она спугнула кур, и те хоть и лениво, но заорали, закудахтали, к Вериному удовольствию, – мать, наверное, услышала их и успокоилась. Не Верино было дело выгонять козу, росли у них в доме хозяйки и помоложе – Надька и Сонька, но мать чувствовала, что Вера нацелилась нынче со своей подругой Ниной Власовой податься в Москву – деньги транжирить без толку или приключений искать, и уж мать со вчерашнего вечера придумывала Вере занятия, чтоб та намоталась по хозяйству и отсидела отгул дома. «Ну пусть, пусть себя потешит, – думала Вера без зла, – время у меня еще есть» – и легоньким прутиком подбадривала козу. Короткий сарафан свой Вера надела на голое тело, и не таким злым было для нее солнце, а уже когда набегал ветерок, совсем приятно становилось коже. Жаль только, что улицы вымерли и никто не мог оценить этот чудесный сарафан, сшитый ею самолично на прошлой неделе из дешевенького штапеля с белыми звенящими цветами на голубом поле, оценить и ее самое, и ее плечи, и ее ноги, и ее колени, выше которых подол сарафана был сантиметров на десять. От досады Вера стукнула козу прутом покрепче: давай поспешай, не глазей по сторонам.
У пруда было уже много подростков и ребятишек помельче, они плавали в темной воде, играли на траве в мяч и карты. На берегу валялись брошенные велосипеды, а в зеленой низинке за холмиком лежали сытые соседские козы.
– Верка! Иди мяч кидать!
– Да ну! – отмахнулась Вера. – Некогда.
Козу она привязала к колышку, вбитому в землю на совесть, колышек был их, навашинский, низина делилась невидимыми границами на зоны влияния никольских владельцев коз, длиной веревок хозяева каждый день обеспечивали своим животным свежую траву. Но Дылда к зелени интереса не проявила, она тут же залегла за кочкой и морду уткнула в землю.
– Лежи, лежи, – сказала Вера, – только к петуховской козе не суйся. И веревку не заматывай. А то будешь орать! За молоком Сонька придет. И воду принесет. Поняла?
Растянувшаяся на земле коза казалась еще внушительнее и длиннее. «Эка вымахала, дубина, лучше б молока давала побольше. Впрочем, что это я ее извожу? – подумала Вера. – Она ведь неплохая коза, губы мягкие и добрые, морду ее приятно гладить, и в глазах есть соображение».
– Ну, если поняла, – сказала Вера, – то хорошо. Насчет веревки помни, Дылда.
Мать могла бы уже и отойти, время Вера ей дала, – так нет, все еще нервничала.
– Я тебе поеду!
– А то не поеду! – рассмеялась Вера.
– Вырастила себе на голову. Во кобыла какая! Я ж тебе мать!
– У меня выходной, могу я им распоряжаться или нет?
– Дома дел, что ли, нет? Деньги только на ветер… Я в твои годы каждую копейку считала.
– Может, они у вас дороже были!
– Пожила бы ты в наше время…
– Я-то в любое время проживу!
– На какую-нибудь пустую дрянь выкинешь!
– Это мое дело. Деньги сама заработала!
– Вот как? Деньги, значит, только твои? А я тебе не мать? И девчонки с голоду подыхать должны?..
– Кто это с голоду подыхает? – рассердилась Вера.
– Замолчи!
– Нет, кто это с голоду подыхать будет?
– Только о себе и думаешь, о матери не думаешь! Ты мне жизнью обязана… В отца пошла, в беспутного!.. Я всю кровушку, все соки из себя выжала, чтобы на ноги поднять ее, чтобы одеть, накормить, – и вот тебе благодарность в старости… В отца пошла, господи…
– В какой такой старости? Что ты прибедняешься? В старости! В сорок шесть лет – в старости!..
Вера была сердита, не жалкие слова о том, что она кому-то чем-то обязана, ну хотя бы и жизнью, хотя бы и здоровьем, и красотой своей, не эти слова разозлили ее, нет, а вот деньгами-то зачем попрекать, будто она бессовестно вытягивает их из черной семейной шкатулки, будто не гробит себя, когда ее сверстницы все еще развлекаются в школах, или она такая маленькая, что не имеет права на самостоятельность?
– Знаешь что?.. – почти закричала Вера, но сдержалась. – У меня времени нет на всякие разговоры.
Повернулась резко, пошла в свою комнату, переодевалась с шумом, гремела лезшими под руку вещами так, чтобы мать слышала и чувствовала, как серьезна и грозна ее дочь. «У всех матери как матери, а мне повезло!» Настроение у Веры испортилось вконец, и теперь никольское утро представлялось ей не только тоскливым, но и жутким, и жить не хотелось, одна надежда оставалась на возвращение Сергея. «Вот уйду, вот уйду я к нему, – повторяла Вера, напяливая туфли, – вот уйду навсегда», хотя и знала, что никуда не уйдет, уйти не сможет, потому что ни один загс их с Сергеем не распишет.
– Эх, жизнь!
Одетая, принаряженная для московской публики, для московской толпы, для кипящих, счастливых магазинов, черную сумочку подхватив, губу нижнюю поджав, хотела пройти мимо матери, гордая и самостоятельная, матери не заметить, бровью накрашенной не повести.
Нет, взглянула на нее, малодушная.
И встала.
– Начинается! Нет, ну что я тебе сделала такого, ну скажи, ну чем я тебя обидела?
Сумочку быстро положила на стол, бросилась к матери. Но не обняла ее, не прижала к себе, слов никаких не сказала горячих, а остановилась в шаге от матери, потому что мать сделала брезгливое движение, будто прикосновения дочери вытерпеть сейчас она не могла.
Мать была Вере ниже плеча, плакала рядом, сжавшаяся вся, груди-то у нее совсем нет, подумала Вера, высохла, совсем старушка, жалкая, простоволосая, несчастная. А она стояла рядом, разодетая, спелая да ухоженная, и так ей стало горько и стыдно, и такую любовь она ощутила к матери, что кинулась к ней, сжала ее, волосы принялась гладить. «Ну не надо, мамочка, родная, ну не надо, ну прости меня, ну успокойся, все хорошо будет, вот увидишь, вот увидишь…» Она повторяла эти слова, обещала хорошее впереди и сама не знала, что хорошее, то ли то, что своей поездкой в Москву она мать не огорчит, то ли то, что вообще в жизни их семьи настанут счастливые времена, спокойные и веселые, настанут скоро, и, может, даже отец их вернется с Дальнего Востока, блудный отец явится с повинной.
– Не плачь, ну не надо, садись сюда, успокойся!.. Не поеду я, никуда не поеду. Ни в какую Москву не поеду! Вот сейчас переоденусь и Нине скажу, что не поеду…
И долго она так говорила, себя ругала за черствость и эгоизм, даже матери стало жалко ее, она принялась успокаивать Веру, называла сиротинушкой, вытирала слезы ее и, забыв прежние свои слова, советовала ей в Москву ехать сегодня же, а то Нина, наверное, ждет.
– Никуда я не поеду, – говорила Вера. – Зачем?..
Минут пятнадцать, а то и больше стояли они, успокаивая друг друга, жалея друг друга, мать говорила: «Иди, иди, Нина уж, верно, ждет тебя», а Вера твердила: «И не уговаривай, никуда я не поеду, не хочу я никуда ехать…»
И все же через полчаса, когда краснота сошла с лица и никому в автобусе и в голову не могло прийти, что эта рослая красивая девица недавно плакала, Вера уже ехала к станции и против желания прикидывала, на какую электричку она успеет, львовскую или серпуховскую, и сколько ждет ее рассердившаяся, наверное, Нина; впрочем, эти мелкие соображения казались ей кощунственными, и она отгоняла их и все повторяла себе, что в Москву она поехала только из-за матери, купит ей там что-нибудь ценное, купит непременно, все деньги истратит до копейки, себе на мороженое не оставит, ей перед матерью на коленях стоять, а она ей слезы приносит…
2
По платформе от скамейки к скамейке катался на велосипеде Колокольников.
Нины не было видно.
Львовская электричка прошла, а серпуховская должна была появиться через двадцать семь минут.
Ожидающих поезд было мало, и все они хоронились от солнца в тени болезненных пристанционных лип. Вера хоть и вспотела в автобусе, в сквер не пошла, она была жадной до солнца. Колокольников все катался по платформе, дурашливый все-таки малый, подумала Вера, хотя и красивый. Он бы сюда мог заехать и на грузовике, вон как веселится, вокруг всех столбов норовит объехать и объезжает их, виртуоз фигурного катания по асфальту, только перед кем старается, неизвестно. Нину Вера теперь ругала, называла ее беззаботной и готова была ее проучить за опоздание. Впрочем, может быть, Нина уже появлялась на станции, да ждать ей надоело, вот она и ушла домой или, того хлеще, уехала одна в Москву…
– Отстань ты от меня, змей подколодный, не дави мешок! Помоложе, что ль, нет, с кем играться… – взвыла жалостливо бабка Творогова, пенсионерка шестидесяти шести лет, Первомайская улица, четырнадцать, или просто Творожиха, в любое время года снабжающая московских, подольских, чеховских и серпуховских жителей сырыми и калеными семечками, взвыла, сидя на соседней скамейке, потому что Колокольников передним колесом попытался отодвинуть от ног бабки серый тугой мешок.
– Мотобол, знаешь, бабка, такая игра есть, – засмеялся Колокольников, – и еще пионербол…
– Васенька, мы же свои, никольские, я же старая, беспомощная…
– До чего ж ты, бабка, занудливая! – рассердился Колокольников и покатил дальше.
Скамейки и столбы он объезжал быстро и ловко, и Вера знала: если раньше он выказывал себя неизвестно перед кем, то теперь старается ради нее.
– Вась, – сказала лениво Вера, – подружки моей тут не было?
– Не видал, – бросил на ходу Колокольников.
– Верочка, внученька, ты тоже, что ль, куда едешь? – сиропным голосом обратилась к ней Творожиха, и глаза у нее засветились счастьем. – Какая ты вся красивая да сдобная! Мать-то твоя счастливая – такую кралю высидела! Ты уж этому извергу на велосипеде скажи, чтоб не шалил, а?
– Не задавит, – сказала Вера, – это он так, шутит он.
– Шутит, шутит! – закивала бабка, будто бы обрадовавшись тому, что Колокольников с ней просто шутит.
Творожиху Вера не любила, приторные ее слова и заискивающие взгляды терпела с трудом и в другой день с удовольствием бы помогла Колокольникову поиздеваться над этой семечной предпринимательницей, что-нибудь выкинула бы озорное да ехидное, но нынче, после слов матери, после холодных и горючих ее слез, Вера, казалось ей, несла в себе чувство вины перед всеми старшими, она любила их, потому что мать была одной из них, и даже бабку Творогову она сейчас жалела.
– Ишь как гонит! – снова заволновалась бабка. – Ишь как! Прямо на меня! Прямо на мешки!
– Не задавит, – мирно сказала Вера.
И точно, не задавил, притормозив, замер у скамейки.
– Катаешься? – улыбнулась Вера.
– Ага, катаюсь, – сказал Колокольников.
– Делать, что ль, нечего?
– Нечего, – сказал Колокольников.
– Лучше бы стакан водички привез. Жарко!
– Еще ничего не желаешь?
– Съезди, будь человеком.
– Ну ладно, уговорила.
Небрежно, руки то и дело снимая с голубого руля, покатил Колокольников по платформе, а потом по лоснящимся шпалам и по красноватой земле, перебрался через две московско-курских колеи и прямо на велосипеде, тонком да хрупком, казалось прогибающемся под его тяжелым, жилистым телом, прямо на легкой своей машине въехал в вокзальную дверь, а там уж, наверное, отправился к буфету.
– Ну и здоров, ну и ловок вымахал! – с радостью заговорила Творожиха, пересевшая со своими семечками на Верину скамейку. Радовалась она то ли вправду тому, что Колокольников, никольский житель, вымахал таким здоровым, то ли тому, что он уехал и не мог уже безобразничать с ее мешками.
А Колокольников, живший от Веры через три улицы, и верно, за последние годы сделался парнем необыкновенно сильным и рослым, образцовым покупателем магазина «Богатырь», расположенного у платформы Ржевская, за Крестовским мостом. Среди молодой поросли поселка Никольского, рождения конца сороковых годов и начала пятидесятых годов, по рассказам родителей несытых, Василий Колокольников считался фигурой заметной, и не потому, что в нем обнаружились особые таланты или интерес к наукам, – чего не было, того не было, – выделялся он именно своей силой, широченными плечами и бицепсами. Сила и создавала ему авторитет, и, хотя он редко применял ее, потому что был человеком добродушным, поселковые парни ее признали и хороводились вокруг Колокольникова. В атаманы Колокольников не рвался, но положение свое среди поселковой ребятни принимал, а потому и подражал сильным людям, вызывавшим его уважение. Поначалу повторял ягуарью походку Юла Бринера, кольты и смит-вессоны, казалось, торчали и покачивались за его широким великолепным ремнем, дядиным, армейским, но почти что ковбойским. А потом, через полгода, Колокольников окончательно влюбился в стокилограммового Рагулина, аж стонал, когда на чемпионате мира его кумир грудью принимал несущихся к нашим воротам на гибельной скорости раззадоренных канадцев и шведов и только улыбался, а рисковые парни в белых шлемах разбивались о его богатырскую грудь, падали кто на лед, а кто на борт с упоительным для Колокольникова треском. Колокольников тоже играл в хоккей и тоже в защите, старался получить у приятелей прозвище «Рагулин» и получил, ковбойская походка была забыта, ходил он теперь «как Рагулин», с небрежным и вроде бы ленивым выражением лица, плечи расправив, грудь намеренно выпятив и руки прямыми опустив к бедрам. Тонкими чертами лица он не был похож на флегматичного армейского гиганта, но обещал догнать его статью. Впрочем, Колокольников уважал еще и Старшинова и во время игр ремешок шлема по-старшиновски поднимал на подбородок, под нижнюю губу.
– Вот бы тебе его женихом, – расплылась в счастливой улыбке Творожиха.
– Каким еще женихом? – сказала Вера настороженно.
– И ладный, и здоровый, в техникуме учится…
– Нужен мне такой жених!
– И свой ведь, на стороне-то еще неизвестно кого найдешь…
– Ну ладно, бабка, не суйся не в свое дело, – резко сказала Вера.
Вера вспомнила, что эта приторная Творожиха приходится Колокольникову дальней родственницей, неизвестно какой степени юродной, пятой водой на киселе, но родственницей, вовсе не способна была старуха на самостоятельные суждения и наверняка высказала сейчас отголосок слышанного в семье Колокольникова. Кроме того, она уж конечно, как и все никольские сплетницы, знала о ее, Вериной, любви с Сергеем, и потому нынешние слова бабки иначе как наглыми назвать было нельзя. Вера и хотела поставить Творожиху на место, но тут открылась обитая рыжим дерматином вокзальная дверь и Колокольников выехал на размятый солнцем асфальт перрона. Левая его рука по-хозяйски держала руль, правая же самоуверенно, но и не без изящества несла полную кружку пива. Пена колыхалась, вываливалась мягкими кусками, таяла на асфальте.
– Разбавленное, – сказала Творожиха.
– Ох и надоела ты! – рассердилась Вера. – Сиди да помалкивай!
Старуха обиделась, отодвинулась даже, принялась ворчать, громко, но невнятно, и все же Вера смогла разобрать шипящие бабкины слова: «…шляется с голыми ногами, до грешного места задралась, тьфу, срамотища какая…»
– Сейчас ты у меня договоришься! – грозно пообещала Вера.
Замолкла Творожиха, негодующее шипение ее разом оборвалось, будто регулятор в радиоле остановил стертую корундовую иглу: знала ушлая никольская жительница, с кем следует связываться, а с кем нет. И все же не удержалась с разгону и, сама уже того не желая, пробормотала напоследок:
– Крапивой бы по этим местам…
И тут же испуганно заерзала на лавке, кончики черного вечного платка затеребила в ожидании кары, но, на ее счастье, подъехал Колокольников, привез кружку пива.
– Ну ладно, – сказала Вера Творожихе, принимая кружку, – мы к этому вопросу еще вернемся.
Пиво было теплое, разбавленное, кисловатое, не принесло облегчения.
– Верочка, внученька, – взмолилась Творожиха, – оставь глоточек.
– На, держи, – протянула ей кружку Вера.
– Пей, бабка, – сказал Колокольников, – но учти: пиво – опиум для народа.
– Спасибо, Вась. – Вера достала кошелек. – Сколько я тебе должна? Двадцать четыре копейки, что ли?
– Убери, – обиделся Колокольников. – Ты меня за человека не считаешь, да?
– Васенька, я молчу.
– Вот ведь люди пошли, – вздохнул Колокольников, – все на копейки мерят. А можно ли любовь копейками оценить?
– Чтой-то любовь у тебя такая кислая да жидкая?
– Какая-никакая, – сказал Колокольников.
– И за нее спасибо.
– Вечером к нам придешь?
Вечером дома у Колокольникова, отец и мать которого гостили у родственников в Люберцах, собирались Верины знакомые отметить день рождения бывшего ее соученика по никольской школе Лешеньки Турчкова.
– Не знаю, – сказала Вера. – Подумаем. Нет, мы, наверное, не успеем с Ниной вернуться.
– И Нина не вернется? – озаботился Колокольников.
– Ее, что ль, сейчас ждешь? – улыбнулась Вера.
– Ну ладно, – быстро сказал Колокольников, – кружку-то мне надо отвезти.
– А говоришь – любовь! – крикнула ему вдогонку Вера.
– Клянусь тебе – любовь! – подтвердил громко и торжественно Колокольников.
– Вася никогда не врет, – сказала Творожиха, – я его еще вот таким мальчиком помню…
– Помолчи. А когда электричка придет, садись в другой вагон. Поняла?
Творожиха, вздохнув, отодвинулась и драгоценный мешок притянула к себе.
– Слушай, Вер, приходите, а? – Колокольников стоял уже напротив, у вокзальной двери и просил Веру всерьез.
– Не успеем мы вернуться, Вась. Еще подарок надо искать, мороки-то…
– Вы без подарков! На кой черт ему подарки!
– Как же без подарков-то! – сказала Вера. – Нельзя.
«Ну, если без подарка, – подумала она, – тогда, может, еще и заглянем…» Тут и явилась Верина подруга Нина Власова, голову не повернув, прошагала к вокзальной двери, никого не замечая, но так, чтобы все ее заметили, прошагала летящей деловой походкой, рожденной любовью к полонезу и джайву, – года три Нина всерьез занималась в районной студии бального танца. Была она, как всегда, красивая, тонкая, с чуть полными икрами – они ее, впрочем, не портили, хотя и мешали носить высокие сапоги.
Минуты через две она уже подходила к Вере, молча шел за ней Колокольников, вел за собой велосипед, как ковбой присмиревшего мустанга.
– Совесть у тебя есть? – спросила Вера.
– А что? – удивилась Нина.
– На какую электричку мы договорились?
– А разве не на эту?
– Может, на вечернюю?
– Нет, правда? Не на эту? Ну извини. Ну не сердись.
– Придете сегодня? – спросил Колокольников. – Нина Олеговна, я на вас очень надеюсь.
– Вряд ли мы придем, – сказала Вера.
– А что, у вас ко мне особый интерес? – спросила Нина.
– Ну, так… – смутился Колокольников.
– У тебя вроде на Силикатной интерес есть, а?
– В общем – как хотите, – нахмурился Колокольников и оседлал велосипед.
– У тебя, говорят, скоро там дети появятся, – сказала ему вдогонку Нина, сказала громко и внятно, чтобы ее слова разобрали и Колокольников, и притихшая Творожиха.
Во время разговора с Колокольниковым Нина стояла не просто так, а приняв позу, приобретенную все в той же студии бального танца: ноги чуть-чуть расставив, проявив крепкое бедро, – а худое Нинино лицо с чуть широким книзу носом, но все же не утиным, выражения своего не меняло, застыло как бы, в глазах Нининых чувств никаких не проявлялось, лишь ее длинные синие ресницы поднимались иногда, чтобы выказать удивление. Говорила Нина сейчас непривычно для местных жителей: старательно, четко, с идеальным московским произношением. Да и во всем ее облике, отполированном, обточенном, было нечто не здешнее, не никольское.
– Вечно ты меня подводишь, – сказала Вера.
Серым пятном на сверкающей стальной дороге в дальней серпуховской стороне возникла наконец электричка, разрослась, распухла, отодвинула от края платформы суетливых людей и уж затем остановилась на минуту, распахнула перед Ниной и Верой тугие двери.
3
На станции Царицыно, знаменитой своей крышей и четырехгранными, крашенными в белое фонарями каренинских времен, дверь распахнулась снова, и никольские подруги были вынуждены выпрыгивать на перрон, спасаясь от контролеров. Контролеры бежать за ними не собирались, только слова какие-то укоризненные говорили. Вера с Ниной остановились. Вера молчала, а Нина – высказывалась и показывала службистам язык, а потом и пальцем повертела возле виска. Уходящей электричке и контролерам она помахала изящной, наманикюренной ручкой, но те-то уехали в Москву, а они вдвоем остались в Царицыне.
– Опять из-за тебя, – сказала Вера.
– Отчего ж из-за меня?
– Смотреть надо было, а не этому старику глазки строить.
– Сразу вдруг и старику!
Действительно, было дело, без всякой корысти и перспектив, а просто так, из уважения к себе и чтоб в дороге было не скучно, быстрыми взглядами Нина ответила на нескрываемый к ней интерес сидевшего напротив лысоватого джентльмена с московской, видимо, пропиской. Джентльмен был и вправду стар и нехорош, с рыхлым, бабьим лицом, и Нине он не понравился, хотя она и оценила его манеры и ладно сшитый костюм. Но теперь, после Вериного замечания, Нина обиделась за «своего» старика и готова была защищать его. Появление контролеров она действительно просмотрела, как, впрочем, просмотрела и Вера, и перебегать в соседний вагон было уже поздно. Контролеры попались плохие, предпенсионного возраста, обаяние юности не произвело на них никакого впечатления.
И это был редкий случай, потому что обычно контролеры отпускали их с миром или же позволяли убежать, а чаще просто делали вид, что не заметили двух смазливых «студенток». Билетов Нина и Вера не брали никогда, как они считали, из принципа, а вовсе не из желания обворовать государство. В детстве привыкли экономить на мороженое – впрочем, и сейчас отдавать рубль шесть копеек за билет в два конца было бы досадно.
– Фу-ты, жарко, – сказала Вера.
– Скупнемся, что ли?
В Царицыне они полагали выйти на обратной дороге, сунули на всякий случай в сумки купальники, но теперь до того расплавила, разморила их утренняя жара, что оставалось только поблагодарить контролеров и вытоптанными в короткой, словно бы подстриженной, траве дорожками отправиться к прудам.
Берег, пологий, узкий, спускался от полотна железной дороги к темной, взбаламученной воде и, как ялтинский пляж, был усыпан коричневыми ленивыми и энергичными людьми. Раздевалок здесь так и не поставили; и теперь Нине и Вере надо было искать не общипанные пока кусты.
– Пригнись, пригнись же, дурочка, – зашептала испуганно Нина, – вот с этой стороны ветки жидкие, вон те сейчас на нас обернутся…
– Да пусть смотрят, что они, баб, что ли, не видели? – сказала Вера. – А мне с ними на собраниях не сидеть.
– Ты уж готова, ловкая какая, а я в этом своем японском застряла, прикрой меня, а?
– Давай быстрее, – засмеялась Вера и легонько, но со звуком шлепнула подругу по голой спине.
– Вот глупая, что ты делаешь? – затараторила Нина, пригнулась, сжалась вся, платье, как рыцарский щит, прижала к себе.
Через минуту Нина королевой пляжа в японском купальнике, приобретенном по случаю, пусть и с переплатой, по царицынской мягкой траве, как на помосте показа мод, двигалась к пруду, а потом и в нагретой воде, чуть разбрызгивая ее босыми ногами, продолжала свой путь вдоль берега, романтическая неземная особа, бегущая по волнам, ноги ее ступали неспешно и с грацией, худенькие плечи были развернуты, а голова на трепетной шее откинута назад. Вера шла шагах в пяти позади подруги, не отставала, но и не спешила, к Нининой бальной походке она привыкла, относилась к ней с иронией и снисходительностью взрослого человека, приученною житейскими заботами к практической простоте во всем, но в то же время и завидовала Нине, и, сама того не желая, подражала. И сейчас она шла и смотрела на подругу, знала, что в воду они полезут не сразу, а пройдутся еще по берегу – и других посмотрят, и себя покажут.
Хождения по царицынскому берегу подругам нравились, зрителей в жаркие дни набиралось много, и все они видели двух ловких, красивых девиц, и не каких-то никольских провинциальных растерях, а московских, чуть надменных, умеющих вести себя с достоинством, готовых в случае нужды пресечь ухмылки и приставания. Впрочем, даже если и слышали они лошадиные восторги в свой адрес или грубые предложения познакомиться, в ответ слов не тратили, а выразительными движениями губ и бровей давали понять, что они выше пляжной пошлости. Про себя при этом отмечали не без удовольствия: «Дураки, конечно, грубияны, а нас заметили, вкус имеют, значит, не конченые люди».
Но сегодня Вера не намеревалась тратить много времени на купание, о чем сказала подруге и, не выслушав ее возражений, пошла в воду. На зиму воду в пруду спускали, а теперь заполнили яму не до краев – к глубокому месту пришлось шагать долго. Вода была темная, теплая, пахла водорослями. Вера поплыла осторожно, чтобы не замочить лицо и волосы, по-лягушачьи, будто по-иному не умела, старалась не делать брызг.
– Нинка! Ну чего ты там жаришься?
Через минуту Нина уже плыла рядом, и удивительные синие ресницы ее изображали недоумение.
– Чего ты вдруг сорвалась? Ну не брызгай, не брызгай!
– Я и не брызгаю, отстань, плавай от меня подальше.
– Нет, обязательно надо спешить.
– Спешить, спешить! Ты хоть чувствуешь, как здесь здорово!
– Здорово, Верк, здорово! Вода прелесть какая, я помолодела на десять лет!
– А не на пятнадцать?