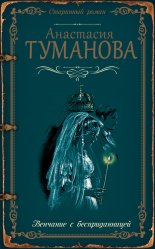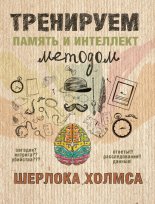Без маски Мур Лина

Сошлись и расстались, Лишь всплеск на экране.
Одни сомневались, другие – смеялись.
Заспорили громко, потом обсуждали Что значит загадочный всплеск на экране.
Одни говорили: простая комета, Другие кричали: чужая ракета!
Пока совещались, обильно болтали – Тот, встречный, растаял в космических далях.
В общем, я долго рассматривал, перечитывал, обдумывал стихи милой, судя по всему, девочки Мифрид В., начитавшейся фантастики. Хотя, возможно, совсем и не девочки, а солидной дамы или и вовсе не дамы, а средних лет лысеющего инспектора отдела кадров какого-нибудь управления «Маштяжстрой». Все могло быть. По стихам нельзя судить о внешности и профессии человека. И наоборот.
Сделав такое глубокомысленное заключение, я положил рукописи на холодильник, решив в понедельник передать их нашему члену СП, известному городскому поэту Юре Фоминскому, и направился к письменному столу с твердым намерением приступить.
Самым трудным для меня всегда было начало. Да, наверное, и не только для меня. Минут двадцать я курил, прихлебывая остывший чай, смотрел на стену, перекладывал с места на место чистые листы. Потом барьер был все-таки преодолен и я начал писать, и писал, не разгибаясь и забыв о времени, полностью уйдя в мой мир.
«…Боль, наконец, перестала пульсировать резкими горячими толчками, – писал я, – чуть сгладилась, хотя и не отпускала ни на мгновение, и он, опираясь на здоровую левую ногу и уцепившись обеими руками за какие-то невидимые в темноте ветки, все-таки вылез из этой проклятой ямы, прополз немного по мертвой траве и наткнулся на что-то твердое и холодное.
Конечно, лучше всего было бы дожидаться рассвета в своем кресле, но его молодое и здоровое тело жаждало действий – и вот результат: в худшем случае перелом, в лучшем случае вывих, и теперь придется на ощупь огибать эту чертову яму и действительно сидеть в кресле до тех пор, пока не найдут.
«Чего тебе не сиделось, Сережа?» – мысленно спросил он себя и досадливо плюнул в темноту, продолжая ощупывать твердое и холодное и держа на весу поврежденную ногу.
Вокруг было черным-черно, хотя светящиеся стрелки наручных часов показывали только начало одиннадцатого. Но стояла середина ноября, всю неделю небо было упаковано в плотный слой серых туч, и как он ни вглядывался в сырую темень – нигде не угадывалось и намека на какой-нибудь огонек. И еще моросил холодный дождь, шурша по ветвям невидимых деревьев.
Прыгая на одной ноге, он кое-как обогнул непонятный объект, исследовал пальцами твердые зубья с налипшей мокрой землей и негромко буркнул в темноту:
– Докладываю, товарищ капитан Белов: обнаружен колесный трактор «Беларусь» с ковшом для рытья ям, в которых ломают ноги.
Звук собственного голоса показался ему таким неестественным в шуршащем мраке, что он решил вслух больше ничего не говорить. Опустившись на четвереньки и тихо шипя от боли в ступне, капитан Белов двинулся прочь от трактора.
Он продвигался к своему креслу очень медленно, опасаясь других ям, но вместо ямы взобрался на какой-то бугорок и стукнулся лбом обо что-то деревянное и мокрое. Изучив деревянную конструкцию, капитан Белов шепотом выругался и поспешно слез с бугорка.
Он понял, что приземлился на кладбище.
Добравшись до кресла, он снял с сиденья гермошлем, положил на землю, сел, расшнуровал ботинки и осторожно ощупал ступню. Ступня распухла и оставалось надеяться, что это все-таки вывих. Дождь усиливался, и хотя комбинезон не промокал, в нем было не так уж тепло. Капитан подумал, что можно закутаться в парашют и просидеть так до утра, но решил сделать это позже, чтобы не тревожить ногу, еще сильней разболевшуюся после долгих перемещений вокруг трактора и могил.
Он сидел ночью на заброшенном кладбище, а вокруг простиралась безлюдная Зона, и мысли приходили какие-то невеселые. Белов до верха застегнул «молнию» комбинезона, обхватил себя руками поперек груди, спрятав ладони под мышки, и еще раз проанализировал свои недавние действия.
…Левый двигатель заглох на высоте шесть семьсот и истребитель повело влево и вниз. Он даже не успел среагировать, только бросил взгляд на индикацию на лобовом стекле кабины, да что там он – не успел среагировать и бортовой компьютер, потому что за спиной раздался взрыв, и самолет свалился в пике. Кувыркаясь, промчался мимо кабины охваченный пламенем двигатель, устремляясь вниз, понеслись навстречу распухшие спины ноябрьских туч. Он доложил земле о случившемся и тут же получил команду катапультироваться. Тем не менее он тянул до последнего, пытаясь укротить погибающий истребитель. Потом парашют долго тащило ветром, он опускался в дождливую ночь, и по непроглядной тьме, растекшейся внизу, понял, что его отнесло в безлюдную Зону…
Он вытер ладонью мокрое лицо и посмотрел на часы. Без пяти одиннадцать. До рассвета еще далеко. Капитан вздохнул. Кладбищ он не то чтобы боялся, а просто испытывал к ним некоторую неприязнь, как и всякий нормальный здоровый человек. Еще больше это касалось ночных кладбищ. Когда-то давно, в пионерском лагере, он с ребятами пошел после вечерней линейки на деревенское кладбище обрывать черемуху и позорно бежал вместе со всеми, обнаружив за одной из оградок что-то белое и шевелящееся. Отбежали они, правда, недалеко, так что выскочившая из-за кустов белая дворняга с черным пятном на озорной морде успела их лениво облаять.
Белов, морщась от боли, осторожно устроил ступню поудобнее. В голову лезла всякая чепуха, и капитан вдруг поймал себя на том, что напряженно вслушивается в шум дождя, словно стараясь различить какие-то другие звуки. Он закрыл глаза, попытался думать о рыбалке и вздрогнул, потому что за спиной раздался отчетливый протяжный стон.
Белов замер.
Стон повторился, теперь уже слева от кресла. Был он каким-то скрипучим, безжизненным, безнадежным и довольно жутким. Так могли бы стонать покойники или привидения.
Белов невольно старался дышать как можно тише, ему было уже не холодно, а жарко, и сердце колотилось у самого горла.
Сбоку мелькнуло что-то бледно-голубое, похожее очертаниями на человеческую фигуру. Белов вжался в кресло… Опять раздался стон… бледно-голубое переместилось в кромешной темноте – и пропало, словно провалилось в могилу. Еще один полустон-полухрип – и только шорох дождя и сумасшедший стук сердца.
«Это же Зона, здесь же нет никого, – пытался убедить себя Белов, а сам, скрипя зубами от боли, уже выбирался из кресла. – Однако так и до петухов не дожить!»
Собственная способность иронизировать немного приободрила его, но тем не менее он знал, что ни за какие коврижки не будет сидеть здесь всю ночь. Он даже думать не хотел, что значат эти стоны и бледно-голубое, перемещающееся, жуткое, а думал о другом: как найти подходящий ствол или толстую ветку, чтобы, опираясь на нее, уковылять подальше от этой обители мертвецов. И еще он думал, что где-то здесь должна быть дорога и какое-нибудь село, и лучше пересидеть в заброшенном селе, чем рехнуться на кладбище.
Когда он, опираясь, как на костыли, на планки, оторванные от могильной ограды, пробирался между крестами, обелисками, скамейками, кустами и деревьями, сзади вновь раздался сдавленный хрипящий стон…
– О господи! – выдохнул военный летчик Белов, сам едва удерживаясь от стона – боль опять пульсировала резкими толчками, пронзая всю ногу, – и с утроенной энергией заковылял по мокрой траве, слизывая с губ дождевые капли, смешанные с потом.
Он долго бродил по полю, с трудом выдирая костыли и здоровую ногу из липкой земли. Временами ему хотелось плюнуть на все, лечь и лежать до рассвета, но задул холодный ветер – предвестник зимних вьюг, и дождь полил еще сильней. Внезапно он услышал слабый далекий стрекот, пришедший от горизонта и растворившийся в шуме ветра.
«Ищут, чертяки!» – с облегчением подумал он и улыбнулся.
Треск вертолетов канул в ночи, но Белов был уверен, что его продолжат искать до тех пор, пока не найдут, и эта уверенность придала ему силы.
В конце концов ему повезло, и он набрел-таки на асфальт, и дело пошло веселей. Дождь поутих, словно осознав собственную бесполезность, только ветер с непонятным упрямством продолжал свое нехитрое занятие. Белов монотонно передвигался по асфальту, автоматическими уже движениями выбрасывая вперед костыли и подтягивая к ним тело – и увидел впереди несколько зеленых огоньков. Огоньки светили холодно и недобро, и Белов остановился, соображая, а когда сообразил – замахнулся штакетиной и закричал, сам чуть не пугаясь собственного голоса:
– Прочь с дороги-и!..
Огоньки мигнули, раздался дружный вой, и стая, цокая когтями по асфальту, бросилась в сторону и еще раз провыла из глубины незасеянного и неубранного поля. Все-таки это были собаки, а не волки, но кто знает, какими стали собаки в Зоне..
Зона давным-давно была безлюдной, поэтому летчик не сразу поверил своим глазам, когда увидел слабо светящееся окно в стороне от дороги. Свет падал на скамейку, стоящую у стены, на прямоугольники редкой, прибитой дождем травы, ограниченные черными тенями от переплетов оконной рамы.
Сразу вспомнился кладбищенский вой и бледно-голубое мелькание.. Белов, раздумывая, стоял посреди дороги, опять напряженно вслушиваясь в темноту, тяжело опираясь на штакетины и не отводя взгляда от окна. Свет был каким-то тревожным, его просто некому было здесь включать, но тем не менее он горел. Белов подумал, что ветром могло как-нибудь по-особому соединить провода, почему-то успокоился от этого нелепого предположения и направился к дому.»
Да, самым трудным делом было заставить себя сесть за стол. Но так же трудно было потом вырываться из создаваемого мира, вновь возвращаться к окружающей реальности. Тем не менее, внутри словно прозвенел какой-то звонок и, взглянув на часы, я распрощался с моим капитаном Беловым, рассчитывая, впрочем, вновь встретиться с ним вечером. Пора было собираться в гости к Наташе.
Я даже догадался купить цветы. (Боже, как давно я не покупал цветов!) Я пробирался по венерианским Хуторам, держа в руке завернутый в газету букет розовых гвоздик. Небеса были серыми, но сухими, и ничего не капало на голову, и видимость была хорошей, без тумана. Окна домов тоже были серыми, но под окнами жизнь продолжала свое неуклонное поступательное движение к всегда обнадеживающему и почти всегда обманывающему будущему. Все те же пестрые стайки подростков расцвечивали унылые хуторские пространства. Сидели, стояли, курили, щелкали семечки, разговаривали, смеялись, словно свыклись, смирились, сжились с нагромождением железобетонных коробок, которые, представлялось, бездумно уронил в бывшую степь, как кубики, какой-то равнодушный великан, не принадлежащий к роду человеческому.
Только сейчас, в сером свете вялого ноябрьского дня, я определил истинные размеры Хуторов и понял, что идея, пришедшая вчера перед сном, вряд ли осуществима. Хутора были целым городом в городе, хаотично застроенным многотысячным городом, и отыскать здесь пропавшего человека…
И все-таки я должен был хотя бы попытаться. Я двигался галсами или, скажем, зигзагами, переходя от одной компании подростков к другой, и пусть медленно, но все же приближаясь к Наташиной квартире. Я спрашивал о Косте. Я описывал Костю, его короткую серую куртку, его бело-голубую спортивную шапочку, я показывал ребятам фотографию – на фотографии были запечатлены Костя, я, Борис, Марина, еще одна семейная пара, глазастая девчушка лет шести – дочка этой пары, и еще одна женщина, кажется, Лена. Это были приятели Рябчунов, а фотографировал нас муж этой Лены на маленькой прошлогодней вечеринке по какому-то поводу. Фотография хоть и была любительской, но Костя получился похожим на себя.
Я предполагал, что подростки могут принять меня за работника милиции и вряд ли что-нибудь скажут, даже если знают – так делали и мы в юности, сплоченные в своем противостоянии миру взрослых, а тем более взрослых при исполнении – поэтому захватил и свое журналистское удостоверение. Я показывал фотографию и удостоверение, я объяснял, что действую сам, без чьего-либо приказа, что хотел бы просто поговорить с Костей и выяснить причину его ухода. Я, кажется, находил сочувствие и понимание, и кто-то даже вспомнил мой рассказ «Рулевой с „Пинты“ с нашей последней страницы, и было несколько заинтересованных вопросов – но не более. Или никто из них действительно никогда не видел Костю и не знал о нем – а такое, учитывая пространства Хуторов и ограниченное количество опрошенных, было очень даже вероятно, – или же кто-то что-то знал, но говорить не хотел.
И все-таки мне почудился намек на тень надежды. Хотя, скорее всего, мне просто очень хотелось поверить в такой намек. Тень надежды мелькнула, когда я беседовал с группой ребят, расположившихся на штабеле бетонных свай неподалеку от Наташиного дома. Ребята встретили меня как-то неприязненно, к удостоверению моему отнеслись скептически, и черноглазый рослый паренек в красной куртке, украшенной множеством «молний», прямо мне заявил, что соорудить, мол, можно любое удостоверение. И еще он мне сказал, что если человек ушел из дома, значит у него есть на то основания и не нужно его искать. Никому. Ни родителям. Ни милиции. Ни журналистам.
Что-то такое было… Серьезные лица, слишком серьезные лица. Почему у них были такие серьезные лица? Неприязненные лица. И почему один из них отвел глаза?
Мнительность… Подозрительность… Неужели подозрительность передается у нас из поколения в поколение, неужели уже проникла в гены? За эти десятилетия мы настолько привыкли подозревать всех и каждого, и самих себя, и не верить, не верить… Пришедшее в голову соображение привело меня в такое замешательство, что я остановился перед Наташиным подъездом и уставился на заляпанные грязью ступени. Я поймал себя вот на чем: если бы у меня имелись соответствующие полномочия – я был бы готов забрать всю эту группу и допрашивать до тех пор, пока они не признаются. Понимаете? Из-за моего подозрения. Из-за одного отведенного в сторону взгляда. Из-за того, что мне почудилось… Понимаете? Я, считающий себя вполне интеллигентным человеком, оказывается, внутренне, потаенно, в подсознании или где-то там еще, всегда вполне готов не только подозревать окружающих, но и любыми средствами добиваться подтверждения собственных подозрений. Не в этом ли одна из коренных причин именно такой сегодняшней нашей несладкой жизни, именно такой, потому что подобных мне – большинство?..
«Ну-у, брат, понесло, – поспешно подумал я, стараясь настроиться на другие мысли. – Лучше вот грязь с обуви отлепи».
Я занялся этим с особым усердием, попробовал отвлечься от Кости и подростков, не знающих, конечно же, ничего о Косте, я попробовал думать только о предстоящей через несколько минут встрече с Наташей и, войдя в подъезд, извлек гвоздики из газетного кулька и начал подниматься по лестнице, и действительно отвлекся от всего, что не было связано с Наташей.
…Казалось мне, что после этих часов, проведенных у Наташи, я вновь и вновь буду воспроизводить в памяти все подробности. Все жесты. Все интонации. Все взгляды. Казалось, это единственное, что я смогу сделать, прежде чем заснуть. Но получилось не так. Потому что подойдя к своей квартире – а было уже начало первого, меня здорово выручило пойманное у Хуторов такси, – я услышал приглушенный женский плач, доносившийся из-за двери Рябчунов.
Да, получилось не так. Когда я покинул Наташин подъезд, венерианские пространства Хуторов были безлюдны и жизнь теплилась только за железобетонными стенами, сигнализируя о себе множеством освещенных окон. Я осмотрелся перед тем как пуститься в обратный путь под черным уснувшим небом и в свете установленного на крыше прожектора увидел, как по ступеням, прикрытым навесом, к двери подвала соседнего дома быстро спустился, скрывшись от меня, кто-то в красной куртке. Красная куртка сразу напомнила мне о черноглазом рослом пареньке, о серьезных неприязненных лицах, и оказалось, что я опять думаю о Косте. Оказалось, что я подсознательно постоянно думаю о Косте, словно каким-то необычным чувством ощущая прикосновение странной тревоги… Может быть, выражение неудачно, может быть – слыша отзвук тревоги, видя тень тревоги? Не знаю… Дело не в словах, а в том непередаваемом ощущении.
Потом был плач Марины за дверью соседней квартиры, потом бесполезные попытки уснуть – и когда, устав ворочаться на диване, я понял, что уснуть не удастся – я встал и сел за письменный стол. Шел третий час ночи. Я постарался отбросить все и заглушить тревогу работой. Мне не хотелось корпеть над рассказом, но я знал, что другого средства нет. Я буквально заставил себя переключиться на капитана Белова, решив во что бы то ни стало до утра написать все до конца, и минут через сорок все-таки выдавил из себя первые слова продолжения.
«Белов подумал, что ветром могло как-нибудь по-особому соединить провода, почему-то успокоился от этого нелепого предположения и направился к дому». Это была последняя фраза, написанная прошедшим днем.
«Зашел он все-таки сбоку», – вывел я на бумаге, придвинул поближе настольную лампу и вновь ушел в придуманный мной мир.
«Зашел он все-таки сбоку, вскарабкался на скамейку и осторожно заглянул в окно, настраивая себя на любую неожиданность. Комната оказалась самой обыкновенной. Накрытый потертой клеенкой стол, одинокий табурет, обрывки газет на полу, старомодная этажерка в углу, какие-то тряпки в помятом ведре, тряпки под столом. Надорванная коробка „Беломора“ на подоконнике. Прикрепленная кнопками к стене репродукция „Гибели Помпеи“, вырванная из журнала. Тусклая лампочка без абажура, свисающая с потолка на длинном перекрученном проводе. Все.
Внезапно Белов ощутил странную тяжесть в затылке и невольно пригнул голову, просто физически чувствуя чей-то взгляд из темноты. Он медленно развернулся всем телом, держась рукой за скамейку. Спина под комбинезоном взмокла. Тысячью невидимых глаз на него смотрела угрюмая ноябрьская ночь.
«Черт побери! – Он перевел дыхание. – Ты же не в тылу врага, в конце концов, ты же на своей советской территории! Так какого хрена ты дергаешься? Ведь обычная же земля…»
Но Зона не была обычной землей.
Тусклая лампочка продолжала бесстрастно освещать заброшенную комнату, и трудно было поверить, что так она говорит вот уже почти четверть века. Не могла она гореть четверть века! Тем не менее она горела, и это значило, что кто-то ее включил.
Белов почувствовал опустошающую усталость. В ступне дергалась боль. Он бросил последний взгляд в окно – страшно и неотвратимо падали статуи на журнальной картинке, – сполз со скамейки и пошел дальше, думая только о ночлеге. На пороге соседнего домика он оглянулся – и ничего не увидел. Окно погасло и затерялось в темноте. Белов передернул плечами, шагнул в темный коридор, закрыл скрипучую дверь и накинул крючок.
…Через четверть часа, собрав в потемках все тряпье, которое нашлось в трех комнатах и коридоре, летчик в изнеможении опустился на мягкую груду, снял ботинки и закрыл глаза. Заснуть по-настоящему он не мог – мешала боль, но все-таки погрузился в зыбкий полусон-полуявь, и явью была темнота и холодная сырость, а сном было все остальное.
…Ему казалось, что он уверенно ведет машину вверх, к ослепительному солнцу, пробивая облака, и вот-вот раскинется над головой необъятная голубизна, только ботинок слишком тесен и сжимает, сжимает ступню… Ему казалось, что он босиком идет по заснеженному Крещатику и у него мерзнут ноги, а люди удивленно смотрят на него из окон троллейбусов… Ему казалось, что он заблудился в подземных ходах Киево-Печерской лавры, свет не горит, и по ногам гуляет ветер… Ему казалось, что за истребителем увязалась «летающая тарелка» из видеофильмов: словно притянутая магнитом, спланировала на крыло самолета, из тарелки высунулась зеленая рука и застучала по фюзеляжу…
Капитан пришел в себя. Тарелка исчезла, а непонятные звуки продолжались. Наконец капитан понял, что кто-то дергает закрытую на крючок входную дверь. Спросонок он подумал, что это прилетели за ним, но стоячая, как болотная вода темнота быстро привела его в чувство. Дверь рванули раз, еще раз и еще, потом звякнуло, заскрипело, и в коридоре раздались шорохи и приглушенные стуки.
Белов нашарил штакетину и сел, прислонившись спиной к стене. Шуршало, постукивало в коридоре, слышались чьи-то осторожные шаги, что-то пощелкивало, и словно бы сыпали на бумагу песок. Белов до боли сжимал пальцами деревяшку и вглядывался, вглядывался в темноту, стискивая зубы и проклиная свой учебный полет, свои истребитель и проклятую, проклятую Зону…
Заскрипела, заныла, открываясь, дверь в комнату, метнулось под потолок бледно-голубое сияние, и раздались протяжные вздохи и протяжный знакомый стон.
Нервы у капитана не выдержали. Забыв про больную ступню, он рывком вскочил на ноги, изо всех сил метнул штакетину и заорал, оглушая себя этим истерическим криком:
– Вот отсюда!
Штакетина грохнула о дверь как артиллерийский снаряд. Бледно-голубой силуэт расплылся, и перед глазами капитана замаячило тусклое пятно. Белов упал от боли, ударившись локтем об пол, успел услышать еще, как в другой комнате что-то зазвенело, словно камнем высадили окно – и предохранители, которыми природа заботливо снабдила человека, отключили его сознание.
…Вертолет с треском снижался над дорогой, сиротливо пробирающейся среди черных унылых полей. На дороге ничком лежал человек. Руки его были неловко подвернуты под туловище, и вся его неудобная поза однозначно говорила о том, что человек не просто прилег отдохнуть.
Он распахнул дверцу и спрыгнул на асфальт. Подбежал к лежащему, приподнял и повернул его голову с широко открытыми остекленевшими глазами. И обмер.
Мертвецом был он сам, капитан Белов!..
Он застонал и оторвал лицо от холодного пола. За окном по небу катился, удаляясь, знакомый треск, за окном хмурилось серое небо. Белов оттолкнулся от пыльных половиц и сел, стараясь не тревожить тупо ноющую ступню. Серый утренний свет разливался по комнате с ободранными обоями, отражался в осколке зеркала на стене, тонул в темных углах, где попрятались ночные сны. Яблоня за окном дрожала ветвями на ветру.
Треск удалялся, глох в сером небе. «Парашют!» – подумал Белов. Они должны увидеть на кладбище яркий купол его парашюта, сесть, подойти к креслу и брошенному гермошлему и понять, что он решил переждать дождливую холодную ночь в покинутом селе.
Покинутом?
Капитан посмотрел на приоткрытую дверь, ведущую в коридор, подобрался к стене, взял штакетину, вернулся к груде тряпья, которое оказалось пестрыми половиками, рваной телогрейкой и белым, но очень грязным халатом, взял вторую штакетину, поднялся и направился к выходу.
Он проковылял по коридору, задержался у двери, беззвучно шевеля губами, толкнул ее – заскрипело, заныло – и вышел на улицу.
…Потом, уже полулежа в уютной тесноте вертолета, он спросил, подавшись к сидящему рядом светловолосому усатому крепышу из группы поиска:
– Слушай, а тут мог кто-нибудь остаться?
Крепыш покосился на него и пожал плечами.
– Были случаи, возвращались, только давно. Так ведь прочесывали и выселяли. А что?
Теперь уже Белов пожал плечами. Вертолет с треском молотил лопастями серый неподатливый воздух, плыл внизу черный лес. Пилот курил и что-то насвистывал.
– Может, кто и сховался в погребах, – продолжал крепыш. – Слыхал, что постреливают на постах. А вообще, чего ты хочешь, капитан? Зона ведь, тут же все одичали. Лисы без шерсти, лысые, как… – Крепыш повел глазами на лысину пилота. – Куры стаями бегают, уже и двухголовые попадаются, опять же собаки…
– Часто приходится здесь бывать?
Крепыш сделал непонятное движение головой, как-то странно посмотрел на Белова.
– Случается…
– Ну и как?
Крепыш бормотал что-то, но Белов не расслышал его в стрекоте мотора.
– Не понял!
Крепыш в упор взглянул на него серыми колючими глазами, рупором приставил ладонь к губам.
– Зона, капитан! Двадцать с гаком стукнуло, соображаешь? Поколение. Мы здесь работаем, понимаешь? Работаем. Так что всякое бывает.
Белов кивнул, передвинул поудобнее забинтованную ногу и закрыл глаза.
И представилась ему дверь того дома с выдранным крючком. Прежде чем выйти на улицу, он прочитал неровно обведенные красным карандашом строчки, напечатанные на пожелтевшем листке районной газеты, прикнопленной к двери, и тем же карандашом написанное на полях матерное слово.
– Но, упорно сражаясь за мир, мы убеждаемся тысячу раз, – прошептал он концовку виршей какого-то местного жизнерадостного поэта, – верим, что покоренный и мирный атом будет работать на нас…
Крепыш, играя желваками на скулах, смотрел прямо перед собой. Под вертолетом лежали поля, и от горизонта до горизонта тянулась железобетонная стена, и над стеной в пять рядов ощетинилась колючая проволока».
Все. Я выжал из себя все, остатки энергии ушли на то, чтобы поставить финальную точку, в голове, груди, животе было пусто, как в обреченном на снос доме, который уже покинули последние жильцы. «Выпитость» – называл такое состояние Александр Блок. Я не был, конечно, Александром Блоком, но прекрасно ощущал, что значит это его определение. Произведение как бы истекло из меня, и уже отделилось от меня, и вот лежало передо мной на столе листками исписанной бумаги, воплощенное… Лежало рядом с пепельницей, утыканной окурками, рядом с будильником, показывавшим начало шестого.
И вот обидно, думал я, всегда обидно, что воплощенное постоянно оказывается только отблеском того, о чем думал, что хотел сказать. И всегда остается недовольство собой.
Я распахнул окно и немного постоял, вдыхая сыроватый воздух. Я не спешил ложиться, потому что знал – все равно сразу не усну, все равно буду лежать в темноте и еще и еще раз прокручивать в памяти только что завершенный рассказ, и повисший в комнате табачный дым заставит неровно биться сердце.
И снились мне ступени, ведущие вниз, вниз, к обитой железом двери подвала, серым прямоугольником проступавшей в полумраке. Я спускался по этим холодным ступеням, а дверь не становилась ближе. А потом ступени исчезли и я оказался перед ней и застучал кулаком по ржавому железу, но дверь была заперта. Я стучал и стучал, настойчиво и монотонно, и дверь медленно приоткрылась. Из темноты потянуло холодом.
Я поднял голову, пытаясь определить источник настойчивых звуков, и не сразу сообразил, что это стучат соседи сверху. Возможно, они занимались мелким ремонтом. Или подрабатывали изготовлением ящиков. Я заставил себя встать и, завернувшись в одеяло, подошел к окну и захлопнул раму. Потом бросился назад к дивану со всей скоростью, возможной для завернутого в одеяло человека, упал на него и поджал колени к животу, пытаясь согреться. В комнате было холодно как где-нибудь на Луне или в Поясе астероидов. Зато полностью выветрился табачный дым, и голова почти не болела от недосыпу – а шел-то всего лишь одиннадцатый час воскресного утра.
Интересно, думал я, постепенно согреваясь, почему посторонние звуки, которые мы слышим во сне, так хорошо увязываются с содержанием сна? Почему сюжет сна словно подводит нас к этим звукам, хотя мы не можем знать, когда они раздадутся и какими будут? Ну вот возьмем сон с этой дверью в подвал. Я спускался к ней до того, как раздался стук соседей, поднял руку, намереваясь постучать – и прикосновение моей руки к двери, произошедшее во сне, совпало с тем моментом, когда сосед начал сколачивать свои ящики. Или, скажем, сон со звонком. Я во сне прихожу в гости к Залужной, нажимаю звонок – и его мелодичные переливы оказываются реальным звонком в дверь моей квартиры. Это было не так давно, когда ни свет ни заря мне нанес визит музейный работник Карбаш, чтобы поплакаться об очередных проблемах с очередной псевдоженой. Выходит, во сне мы как бы предвидим будущее? Узор сна с самого начала выстраивается так, чтобы подвести нас к этому будущему. Что-то в этом, наверное, есть? А вещие сны? Проскопия, дар предвидения событий… Это уже дело парапсихологии… Есть ли какое-то объяснение?..
Я и не заметил, как уснул, согревшись, и проспал еще около часа. Когда я покончил с домашними делами, воскресное утро уже давно и неотвратимо кануло в небытие или просто сместилось по оси времени. Я убрал свой опус в ящик стола отлежаться и бодро выбежал на улицу, где поджидала меня серенькая сырость уходящего ноября.
Мы с Наташей договорились встретиться в центре, в сквере напротив «Детского мира», и ровно в двенадцать тридцать я уже прохаживался по мокрым плитам вдоль мокрых скамеек, заложив за спину руки с букетом в жестко шуршащей упаковке и поглядывая в сторону автобусной остановки. Наташа, как это и положено, опаздывала, канонически, можно сказать, опаздывала, хотя винить ее было трудно – в воскресные дни общественный транспорт посещал Хутора с большими интервалами. Да я и не собирался винить ее. Черт возьми, я давным-давно уже не ждал никого в сквере, не ждал вот так, с цветами, а все мои прежние ожидания… Где они были, мои прежние ожидания?
Она подошла и немного виновато улыбнулась, и я преподнес ей жестко шуршащий букет, и словно растаяло что-то внутри, растаяло и обернулось ровным безмятежным теплом, теплом и сиянием. «Милых ласковых глаз нежный взор» и прочая патетика, было дело, грешил юнец влюбленный, думавший, что навечно это, до последней дрожи вновь ушедшего в Илем мира – и что нам были эти мокрые плиты и скамейки, эти грустные ивы и небо цвета позднего ноября…
Тихие воскресные улицы в легкой пелене тумана. Уютное тепло малолюдного кафе на набережной, и безмолвный разговор – глазами, как разговор двух звезд, летящих в пространстве по сближающимся траекториям, и улыбка – словно знамение библейского завета, словно облако висело над землей и вот – явилась радуга в облаке, и…
И вновь – мокрые, но словно бы похорошевшие улицы, и влажный воздух, кажется, превращен в вино кем-то всеблагим и всемогущим, потому что начинала кружиться голова и расплывались очертания городских кварталов.
Было еще светло и мы шли домой к Наташе, потому что она отказалась идти ко мне, а предложила прогулку на Хутора – что-то кому-то хотела доказать? Или отомстить? Или утвердить? «Если прошлого вдруг – вспыхнут огни – гони его, друг, – гони…» Упаси вас боже от расспросов о прошлом, от выяснения подробностей, от попыток попасть туда, куда тебя не зовут. Я и Наташа были друг для друга – сегодняшним, настоящим – и оба мы пока носили свое прошлое в себе.
Знакомые уже подростки тосковали у штабеля свай неподалеку от Наташиного дома, и тот, в красной куртке, даже отвернулся, увидев нас. Впрочем, возможно, это никак не было связано с нашим появлением и я опять грешил мнительностью.
А потом вновь, как вчера, была Наташина комната, где все было неброско и аккуратно, по-настоящему домашняя комната, из которой не хочется уходить, где можно сидеть в кресле у торшера и читать или просматривать и править рукописи, или негромко постукивать на верной «Любаве»… Мне не хотелось уходить, мне очень не хотелось уходить и в тысячный раз сотворять яичницу и хлебать супчик на своей кухне, мне просто не хотелось уходить – и я не уходил. Вечер залил Хутора темнотой и дождем, дождь зашуршал по стеклам – противный и довольно сильный дождь, неожиданный в конце ноября, – и когда я засобирался домой, опасаясь, что позже вообще не выберусь из здешней трясины, Наташа склонилась над креслом, положила мне руки на плечи и просто и мягко сказала: «Ну куда же ты пойдешь под дождем?»
…Отзвучал уже по радио гулкий голос кремлевских курантов, ускользнуло в прошлое еще одно звено непрочной и короткой цепочки наших дней. Я курил на балконе, гасли окна в соседних домах, словно тоже проваливались в прошлое, в ставший вчерашним день, дождь угомонился, уяснив полнейшую свою ненужность в преддверии зимы, и прожектор обреченно освещал безлюдное пространство, когда-то бывшее колхозным полем. Безлюдное? Я непроизвольно задержал дыхание, потому что вдоль дома пробежал кто-то в красной куртке – опять в красной куртке! – и вновь, как вчера, скрылся в подвале соседнего здания. И когда этот «кто-то» пробегал мимо Наташиного подъезда, я разглядел сверху, с пятого этажа, какой-то сверток в руке бегущего. Бегущий был похож на того подростка…
А потом кто-то опять торопливо прошел внизу, вынырнув из полумрака – снова это был подросток в темной короткой куртке, кажется, из джинсовой ткани, и под мышкой у него тоже был зажат сверток. Я проследил его путь до подвала и почувствовал ту самую лихорадку сыщика, о которой до этого знал только из книг. Зачем по ночам ребята ходят в подвал и что они туда носят? Держат там собак или, скажем, кроликов? И кормят их в полуночный час? Собаки или кролики… А может быть, люди? Человек. Один вполне определенный человек по имени Костя. Мой сосед Костя Рябчун.
Вот ведь удивительнейшее стечение обстоятельств, думал я, продолжая наблюдать за пространством около подвала. Такое может случиться только в жизни, потому что в книге это было бы слишком надуманно, притянуто за уши, слишком бесцеремонно выпирало бы из текста. Вы только посмотрите, какая причудливая вырисовывается картина, какой совершенный получается механизм, все детали которого пригнаны друг к другу, друг друга обусловливают и дополняют. Сначала – крайняя моя нужда в материале для субботнего номера. Потом визит Ларисы Залужной и знакомство с Наташей, у которой есть этот необходимый материал. С другой стороны – исчезновение соседа Кости, исчезновение именно на Хуторах и именно тогда, когда я был там, а был я там впервые в жизни. Опрос подростков и вчерашняя и сегодняшняя мои встречи с Наташей. Все линии сходятся в одну, все происходит там и тогда, где и когда это необходимо для развязывания узла, каждый кирпичик здания держится на другом – а ведь вынь хоть один или положи не на то, единственно правильное место – здание рухнет, а точнее, просто не будет никакого здания. Не-ет, тут волей-неволей поверишь в предопределение и в написанное еще в начале времен полное собрание Книг Судеб.
Еще я думал о том, что дело, видимо, серьезное, если Костя скрывается там, в подвале, и не возвращается домой. Я не хотел даже ничего предполагать, я просто боялся что-то предполагать, и еще я хотел и верить в то, что в подвале именно Костя, и не верить в это… А если наблюдаемые мной ночные посещения подвала в доме на Хуторах не имеют никакого отношения к Косте?..
– Ты все куришь?
Наташа вышла на балкон, встала рядом, положив руки на мокрые перила, легонько прижалась плечом к моему плечу и тут же отстранилась, словно испугавшись чего-то. Я осторожно прикоснулся рукой к ее светлым волосам, провел по ним – и замер. Двое поднялись из-под подвального навеса, быстро пошли мимо окон, засунув руки в карманы курток, без свертков, миновали Наташин подъезд – и исчезли в хаосе Хуторов. Наташа задумчиво смотрела на беспросветное небо.
– Наташа, ты извини, я сейчас вернусь, – сказал я, стараясь заглянуть в ее глаза. – Отлучусь минут на пятнадцать и вернусь.
Как-то по-глупому прозвучали эти мои слова, но ничего более убедительного я просто не успел придумать. Не до дипломатии мне было. Я хотел спуститься в подвал и по-мужски потолковать с Костей.
Наташа несколько мгновений смотрела на меня, глаза ее чуть расширились от удивления.
– Я тебе все потом объясню, – заверил я, погладил ее по плечу и устремился в прихожую.
Выйдя из подъезда я нашел глазами Наташин балкон – ее темный силуэт вырисовывался на фоне освещенного окна – помахал рукой и направился к подвалу, нашаривая спички в кармане куртки.
Спустившись по ступеням, я вспомнил сегодняшний сон. Да, дверь действительно была обита железом и действительно начала открываться от нажатия моей руки. В подвале было темно и душно как в лесах какой-нибудь пятой планеты Сириуса, в нос бил очаровательный запах кошачьего общежития, чего-то кислого, преющего и гниющего. В недолгом свете горящих спичек материализовались из мрака и вновь погружались во мрак переплетения труб, холмики стекловаты, обрезки линолеума, изуродованные плоские ящики, набитые стружками, обломки ржавой арматуры, сплющенные консервные банки, сломанные стулья, доски, облепленные засохшей землей, нечто похожее на упавший с высот стратосферы сейф, бесформенные куски пенопласта, перекошенная дверь, лежащая на куче окаменевшего бетона, разбросанные по бетонному полу секции батарей парового отопления, обезображенные почти до полной неузнаваемости корыта с остатками раствора, разодранные самым невероятным образом плиты, которые называются «ДВП», заляпанный краской унитаз… Трубы вели в безнадежную темную пустоту, и чем дальше я продвигался под зданием, расходуя и расходуя спички, спотыкаясь о самый разнообразный твердый и мягкий хлам, тем больше сочувствовал грядущим поколениям, которые придут сюда после нас. Как мы не смогли пройти до конца пирамиду Хеопса, ничем, кстати, не захламленную, так и потомки не смогут преодолеть наши подвалы, и будем мы непонятны им, беззаботным жителям завтрашних светлых веков. Да что потомки – я, современник, не мог разобраться в этой кисло-прело-гниющей свалке. И ничего похожего на свертки я не обнаружил. Можно было, конечно, лезть все дальше в дебри, осваивать эту самую пятую планету Сириуса, но с меня было довольно. Я бросил под ноги последнюю спичку и прокричал в темноте, остро почувствовав вдруг всю тяжесть девяти или десяти громоздящихся надо мной этажей.
– Костя! Костя, где ты? Костя, иди сюда, это я, Алексей, твой сосед.
Что-то в ответ прошипело в трубах и зов мой замер в стекловате, словно подвальная темнота схватила и моментально задушила слишком голосистое эхо. Никто не откликнулся, будто и не было в подвале ничего живого – и я застыл в мерзкой темноте, беспомощный без спичек, прислушиваясь и ничего не слыша, словно уши мои заткнули этой самой колючей стекловатой.
Кавалерийская атака с ходу не удалась, однако я не спешил терять надежду. Я неуверенно побрел назад, пригнувшись и выставив перед собой руки с растопыренными пальцами, оступаясь и тихонько ругаясь, я на ощупь побрел к выходу, но знал, что вернусь сюда. Вернусь днем.
…Я стоял на лестничной площадке возле горящей кнопки отключенного на ночь лифта, а Наташа обходила вокруг меня, как планета вокруг тусклого остывающего солнца, и счищала щеткой с моей куртки подвальные пыль и грязь. Она ни о чем не спрашивала, и я ничего не говорил. В глазах ее не было удивления, в ее распахнутых глазах…
Я вошел в прихожую и медленно снял куртку. И долго отмывался от подвальных запахов. И шагнул в комнату, где посреди белого-белого… было ее лицо…
Перед началом рабочего дня я попользовался электробритвой Цыгульского – он держал ее в своем столе на всякий случай, и таких случаев, по-моему, было у него немало. Эх, молодость, что с нее взять? Цыгульский ворвался в комнату ровно в девять и, разложив блокноты, принялся что-то лихорадочно писать. В начале десятого пришла запыхавшаяся Галка и около получаса обстоятельно рассказывала о здоровье Славика. Потом я просмотрел субботний номер. Моя страничка выглядела неплохо: ответы читателям, рассказ Гончаренко, НФ-новости, подготовленные клубом любителей фантастики при областной библиотеке, адреса книгообмена, рецензия на новый столичный сборник «В королевстве Кирпирляйн». Все было на своем месте и радовало глаз.
Хотелось позвонить Наташе, позвонить просто так, услышать ее голос, но я не решался. «Я тебе сама позвоню», – сказала она сегодня утром и взгляд ее был непонятным. Сомневалась она в чем-то или хотела в чем-то разобраться, или прислушивалась к прошлому – а все мы сотканы из прошлого – или было тут что-то еще?..
Я все-таки набрал ее номер, но сразу же положил трубку. Никогда не следует набиваться. Назойливость – одно из неприятнейших качеств людских. И торопить события тоже не надо – каждому событию уготован свой срок и свое место под солнцем. Проведя такой сеанс самовнушения, я неожиданно для самого себя позвонил в справочное бюро и узнал у безымянной «восьмой» телефон горотдела милиции. Вообще-то я был уверен, что никаких сведений мне по телефону не дадут и, скорее всего, придется пользоваться связями, которые есть у каждого газетчика (да и все наше общество, увы, держится на связях), но все-таки решил начать со звонка. В любом деле я предпочитал идти от простого к сложному. Диалектически.
Я представился отозвавшемуся на мой звонок сотруднику горотдела капитану Симоненко – так он отрекомендовался – и коротко изложил суть вопроса: могу ли я, как журналист, получить сведения о пропавших детях и подростках?
– Обращайтесь к замначальника, – отчеканил капитан Симоненко. – Он у нас по связям с прессой.
Записав телефон и имя замначальника, я продолжил свою телефонную разведку. Номер был долго занят, я уже терял терпение, накручивая и накручивая диск, но наконец дозвонился и получил согласие на аудиенцию.
– Приходите, посмотрим и разберемся, – несколько туманно ответил мне заместитель начальника горотдела.
– Думаешь, у нас объявился гаммельнский крысолов? – насмешливо спросил Цыгульский. – То есть, конечно, не гаммельнский, а резидент с Альфы Центавра.
– Возможно и объявился, – сказал я, застегивая куртку. – Я в милицию.
Щелкавшая на счетах Галка молча кивнула, а Цыгульский, конечно же, промолчать никак не мог.
– Леша, передай мильтонам – брать только живым. Мы с ним пресс-конференцию организуем.
Я на Цыгульского не обижался. Насмешничал он автоматически, просто по привычке, а на деле лепил материал, копаясь в своих блокнотах, и материал у него явно не шел. Я знал Цыгульского.
В небольшой очереди я был пятым. Вдоль и поперек изучив стенную газету с названием «наша служба», напомнившим мне песенку из популярного некогда многосерийного теледейства, я, наконец, попал в кабинет, где за столом у окна сидел грузный седеющий мужчина в милицейской форме.
Разговор у нас, к моему удивлению, получился. Сейчас демократия и всем все можно – примерно так сказал замначальника. Грифы «секретно» снимаются, информация предоставляется. Только не надо дешевых сенсаций, сказал замначальника, изучив мое журналистское удостоверение. Газеты любят давать сенсации, причем непроверенные сенсации, подчеркнул замначальника. Откуда «Вечерний вестник» взял, что депутата горсовета Мартынова избил ветеран партии? Зачем писать такие вещи? И чуть что – милиция виновата, куда смотрит милиция, почему нет порядка в городе? Нужно быть объективными, подытожил замначальника.
Я заверил его, что пока не собираюсь давать никаких материалов, а просто произвожу некоторые изыскания предварительного характера. Я обещал ему, что если даже буду использовать какие-то полученные сведения, то обязательно занесу рукопись и только после его согласия и одобрения отдам для публикации.
В общем, времена действительно несколько изменились, и вскоре я листал различные бумаги в другом помещении горотдела, запомнив такую цифру: за неполный год в розыске числится по городу около полусотни детей и подростков. Заявлений в течение года было гораздо больше, но милиция отнюдь не дремала. Те, кто исчез, находились. В городе. Или за его пределами. Живые. Или мертвые…
Заявления о пропавших. Не вернувшихся из школы, из кино, ушедших в магазин, на футбол, к приятелям. Подробные приметы. Биографии пропавших. Сведения о родителях. Поварихи, разнорабочие, токари, шоферы, кладовщики… Я пролистал эти полсотни папок-скоросшивателей, среди которых было и дело об исчезновении Рябчуна Константина Борисовича, учащегося средней школы номер пять.
Интересно, подумал я, вновь просматривая печальные серые папки, оказывается, десятка два этих пропавших мальчишек и девчонок не коренные степоградцы, а приехавшие вместе с родителями из других мест. Кстати, и Костя ведь тоже приезжий. Связь тут, конечно, была примерна такой же, как между известной бузиной, растущей в огороде, и родственниками в Киеве, просто это было единственное подобие некой закономерности, присущей исчезновениям. Правда, пропали еще два мальчика – десяти и тринадцати лет, жившие на одной улице – улице Попова, не изобретателя радио, а космонавта, но в этом, в общем-то, не было ничего странного, потому что улица Попова на самом деле была большим жилым массивом, примыкавшим к Хуторам. Больше всего исчезновений приходилось почему-то на апрель и август – но это, опять же, ни о чем не говорило и вряд ли здесь можно было предполагать какую-то закономерность.
Я сидел за столом, заваленным папками, многие из которых, без сомнения, были документально оформленной, но пока еще не установленной трагедией, я сидел и задавался вопросом: что, собственно, побудило меня заняться сбором сведений, так сказать, не по профилю? К моей-то фантастической страничке все эти пропажи не имели ровным счетом никакого отношения. Костя? Да, безусловно – как первый толчок. Но Костя скрывался на Хуторах, в этом я почти не сомневался, он был жив и, наверное, здоров. Дело было не в Косте. Не только в Косте. Это же страшно – когда пропадают дети. Я представил, что бы почувствовал, пропали, не дай Бог, моя Ира – и мне стало нехорошо. Вот ведь материал, мимо которого нельзя пройти, от которого не отмахнуться. Нездорово то общество, в котором пропадают дети. И надо бить во все колокола. Не допускать. Ну а Костя… С Костей мы попробуем поговорить всерьез и начистоту.
…Но всерьез и начистоту не удалось. Вообще никак не удалось. Из горотдела я позвонил Галке, сказал, что буду после обеда и вновь отправился на Хутора.
Однако я глубоко ошибался, думая, что днем в подвале окажется немного светлей. Да, из отдушин под потолком действительно просачивались в подвал призраки дневного света, но уж очень немощными были эти призраки. Хаос продолжал оставаться хаосом и, убив полчаса на безрезультатную борьбу с ним, измазавшись и пропылившись до першения в горле, я вновь отступил. Я был раздосадован, но не побежден. Я выбрался из этого не описанного Данте подобия круга ада, снял куртку и принялся отчищать под взглядами проходивших мимо обитателей Хуторов. Я чистил куртку, отряхивал брюки, отплевывался, но не унывал. Да, подвал тянулся под всеми четырьмя подъездами, он был разделен на секции, но из секции в секцию можно было попасть, протиснувшись в отверстия, проделанные для труб – это я установил экспериментально. Да, подвал был завален хламом, и Костя мог таиться в дальней секции – ну и что? Я решил действовать другим методом: вечером подстеречь подростков в подвале и проследить их путь до Костиного убежища. А потом дать им уйти и поговорить-таки с Костей всерьез и начистоту.
Кое-как приведя себя в божеский вид, я покинул Хутора, перекусил по дороге к областной библиотеке и часа два общался с активистами КЛФ, обсуждая разные наши специфические вопросы. Затем вернулся в редакцию и оседлал рабочее место.
Катюшенька оставила на моем столе несколько конвертов. Я отложил самый пухлый, в котором явно скрывалась рукопись, и принялся поочередно читать письма потоньше. Цыгульского на горизонте не наблюдалось, его блокноты грудой лежали на подоконнике, а Галка при моем появлении схватила свою безразмерную сумку и ринулась в скудные недра торговых точек.
Письма были, в основном, практического, так сказать, плана: где достать «Солярис» без финальной купюры, как раздобыть сборники молодогвардейского объединения, правда ли, что в районе швейной фабрики красной шаровидный НЛО чуть не сбил идущий на посадку пассажирский самолет, почему не печатаем фантастику ужасов и так далее. Я с ходу настрочил несколько ответов и вскрыл пухлый конверт. Там действительно оказалась рукопись объемом не более четверти листа. Анатолий Шевчук, «тихие игры».
Один из создателей интеллектроники – самоорганизующихся и самообучающихся кибернетических систем приехал в отпуск в родной поселок. Его немного удивила непривычная тишина на вечерних улицах – подростки не бренчали на гитарах, как в юности героя, не гоняли на велосипедах, не сидели на скамейках у Дома культуры в ожидании фильма. Дети и подростки куда-то исчезли. (Тут я начал читать очень внимательно – тема, сами понимаете, была мне сейчас весьма близка.) «– А что-то тихо нынче на Бродвее, – заметил Дорохин, в очередной раз опустошив блюдечко с клубничным вареньем. – В наши времена вроде веселее было, а?
– Э-э, в ваши времена! – Тетя Лена махнула рукой. – В ваши времена сколько ты с Борькой Шелепиным лампочек побил? А кто гонки на мопедах по ночам устраивал?
– Было дело, теть Лен! – Дорохин засмеялся. – Веселилась молодежь.
– То-то, веселились. А теперь вот у нас другое веселье. Компьютерное веселье у нас.
– Что-о?
Дорохин недоуменно посмотрел на соседку, потом на маму. Мама отмахнулась, продолжая счастливо улыбаться:
– А! Каждому времени свое. Теперь вот по-таковски развлекаются.
– Ну-ка, ну-ка, – заинтересованно зачастил Дорохин. – Что за развлечения у молодых? Сидишь, понимаешь, в глуши сибирской, не успеваешь за всеми этими веяниями, переменой нравов. Выходит, лампочки теперь не бьют и собак дотемна по Бродвею не гоняют?
– Не гоняют, – отозвалась тетя Лена. – Некогда им гонять. Я же говорю, компьютеры теперь у каждого, у Кольки вон Чудинова, у Лариски Осиповой дочки, да у всех. Как раньше магнитофоны. Внук, пятиклассник, от горшка два вершка, а от компьютера не оторвешь. Прибежит из школы и к нему – обедать не дозовешься. Нашли себе игрушки! На улицу не выгонишь.
– Да, Витюша, – подтвердила мама. – Пойдешь за хлебом и, ей-Богу, не по себе становится. Ни одного сорванца не видать, словно кто-то их всех увел».
Я вспомнил утренние слова Цыгульского о гаммельнском крысолове. Кто-то уводит детей и подростков. Здесь, в рассказе – компьютерные игры. В фантастическом рассказе. А на самом деле, в жизни? Не попали же Костя и те остальные пять десятков, известных в горотделе, в плен к какому-нибудь кибернетическому дракону? Не ворует же их инопланетный монстр? И не продали же их в рабство в подпольные кооперативы? Хотя… Хотя времена наступили такие, что ничему уже не приходится удивляться. Сил не хватает удивляться…
«Дорохин лежал и смотрел в окно, на черные силуэты деревьев, и представлял домики поселка, и домики соседнего райцентра, и солидные здания областного города. В каждом доме жили дети, и в каждом доме стоял компьютер, не дороже швейной машины, и перед каждым компьютером сидел мальчик или сидела девочка. Вот экран, вот клавиатура. Вставлен диск с программой, нажата кнопка – и заметался между ящиками на складе маленький смешной человечек. Он хватает ящики, грузит на конвейер, а мохнатое чудовище катится к нему, стреляя на ходу, и надо суметь убежать от чудовища, уклониться от пуль и спасти, непременно спасти товар. Забыты книги и даже всемогущий телевизор, валяются без дела футбольные мячи, гитары и теннисные ракетки, и никто не сходится по вечерам у качелей за школой, и не надо им никаких других развлечений. Наигрывают волшебные дудочки современных крысоловов и дети уходят, уходят…
«Творцы интеллектроники» – броские заголовки в газетах. Это – о таких, как он, Дорохин, продолжателях дела отцов-основателей Раймунда Луллия, фон Неймана, Винера, Шеннона, Колмогорова… И – побочный эффект. Попытка наладить контакт с машиной – и разрыв контактов между людьми. Такая вот получается раскладка?
Над райцентром висела ущербная луна. Луна поплевывала свысока на земные проблемы. Она оттуда, сверху, навидалась уже столько всего, что ее трудно было чем-либо удивить.
Дорохин посмотрел на луну и опять задумался».
Концовка мне не понравилась. Концовка была слишком «лобовой», еще раз назойливо подчеркивая то, что и так вытекало из повествования. Да и тема… Палка в колесо прогресса? Боязнь первых паровозов или автомобилей, пагубно влияющих на нервную систему крупного рогатого скота, пасущегося вдоль дорог? Передать ребятам из КЛФ, пусть обсудят, выскажут свое мнение?
Я пробежал глазами приложенное к рукописи письмо. Ага, рассказ уже обсуждался в редакции районной газеты и Анатолий Шевчук был бит за попытку противостояния процессу поголовной компьютеризации, которую громко объявили в не столь далекие времена спинным хребтом реформы школы. Ага-ага, автор пытается скомпрометировать направление, призванное вывести страну на передовые рубежи – это уже шел пересказ состоявшегося в редакции разговора. Ату его, ретрограда!
Ну что ж… Я побарабанил пальцами по столу. Старая знакомая песня, и ведь многое потом действительно выходит боком. «Мы не можем ждать милостей от природы» – и не стали ждать, вытряхивать стали у нее эти милости, и результат, так сказать, налицо. «Даешь химизацию!» – и дали, да так дали, что не только мы – белые медведи не рады, пингвины – и те отведали нашего передового ДДТ. Про мелиорацию вообще говорить не хочется. «Наш мирный советский атом – на службу народу!» Хорошо послужил, спасибо ему, а вернее, не ему спасибо, а тому, кто его, наш советский атом – бездумно на службу… И примеров таких сколько угодно.
А что касается безобидности компьютерных игр… Я порылся в своем шкафу, перебирая журналы, просматривая закладки с надписями и нашел то, что искал. Пробежал глазами короткую заметку. «Синдром видеоигровой эпилепсии – так назвали японские врачи новый вид заболевания детей, которые увлекаются современными компьютерными играми. Характерные признаки его – головная боль, длительные спазмы мышц лица, временный паралич глаз, а также ухудшение зрения. В общем видеоболезнь протекает доброкачественно и не приводит к уменьшению интеллектуальных способностей. Однако беспокойство у врачей вызывают те негативные черты, которые формируются у подростков под влиянием видеоигр – в частности, подозрительность, недоверчивость, горячность и враждебно-агрессивное отношение к родителям, друзьям, знакомым и близким – собственно, типичные приметы эпилепсии». Вот так-то…
Конечно, думал я, повальная компьютеризация нам, слава Богу, пока не грозит и при нашей разворотливости еще долго грозить не будет. Но долг писателя, писателя-фантаста – уловить тревожные тенденции в настоящем, экстраполировать в будущее и художественными средствами показать, во что они могут воплотиться. И даже если опасения кажутся необоснованными – кого-то ведь заставит задуматься такое предупреждение, кого-то натолкнет на создание механизма страховки. Надо показать нашим «фэнам», решил я и положил рукопись в особую папку, где накапливались материалы для обсуждения.
День уже клонился к финалу, и вернулась уже из магазинов умаявшаяся Галка, когда наш тихий уголок посетил экс-учитель Волков. Мы с ним перекурили в холле с фикусом, поговорили о жизни, обменялись последними новостями с международной арены и из области внутренней политики, обсудили итоги футбольного первенства и поделились известиями, касающимися наших общих знакомых. И выяснилось, что Волков явился как исполнитель поручения Залужной, которая звонила-звонила ко мне из своей психушки, да так и не нашла, разыскала по телефону его, Волкова, и направила сюда, в редакцию, чтобы оставить мне записку. Поскольку я оказался на месте, записка не понадобилась. Дело в том, сказал Волков, что из столицы прибыл Юра Ботнарь и Залужная по этому поводу устраивает раут в своей квартире. Сегодня после работы, потому что Юра завтра утром уже отбывает.
Юру Ботнаря я не видел лет пятьдесят, если не больше, с той самой поры, когда он развелся и, захватив все свои картины, переехал в столицу к новой жене. Юру я оценил давно, еще по иллюстрациям к «Марсианским хроникам». Поэтому я отправил Волкова в гастроном и тоже начал закругляться.
На раут прибыли художник Гурьянов и музейный работник Карбаш, отставная балерина Васильева, уроженка Тетюшей Люда Каледина, томная Ира Жантария и мы с Волковым. Гришу разыскать не удалось – вероятно, укатил куда-нибудь за идеями, такое с ним бывало. Залужная хлопотала на кухне, бегала с тарелками и рюмками, то и дело прерывая светскую беседу. Вернее, не беседу, а рассказ Юры Ботнаря, бывшего в центре нашего внимания. Юра повествовал о своем участии в недавней выставке в Канаде, показывал фотографии и красивые каталоги. И хоть и был он по-прежнему бородат и носил, кажется, все тот же свитер, чувствовалась в нем некая удаленность, некая отстраненность от провинциалов, от Степограда, из которого он когда-то вырвался в горний мир.
Потом внимание всех присутствующих было перенесено на рюмки и тарелки, точнее, на их содержимое, потом начался общий разговор, позже распавшийся на отдельные ручейки – по интересам; Гурьянов даже успел задремать на диване, Карбаш принялся растолковывать Юре свои семейно-бытовые проблемы, Лариса успевала общаться сразу со всеми, а мы с Волковым, Людой и томной Ирой Жантарией удалились перекурить на кухню, потому что травмированная бывшим мужем Оля Васильева не переносила табачного дыма. У меня еще было время, в подвал я собирался прибыть к половине двенадцатого, ограничив возлияния двумя уже выпитыми рюмками.
Мы превратили тесное пространство кухни в нечто похлеще пресловутого лондонского смога и прибежавшая Лариса начала разгонять газетой этот смог, а потом, бросив ее на заставленный посудой столик, устремилась в комнату с кличем: «Юрка, я тебе клевейший сюжет подскажу для картины, у ваших умников глаза на лоб полезут!..» Я потянулся к пепельнице, взглянул на газету – и увидел фотографию Кости. Газета была сегодняшней. Наклонившись к столу, я прочитал несколько строк под заголовком «Найти человека». «23 ноября с.г. учащийся Степоградской средней школы N5 Константин Рябчун не вернулся домой. Вечером того же дня его видели в районе улицы Героев Сталинграда. На нем – серая куртка, коричневый свитер, темно-синие джинсы, обут в коричневые ботинки. На голове бело-голубая спортивная шапочка. Рост – 177 сантиметров. Родители обращаются ко всем, кто видел их сына (или, возможно, что-то знает о нем) сообщить по адресу…»
– О господи, Машкин сын! – воскликнула, оттирая меня от стола, Ира Жантария. – Леша, это же твой сосед.
– Сосед, – подтвердил я, разглядывая чуть напряженное перед фотообъективом Костино лицо. – А ты знаешь Марину?
Все было типично для нашего полупровинциального города, где многие знали многих лично или слышали друг о друге от знакомых, знакомых своих знакомых, знакомых знакомых своих знакомых и так далее. Ира начала объяснять, откуда она знает Марину Рябчун, Залужная совершила очередной челночный проход и сразу включилась в разговор. Последовали воспоминания об аналогичных случаях исчезновений, как-то незаметно мы перешли на обобщения, свернули на все тот же хрестоматийный Бермудский треугольник, а присоединившийся к нам Юра Ботнарь поведал о похищениях людей с целью продажи почек, легких и желчных пузырей в зарубежные клиники. Залужная просто не могла остаться в долгу и тут же напомнила нам о предрекаемом на исходе второго тысячелетия конца света. Обрисовав эту эсхатологическую концепцию, она убежденно сказала, обводя нас округлившимися глазами:
– Ну неужели вы не понимаете, елки-палки? Забирают лучших, элиту, потому что здесь мы уже обречены. Экология ведь, елки-палки, вот-вот ведь катастрофа!
– Кто забирает? – испуганно спросила Каледина.
Залужная фыркнула, выхватила у меня недокуренную сигарету.
– Кто-кто… Ясно кто – эти, которые за нами наблюдают.
– А может быть, они уходят в параллельный мир, – часто-часто моргая сказала Каледина. Ее вздернутый носик слегка порозовел от вина.
– Возможно, дело тут не в этом, – задумчиво протянул Волков, поглаживая Ларисину кошку. – Не в похищениях. Просто природа, агонизируя, отторгает здоровые клетки. Все наоборот, понимаете? Умирающий организм биосферы отторгает то, что еще может существовать. Отторгает – и прячет в какой-нибудь Антарктиде. А скорее всего, они сами уходят, потому что понимают, чувствуют: финал не за горами, цивилизация обречена. Озоновые дыры растут, пустыни наступают, в океане сплошная нефть и так далее – набор фактов общеизвестен. Между прочим, потому и НЛО зачастили, это ведь космические шакалы, стервятники, это же обыкновенное воронье, они же нутром чуют, что близится пир. Чем не гипотеза? И, заметьте, ничуть не хуже других.
На некоторое время в прокуренной донельзя кухне повисла тишина и слышно было, как в комнате Карбаш бубнит и бубнит Оле Васильевой о тяготах бытия человеческого вообще и его, Сережи Карбаша, в частности. Я выжидающе посмотрел на Залужную. Она не могла оставить без внимания этот выпад Волкова. И она не оставила. Она бросила окурок в раковину и протянула руки к Волкову, как панночка к несчастному Хоме Бруту, и кошка сочла за благо убраться под стол.
– А ведь кто-то, помнится, не так давно учил школьников победоносному марксизму-ленинизму – знамени нашей эпохи и ни о каких таких предстоящих трагических финалах даже не заикался. Это у них там хищнически относились к природе, а у нас просто имели место отдельные случаи бесхозяйственности, а вообще партия была лучшим другом и защитником животных, лесов, земных недр и атмосферы. Не так ли, душа моя?
– Учил тому, чему меня учили. Все течет, – по-гераклитовски отозвался Волков. – Брэк, Лора! Давай лучше к столу, Ольгу будем выручать из паутины Карбаша.
– А мне пора, – заторопилась Ира Жантария. – Олеська полную хату навела, надо разгонять.
– Подождите, подождите. – Лариса с грохотом распахнула окно. – Волчок здесь гипотезу измыслил не хуже других, и я тоже хочу не хуже.
– Давай, Лорхен, – миролюбиво и несколько покровительственно отозвался Юра Ботнарь, подмигивая задумавшейся Калединой. – Измысли в духе твоего дорогого Шопенгауэра.
– А я без Шопенгауэра, Ботя. Вам не кажется, господа хорошие, – Лариса обвела нас глазами, – что это набирается рать дьявола? Сатаны, Вельзевула, Люцифера, Падшего Ангела, Воланда, как хотите…
– Ну-у, занеслась в потусторонние сферы, – разочарованно сказала Каледина.
– Это дело надо обмыть, – сказал столичный художник Юра Ботнарь.
Однако Лариса не сдавалась.
– Ладно, отменим мобилизацию в войско сатаны. Леха, ну что ты молчишь, фантаст ты долбаный? Почему не скажешь о ВРММ? И нечего на часы глазеть, еще не вечер!
– А что такое ВРММ? – спросил я.
Честно говоря, поначалу от всех этих гипотез мне стало чуть-чуть не по себе. Что если в них, подумал я, есть хоть какая-то доля правды, и подростки исчезают из дома не просто так, не потому что не сошлись характером с родителями, и не потому что их повлекла муза странствий? Однако я тут же осадил себя и решил, что все мы, испив немного веселящих напитков, просто дурью маемся на этой кухне – речь-то шла об исчезновении конкретного человека, конкретного Кости Рябчуна, хорошего паренька, моего соседа, а мы кинулись во вселенские обобщения и такого тут понавертели…
– Не знаешь, что такое ВРММ? – поразилась Лариса. – Вот такие у нас сейчас пошли горе-фантасты – ничего не знают о Вселенской Разумной Мыслящей Материи.
– Лора, ну тебя в баню с этой материей! – возмутился Юра Ботнарь. – Пошли к столу. Знаем мы о твоей материи.
– А вот и не знаете. Не уважаете Порфирия Иванова, а ведь его система подключает человека к ВРММ. Человек становится частью Вселенной, он же невидимым становится для окружающих, елки-палки! Понимаете?
– Знаю одно, – сказал я. – Система Иванова сейчас очень кстати, недаром о ней и заговорили на всех углах и перекрестках. Все та же пропаганда. Он ведь призывал чуть ли не голыми ходить круглый год и питаться одной травой, а к этому нас сейчас и готовят.
– Фанта-аст, – презрительно протянула Лариса.