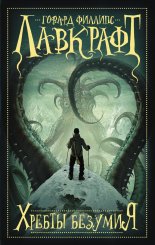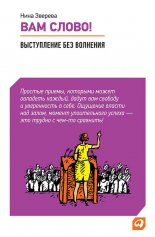От империй – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации Кагарлицкий Борис
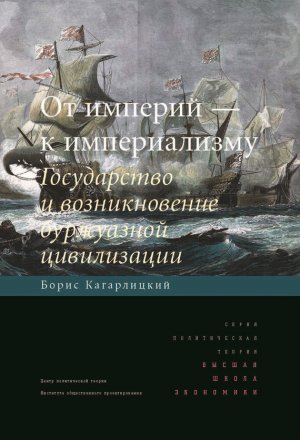
Макс Вебер был безусловно прав, указывая на связь протестантской идеологии и капитализма, но решающую роль в торжестве нового экономического порядка сыграла не сама Реформация, а поддержка ее государством. Капитализм побеждал не там, где появлялись протестанты, а там, где государство превращало протестантизм в свою официальную идеологию, служащую делу экономических и политических преобразований. Самые радикальные перемены наступали тогда, когда новый политический порядок соединялся с новым господствующим мировоззрением. Идеологи Реформации были зачастую склонны к мистике и суевериям, но организованная ими религиозная практика заложила основы будущего европейского Просвещения. Важнейшим достижением протестантизма было массовое распространение грамотности. Принципиальным аспектом Реформации был перевод Библии на национальные языки. Если главная книга христиан была доступна лишь священникам и знатокам латыни, то отныне она должна была находиться в каждой семье. Это способствовало распространению привычки к чтению, сыграло важную роль в становлении новой европейской культуры, а также помогло преодолеть дробление языков на многочисленные диалекты. Перевод и самостоятельное изучение верующими Библии ускорили процесс формирования национальных языков и, как следствие этого, консолидировали национальные государства. Английский географ Ричард Пит (Richard Peet) отмечает: «Чтение Библии требовало грамотности, а обсуждение священных текстов предполагало самостоятельное мышление, к тому же логическое и, насколько позволяла религия, рациональное. Два региона мира с самым высоким уровнем грамотности — Нижняя Шотландия и Массачусетс — имели и самый большой процент кальвинистов среди населения. В свою очередь, кальвинистская традиция предполагала, что избранность Богом демонстрируется не только через экономический успех, но и через филантропию. Проявлением этого стала поддержка образовательных и интеллектуальных институтов. Новая Англия в этом плане типична: нет ни одного города без библиотеки, обычно названной по имени местного капиталиста, пожертвовавшего на нее деньги, поразительная концентрация университетов, занимающих в мире лидирующие позиции (только в округе Бостона их семь). В старой доброй Англии, как и в Новой Англии мы видим, как стремление к прибыли и интеллектуальным достижениям соединяется. Прибыли финансировали образование, образование способствовало инновациям, а инновации приносили прибыль»[390].
Некоторые малые народы Европы, не имевшие своего государства, смогли сохранить культурную идентичность не в последнюю очередь благодаря протестантской политике распространения грамотности на родном языке. Русские «западники», неприязненно относящиеся к православию, склонны считать, будто эстонцы, финны и латыши должны быть благодарны крестоносцам, насадившим в Балтийских землях католическую веру. «Если посмотреть на ставшие ареной миссионерской деятельности католиков Финляндию, Латвию и Эстонию, то вряд ли кто осмелится утверждать, что культура и самобытность этих народов, их историческая судьба пострадали из-за того, что на их землях проповедовали слово Божие не православные, а католики»[391]. Сами эстонские и латвийские историки описывают деятельность немецких вооруженных «проповедников» не столь восторженно. Между тем секрет национального выживания эстонцев и финнов не имеет ничего общего ни с католицизмом, ни с православием. Сохранились те народы, которым повезло дожить до XVI века и оказаться под властью шведской короны в решающий период XVI–XVII веков — во время Реформации. Они, в соответствии со шведским государственным толкованием церковной реформы, получили перевод Библии и богослужение на родном языке и в силу этого сохранили национально-культурную самобытность.
Однако, как мы видим, потребности церковной реформы шли рука об руку с потребностями меняющегося государства. Бюрократия и армия нуждались в едином культурном стандарте, чтобы действовать эффективно. Единство языка необходимо для того, чтобы документ, присланный из столицы, был без проблем понят в любой провинции. А в армии без четкого понимания и выполнения команд всей солдатской массой была бы невозможна новая строевая дисциплина. Стандартизация языка позволяла теперь военному начальству перемешивать контингенты, соединяя в одном строю мужчин из разных концов страны (ранее боевые единицы формировались из земляков). Впрочем, политические и организационные преимущества подобного подхода окончательно стали ясны много позже. Зато стандартизация языка, проводившаяся правительствами, ускоряла формирование единого внутреннего рынка, находясь в тесной связи с другими усилиями по интеграции общества — переходу к единой системе мер и весов, налогов, единой денежной системе.
Эти новации, проводившиеся в жизнь протестантскими режимами, имели, однако, общеевропейское значение. Из католических стран наиболее последовательно и активно сходную политику осуществляла Франция, отчасти благодаря тому, что после религиозных войн у власти в стране оказался бывший протестант Генрих IV.
Экономическое положение королевства в начале XVII века начало стремительно улучшаться. Благодаря энергичным усилиям правительства Генриха IV и его министра финансов Сюлли (Sully) Франция, находившаяся в разрухе после религиозных войн, начала быстро восстанавливаться. «В течение двенадцати лет, — пишет французский историк Фредерик Ансильон (Fredric Ancillon), — все отрасли национальной экономики восстановились, крупнейшие города Франции ожили, быстро достигнув процветания»[392]. Сюлли уделял особое внимание сельскому хозяйству, отменяя и сокращая некоторые налоги, поощряя экспорт зерна. «Всегда либеральный, когда в этом была необходимость, он не жалел средств на общественные нужды. Париж украсился новыми основательными и красивыми зданиями, был построен Новый мост (Pont-Neuf), улица Дофина, реконструирована набережная Сены — все эти сооружения были возведены по приказу Сюлли, который наряду с другими должностями занимал пост сюринтенданта по строительству (surintendant des btiments)»[393].
Нантский эдикт, принятый Генрихом IV 13 апреля 1598 года, не только гарантировал прекращение вооруженного конфликта между протестантами и католиками, но и позволял государству интегрировать в свою структуру представителей протестантской партии вместе с их идеями, опытом, подходами к административной и политической работе. Французский компромисс между католицизмом и Реформацией дополнялся политической реформой самой католической церкви, которая стала «национальной». Успех этих мер оказался столь велик, а распространение новых идей столь быстрым и успешным, что королевская власть вскоре перестала нуждаться в гугенотах. Уже при Ришелье (Richelieu) их претензии на получение особых прав начали восприниматься как препятствие для достижения национального единства. Укрепляя государственную централизацию, кардинал Ришелье стремился ослабить влияние гугенотов, являвшихся «врагами государства». По его словам, даже Генрих IV, вышедший из рядов гугенотов, став королем, принял католицизм «неискренне, лишь для того, чтобы заполучить корону», однако, сев на трон в Париже, «сознательно возненавидел веру гугенотов и их партию, но уже исходя из государственных интересов»[394].
Итогом политики централизации, проводимой Генрихом IV и его преемниками, оказалась отмена в 1685 году Нантского эдикта, после чего французские гугеноты, отказавшиеся сменить веру, расселились по всей Европе от Англии до России, становясь, несмотря на разрыв с родным государством, проводниками французского культурного влияния и традиций. После отмены Нантского эдикта многочисленные гугеноты переселились в Пруссию, принеся с собой технологии и знания, сыгравшие важную роль в развитии немецкой науки и промышленности, и способствуя формированию государственного аппарата. Французские эмигранты массово переселялись также в голландские владения, включая Африку, где в Капской колонии именно благодаря их присутствию стало возможным формирование своеобразной нации белых африканцев. Впрочем, многие гугеноты, делая выбор между карьерой и верой, отдавали предпочтение карьере. Достаточно вспомнить маршала Тюренна (Turenne).
Французская модель административной централизации и бюрократического порядка, утратив связь с религиозным мировоззрением, распространилась по всей Европе, в свою очередь вызывая подражание как в протестантских, так и католических странах, а со времен Петра Великого и в православной России. Интерес к французской бюрократии проявляли даже в Оттоманской Турции, не добившись, впрочем, больших успехов на практике.
Ключевым идеологическим вопросом для формирования буржуазного порядка было не преодоление католицизма как такового, а выработка новой системы координат, позволяющей использовать религиозную традицию для новых общественных задач, в первую очередь, для накопления апитала. Протестантизм был наиболее подходящим решением, ибо поставил религиозную веру на службу новому рационализму, обеспечил моральные основания для буржуазного экономического порядка. Однако, как отмечает Самир Амин, это отнюдь не значит, будто католицизм оказался несовместим с духом капитализма. В ходе потрясений XVI–XVII веков католицизм приспособился к изменившейся экономической реальности. Компромисс между религиозным и рациональным подходом к жизни, в католическом мире «выразился иначе, но был не менее эффективным. В обоих случаях он дал начало новому, свободному от догмы, религиозному духу»[395].
Канадский исследователь Джон Луглен (John Loughlin) отмечает, что Реформация способствовала возникновению национального государства тем, что «разрушила единство католической церкви и заложила основы национальных церквей»[396]. Парадоксальным образом это относится не только к странам, где победил протестантизм, но и к государствам, где восторжествовала Контрреформация. Связь между Церковью и государством, зависимость религиозного режима от политического усилилась повсюду, а правительство получило в свои руки мощное идеологическое оружие, которое в католических странах порой использовалось аппаратом власти даже активнее, нежели в протестантских.
В 1555 году Аугсбургский религиозный мир провозгласил принцип «cuius regio, eius religio», или, по-русски: «чья земля, того и вера». Этот принцип не только подводил своего рода предварительный итог периоду Реформации, закрепляя ее победу там, где сторонники новой веры сумели захватить государственную власть, но и закладывал основы будущего национального (суверенного) государства. Духовный авторитет Рима оказывался ниже государственного суверенитета, переставая быть поводом для вмешательства в то, что отныне признавалось в качестве «внутренних дел» иностранных государств. Само понятие «внутренние дела» обретало определенность, четко увязываясь с понятием о суверенитете и представлением о единой обязательной именно для этого государства идеологии, которая могла быть более или менее толерантной, но не становилась от этого менее обязательной. Вместе с правом определять религиозную принадлежность подданных германские князья получали гарантии от вмешательства Императора. Та система, которую позднее историки окрестили «Вестфальской», на самом деле должна была бы называться «Аугсбургской» и к моменту подписания Вестфальского мира существовала в качестве общепризнанной нормы в течение почти века. Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну, не создал какую-то новую систему, а лишь закрепил провал попытки пересмотра уже действовавших международных норм, которую предприняли Габсбурги в ходе Контрреформации. Другое дело, что эта попытка была далеко не случайной и шансы на успех ей давали общие перемены, наблюдавшиеся на тот момент в мировой экономике.
Чарльз Тилли отмечает, что и в католических, и в протестантских странах происходил однотипный процесс формирования национальной церкви, связанный со становлением новой государственной бюрократии[397]. Торжество Контрреформации означало не отказ от капитализма, а другую модель его развития. Этот вариант формирования буржуазного общества оказался во многом менее эффективным, но, как показала дальнейшая история, отнюдь не тупиковым.
Во второй половине XVI века католическая церковь, оправившись от шока, вызванного первыми успехами Реформации, перешла в контрнаступление. Духовная и структурная перестройка Церкви должна была придать ей новый динамизм. Идеология католицизма становилась наступательной, агрессивной, в ней возрождался пафос духовного служения. Обе ветви династии Габсбургов — испанская и австрийская — мобилизовали свои ресурсы для поддержки Контрреформации, связав борьбу за сохранение веры с пропагандой уважения традиционных ценностей и институтов, одним из которых являлась имперская власть, монархия, сочетающая политическую мощь и духовный авторитет. На уровне культуры эта идеология выразилась в пышном стиле барокко, который быстро получил распространение по всему континенту.
Насаждение католицизма и искоренение «ереси» стало важнейшей идеологической задачей Габсбургов, непосредственно связанной с их борьбой за консолидацию подвластных династии территорий. И все же, как отмечают историки, на протяжении XVI века им «не удавалось осуществить принцип Аугсбургского мира 1555 года»[398]. Земля принадлежала Габсбургам, но души их подданных упорно сопротивлялись насаждению католической веры. Венские императоры оставались католическими правителями, обреченными терпеть преобладание или, во всяком случае, широкое распространение протестантизма среди своих подданных. Правители Вены не могли на первых порах прибегнуть к жестким репрессиям. Постоянная угроза турецкого вторжения, особенно в Венгрии, заставляла их быть веротерпимыми, полагаясь на поддержку всех христиан против «магометанского наступления». Если несмотря на это Габсбурги сумели не только удержать своих подданных в лоне католицизма, но и вернуть римской церкви господствующие позиции, то связано это далеко не только с государственными репрессиями, которые, например, в Голландии оказались совершенно неэффективными. Бюргеры города Вены, на первых порах дружно поддержавшие Реформацию, к середине XVII века столь же дружно вернулись в лоно римской церкви, когда стало ясно, что католическая монархия Габсбургов обеспечивает их заказами, рынками и защищает их интересы ничуть не хуже, чем протестантские короли по отношению к своим бюргерам. Точно так же восстановление позиций католичества в Чехии после разгрома протестантской армии в битве у Белой Горы не может быть объяснено только военными событиями. В ходе нидерландской революции протестанты нередко терпели крупные военные поражения, но это отнюдь не означало краха всего их дела. Как известно, именно защита чешских протестантов против католической Австрии была важнейшей идеологической причиной Тридцатилетней войны. Однако когда спустя четверть века после Белогорской битвы победоносные шведские войска вступили в Прагу, местное население встречало их далеко не как освободителей — Карлов мост был заблокирован городским ополчением, и шведы, несмотря на отсутствие имперских войск, были остановлены. Значительную часть пражского ополчения вообще составляли евреи, для которых не слишком важны были распри протестантов с католиками, но и не было религиозных причин сочувствовать Контрреформации.
Торжество католицизма в других владениях австрийских Габсбургов было отнюдь не предпосылкой, а, наоборот, следствием битвы у Белой Горы. Как отмечает австрийский историк, «чешский пример стал образцом для действий и в прочих габсбургских землях»[399]. Хотя первые шаги в этом направлении были предприняты еще в конце XVI века (приглашение в Вену иезуитов, преследование протестантских пасторов и т. д.), решающего успеха удалось достичь лишь в ходе Тридцатилетней войны. Таким образом, идеологическая консолидация власти шла рука об руку с военно-политической.
Успех Контрреформации в Южной и Юго-Восточной Европе был обеспечен экономической политикой государства, которая соответствовала интересам городской буржуазии ничуть не меньше, чем курс, проводившийся правителями Севера. Другое дело, что деловые интересы и условия деятельности предпринимательского класса здесь были иными, чем в Англии или Голландии. По мере того как кризис XVII века выявлял проблемы и противоречия, связанные с господствовавшим прежде режимом свободной торговли, возрастала и потребность буржуазии в сильном государстве. В такой ситуации лояльность по отношению к действующей власти оказывалась сильнее религиозных предпочтений, а желания раскачивать государственную лодку во имя торжества истинной веры у подданных явно поубавилось.
После отмены Нантского эдикта значительное число французских протестантов-гугенотов переселилось в Англию и Голландию. Среди них были не только ремесленники и торговцы, но и моряки, активно служившие новой родине. Однако и французская армия, а также и флот пополнялись за счет эмигрантов-католиков, бежавших из Англии и Ирландии. Некоторое количество этих эмигрантов осело на испанской, русской и даже турецкой службе, вызывая в Лондоне постоянные параноидальные опасения, что «якобиты», сторонники низвергнутого Якова II, на новом месте продолжают плести заговоры, настраивая своих новых хозяев против родной страны. Именно эти католические эмигранты из стран Северной Европы зачастую оказывались в числе наиболее энергичных, деловых и эффективных сотрудников военного и политического аппарата Испании и Франции.
Католицизм был нужен для консолидации мировой империи, в строительстве которой не последнюю роль играла итальянская торговая буржуазия. Империя испанских Габсбургов предложила находившимся в сфере их влияния итальянским городам условия деятельности и правила игры, которые в долгосрочной перспективе привели их к упадку, но в краткосрочной перспективе способствовали формированию крупных состояний и процветанию многих банков и фирм. Бюргеры города Вены отказались от своей веры ради участия в делах империи, тогда как бюргеры Амстердама порвали с империей во имя протестантской религии. Вряд ли это различие объясняется тем, что вера у вторых была крепче, чем у первых. Скорее, выбор определялся реальными возможностями, открывавшимися перед буржуазией в тот или иной момент истории. Торговая независимость голландским купцам не только давала больше, нежели участие в имперской системе Габсбургов, но и открывала перспективу создания собственной торговой империи. В Южной Германии подобной перспективы не было, но это отнюдь не означает, будто буржуазного развития там не происходило. Лояльность по отношению к Габсбургам давала формирующемуся буржуазному классу шанс на экспансию в южном направлении и на эксплуатацию аграрной периферии в Венгрии и на Балканах. Разница в том, что перед голландскими купцами открывался весь мир со своими богатствами и разнообразием возможностей, а перед их австрийскими братьями по классу — лишь сельское пространство провинциальной Юго-Восточной Европы. «Новая периферия» Голландии была за морями, тогда как Австрия нашла ее у себя под боком, в низовьях Дуная.
АБСОЛЮТИЗМ
Государство, выросшее из кризисов и войн позднего Средневековья, разительно отличалось от политических систем феодальной эпохи. Возникнув в качестве ответа на кризис XIV века, оно пережило новый крупный кризис в XVII столетии, после которого политические институты большинства европейских стран сохраняли относительную стабильность вплоть до Великой французской революции.
Эта система, получившая задним числом во Франции прозвище Старого режима (Ancien Rgime), вошла в историю под обобщающим именем абсолютизма. Централизованное монархическое государство, возникшее в Европе конца XVI века, разительно отличалось от феодальных королевств прошлого с их запутанной системой вассальных обязательств, неформальных связей и неустойчивых династических компромиссов. Государство перестало восприниматься как просто большая феодальная вотчина, принадлежащая определенной семье по праву наследования, обретая черты современной нации, местные различия, специфические права, обязательства и вольности, закрепленные за отдельными провинциями и даже семьями, сменились единым законодательством, выполнение которого контролировалось централизованной бюрократией, его безопасность защищена была такой же единой и централизованной армией, полицейской службой, к которой понемногу добавились и органы политического сыска. Временные посольства, периодически отправляемые за рубеж для подписания договоров и для сбора информации, сменились систематически организованной дипломатической службой и разведкой.
«Сеньориальные привилегии земельных собственников и городов, — писал Маркс, — превратились в столь же многочисленные атрибуты государственной власти, феодальные сановники — в получающих жалованье чиновников, а пестрая, как набор образчиков, карта перекрещивающихся средневековых суверенных прав — в точно установленный план государственной власти, где господствует такое же разделение труда и такая же централизация, как на фабрике»[400]. Заметим, что Маркс, описывая формирование бюрократической машины, интуитивно подчеркивает родство ее организации с логикой фабрики, тема впоследствии развитая и в произведениях Макса Вебера. Бюрократия не только росла и укреплялась, приобретая рациональную организацию, но и становилась важным условием для будущего развития промышленности, условием, которое зачастую не могла стихийно создать сама буржуазия в рамках своей хаотической рыночной деятельности.
Процесс этот происходил не равномерно и далеко не в каждой стране достигал успеха. Если в Испании несколько государств и регионов стремительно соединились в единую мощную державу, то в Италии и Германии в описываемую эпоху произошел обратный процесс — вместо единой монархии, сформировались региональные государства, причем некоторые из них способны были играть немалую роль в европейской политике. Формирование национального государства оказалось отсрочено до середины XIX века.
Попытку создания общегерманского государства предприняли в начале XVI века имперские рыцари в Германии, возглавленные Францем фон Зиккенгеном (Franz von Sickengen) и Ульрихом фон Гуттеном (Ulrich von Hutten). Однако призыв к объединению Германии сочетался с борьбой за признание сословных прав в ситуации явного отсутствия центральной власти. Империя была уже не государством, а региональные княжества — еще не государством. В других странах Европы к тому времени рыцарство как сословие уже исчезало. В Германии тех лет сохраняющееся значение рыцарства было связано именно со слабостью государственных институтов. «Война рыцарей», развернувшаяся в 1522–1523 годах закончилась полным поражением.
В Италии еще в Средние века возникло «катастрофическое равновесие», вызванное борьбой Римских Пап и Германских императоров и позволившее ведущим городам сохранить и консолидировать свою независимость. Но именно сила этих городов-государств стала препятствием для формирования не только единого политического пространства, но и единого рынка. Для торговой буржуазии Генуи или Венеции рынки далеких заморских стран были важнее, чем экономика близлежащих местностей. Банкиры Ломбардии и Тосканы работали с монархами всей Европы, миланские оружейники снабжали доспехами знать Вены и Парижа. Короче говоря, внешний мир для элит итальянских городов значил больше, чем сама Италия. Отстаивая свою независимость, города-государства выступали силой, активно препятствовавшей объединению страны (что мы наблюдаем не только в Италии, но и в Германии).
Сосредоточенность итальянских элит на внешнеэкономической деятельности обернулась политическим вакуумом в самой Италии. После затяжной борьбы с Францией, этот вакуум был заполнен испанской монархией Габсбургов. Постоянно нуждаясь в деньгах, Габсбурги использовали покоренную страну как источник средств, что вело ее к хозяйственному упадку. Страну, но не ее финансовые элиты, превосходно чувствовавшие себя в составе мировой империи Карла V и его наследников. Верхи были удовлетворены сложившимся положением дел, а низы были бессильны что-либо изменить, поскольку социальные движения в Италии потерпели поражение в XIV–XV веках, так и не сумев изменить общий баланс сил и спровоцировать — как это было в Англии и Франции — пассивные революции.
Однако формирование абсолютной монархии в Европе вовсе не ограничилось крупнейшими государствами, постепенно превращавшимися в нации. Ту же модель управления и организации начали принимать и региональные княжества, укрепившие свою независимость после провала попыток объединения Германии и Италии. Саксония, Пруссия, Бавария, Пьемонт — все они так или иначе создавали собственные варианты абсолютной монархии, несмотря на ограниченность средств, территории и населения.
По всей Европе, от Португалии до России, происходили перемены, меняющие природу и форму существования государства. Бюрокатическая система опиралась на все более унифицированную систему образования, местные диалекты сменялись господством единого литературного языка, над упорядочением которого порой сознательно работали. Единый язык был тесно связан с потребностями бюрократии и армии — декрет, написанный в Париже или Мадриде, должен был одинаково пониматься в любом конце государства. Точно так же рекруты из любой части королевства должны были мгновенно понимать и неукоснительно выполнять команды офицеров. Воинские формирования, составленные из земляков, сменялись регулярными частями, где происходило перемешивание молодых людей из разных частей страны, а порой и с разных концов Европы, — солдатская масса превращалась в обезличенный материал для четко работающей военной машины. Монополия государства на насилие и вооруженную силу была окончательно воплощена в жизнь к концу XVII века.
Превращение военного дела в монополию центрального правительства опирается на стремительный рост государственных доходов. Огромные расходы на вооружение становятся возможны благодаря потоку драгоценных металлов из Америки и связанной с ним бурной хозяйственной экспансией в Европе. Наиболее показательна в этом отношении Испания. Доходы Кастильского королевства к моменту смерти королевы Изабеллы в 1504 году составляли 2 миллиона дукатов, а в 1598 году Кастилия получила в свой бюджет 13 миллионов.[401] Разумеется, на доходах государства сказалась революция цен и приток средств из Америки. Покупательная способность денег снизилась. Тем не менее правительствам удавалось концентрировать в своих руках возрастающие финансовые ресурсы.
Но даже подобных поступающих в изобилии ресурсов не хватает, чтобы финансировать еще более стремительно растущие военные расходы. И все же, несмотря на недостаточность государственных доходов, они увеличились настолько, что позволили правительствам занимать деньги в значительно больших масштабах, чем прежде. Чарльз Тилли подчеркивает, что через военные займы осуществлялась связь капитала и государства[402]. Даже там, где государство оказывалось ненадежным и неплатежеспособным должником (а это происходило периодически), сама по себе его постоянная потребность в кредите способствовала экспансии банковского сектора, а потребность в средствах, выколачиваемых из сельского населения для оплаты долгов, ускоряла развитие денежной экономики.
С увеличением численности армии резко меняется ее структура и тактика. «Растущая эффективность пехоты, — отмечает Ричард Бонни (Bonney), — привела к преобладанию оборонительной стратегии»[403].
Изменился социальный состав войск и принцип их комплектования. Монархические правительства заменили местные феодальные ополчения наемными армиями, которые были лояльны и готовы при необходимости воевать далеко от дома, если только им добросовестно выплачивалось жалованье. Проблема, однако, состояла в том, где получить военных профессионалов, которые могли бы заменить прежнее рыцарство. «Крестьяне и безработные, — пишет английский историк, — охотно становились солдатами, поскольку единственной альтернативой нередко была голодная смерть, но из них трудно было сформировать боеспособные элитные подразделения»[404]. В поисках профессионалов для элитных войск многие правительства вынуждены были обращаться к иностранцам — именно из них формировались ударные подразделения во Франции, Польше, России. Небольшие немецкие государства, Шотландия и Швейцария стали поставщиками кадров для армий более крупных держав. Отсюда прибывали как военные специалисты, так и рядовые наемники. Формировался своеобразный общеевропейский рынок. Офицеры, а часто и солдаты в течение своей военной карьеры неоднократно меняли не только место службы, но и страну, под знаменами которой они воевали. Пленных наемников считали ценным призом, их немедленно принимали на новую службу.
Швейцарцы играли особую роль на этом рынке. С XV века за ними закрепилась слава бесстрашных и дисциплинированных воинов. Нанимаясь на службу к иностранным монархам, они не только предлагали свои услуги в качестве опытных бойцов. Они являлись носителями определенных тактических принципов. Их военная организация была основана отнюдь не на огнестрельном оружии. Основой швейцарской тактики было использование пик и алебард пехотинцами, действующими сомкнутым строем и четко выполняющими приказы о перестроении. Именно это средневековое по технологии вооружение изменило ситуацию на полях сражений XVI века в Италии еще до того, как при Павии были продемонстрированы преимущества нового оружия — аркебузы. Однако очень скоро швейцарцы научились эффективно использовать огнестрельное оружие и артиллерию.
Как заметил Маркс, эти свои навыки жители Альп со свойственным им практицизмом быстро превратили в товар, который можно было выгодно продать на внешнем рынке. «Единственную социальную идею, за которую швейцарцы действительно боролись первыми, можно выразить словами: „Point d'argent, point de Suisses“ („Нет крейцеров, не будет и швейцарцев“)»[405].
Бывали случаи, когда швейцарские полки оказывались на службе во враждующих армиях и им приходилось сражаться друг против друга, однако никто из работодателей никогда не жаловался на недобросовестное выполнение контрактов.
До известной степени со швейцарцами на рынке военного наемничества могли конкурировать шотландцы. Многочисленные представители мелкого обедневшего дворянства, выросшие в стране, переживающей непрерывные внутренние конфликты и пограничные столкновения с соседней Англией, они легко находили себе место в иностранных армиях. Между швейцарцами и шотландцами даже существовало своеобразное разделение рынков. Первые нанимались на службу в Испании, Франции и итальянских государствах, а позднее — в Австрии[406], вторые более активно искали счастья в Восточной и Северной Европе. Шотландские наемники составляли значительную часть шведской армии на позднем этапе Тридцатилетней войны, а в голландской армии одна шотландская бригада имелась даже в начале XIX века[407].
Однако элитные подразделения, состоящие из иностранцев, стоили дорого. Решением было формирование собственных полков, воспроизводящих выучку и тактику иностранных наемников. По швейцарскому образцу в XVI веке была реорганизована пехота в Испании, а затем и в других странах. Таким же образом поступали и в Московии XVII века, где под командой немцев и шотландцев были организованы полки «иностранного строя».
Военные теоретики XVI века оживленно обсуждали вопрос о роли и месте иностранных наемников в армии. Некоторые из них, например Клод де Сессель (Claude de Seyssel), откровенно писали, что «некоторое количество наемников необходимо для того, чтобы не было на службе слишком большого количества местных жителей, способных к восстанию»[408]. Другие, напротив, приводили венецианскую и тосканскую милицию в качестве доказательства того, что при хорошем правлении пехота сохраняет дисциплину и лояльность по отношению к власти. В любом случае, монархические администрации большинства европейских государств достаточно трезво оценивали уровень своей популярности и не склонны были к подобным рискованным экспериментам.
В известном смысле наемные армии XVI–XVII веков были шагом назад по сравнению с военными формированиями конца XV века: с одной стороны, государства шли по пути создания регулярных армий, которые приходили на смену феодальным ополчениям, но с другой стороны, королевская власть предпочитала собирать дорогие контингенты наемников, а не ставить под ружье крестьян — наглядное доказательство того, что социальные противоречия ощущались властью достаточно остро. По мере того как усиливалась связь вооруженных сил с государством, увеличивалось их отчуждение от общества, точнее — от большинства населения. Там, где правительство готово было при формировании армии опереться на собственное сельское население, появлялась возможность создания некоего подобия национальной армии, что немедленно сказывалось и на поле боя: именно поэтому испанские войска в XVI веке были непобедимы на Западе, а, позднее, в XVII веке шведы стали грозой всей Северо-Восточной Европы. По образцу шведской военной системы были позднее построены русская и прусская армии, ставшие на континенте наиболее дееспособными военными силами XVIII века.
В Германии военное наемничество, расцветшее в ходе Тридцатилетней войны, не только не прекратилось с ее окончанием, но, напротив, превратилось (по образцу Швейцарии) в своеобразную отрасль экономики, разновидность коммерческих услуг, предоставляемых мелкими княжествами более могущественным государствам Европы. Наиболее ярким примером такой деятельности стал небольшой Гессен, где целых 7 % населения были к середине XVIII века под ружьем[409]. Основным покупателем гессенских солдат была Британия, которая, в частности, использовала их для войны против восставших колонистов во время Американской революции.
Поддержание воинской дисциплины оставалось важнейшей проблемой, которую с большим или меньшим успехом вынуждены были решать все военачальники. В Средние века грабежи считались естественной частью боевых действий. Они были формой экономической войны, играя ту же роль, что бомбардировки городов и промышленных объектов в XX веке. Нередко они специально организовывались и инспирировались высшим командованием, поручавшим своим отрядам «опустошить» вражескую территорию. Цель их состояла в подрыве хозяйственной базы неприятеля. Потому в разоренную землю ходили снова и снова, чтобы не дать ей оправиться. Сжигали посевы, нередко уводили ремесленников. Периодические походы к данникам должны были терроризировать зависимое население. Бюджета, чтобы содержать дружину у феодалов не было, грабеж неприятеля был вознаграждением за службу. Так что, опустошая чужие владения, феодальная дружина сочетала приятное с полезным.
Дорогая наемная армия раннего Нового времени грабила больше и более систематически, чем армии средневековые, поскольку она нуждалась в значительных средствах для своего существования. Если государство не имело денег, чтобы платить, оно могло поддерживать спокойствие в войске, поощряя мародерство на чужой территории. Однако это неминуемо сказывалось на моральном состоянии войск, боеспособность которых падала. К тому же, получив разрешение грабить на неприятельской территории, солдаты поступали точно так же и на дружественных землях. Наемные армии, сменившие феодальные ополчения на континенте к концу XVI века, представляли для мирного населения даже большую опасность, чем дружины прошлого. Если феодальное войско сознательно опустошало вражескую территорию, то ландскнехты, не имевшие отечества, не делали особой разницы между «своими» и чужими поселениями. Постой «дружественной» армии нередко превращался в такое же бедствие, как и вражеское нашествие.
Альбрехт Валленштейн (Albrecht Wallenstein, Valdtejn), победоносный командир имперских армий в начале Тридцатилетней войны, не только поощрял систематический грабеж мирного населения на занятых территориях, но и наладил своего рода охранный рэкет, позволяя городам и территориям за деньги откупаться от мародеров. Чарльз Тилли констатирует, что для имперского командующего война стала «прибыльным бизнесом»[410]. В 1625 году, когда император испытывал недостаток средств для продолжения войны, Валленштейн, обладавший 30-миллионным состоянием, предложил ему создать 50-тысячную армию за свой счет, разумеется, при условии, что он сам станет ее главнокомандующим. Имперская администрация обещала расплатиться позднее и разрешила Валленштейну брать на содержание войск контрибуции с неприятельских земель (которыми ранее распоряжалась корона). С этой армией имперский главнокомандующий разбил партизанские отряды Петра Эрнста фон Мансфельда (Peter Ernst von Mansfeld), разгромил Мекленбург, Померанию, Шлезвиг, Голштинию и при помощи другого имперского генерала графа Иоганна Тилли (Graf Tilly) нанес поражение датчанам, принудив их заключить мирный договор в 1629 году в Любеке. Походы Валленштейна, сопровождавшиеся разорением оккупированных территорий, нанесли катастрофический урон экономике Германии, но обогатили его самого настолько, что император стал опасаться могущественного генерала. Это предопределило последующее падение легендарного главнокомандующего. Воспользовавшись поражениями, понесенными армией Валленштейна в борьбе со шведами, имперская администрация обвинила его в измене и отстранила от руководства армией, вскоре после чего опальный генерал был убит в замке Эгер в Чехии.
Подобный подход к ведению военных действий, по мнению Чарльза Тилли, вполне нормален для полководцев того времени, которые «занимались не только битвами, но и снабжением»[411]. Однако организованное мародерство наемных армий свидетельствовало как раз о неспособности командования решить проблему снабжения сколько-нибудь удовлетворительным образом. На этом фоне резко выделялась лишь хорошо оплачиваемая и дисциплинированная голландская армия, которая, однако, не воевала в Европе за пределами своей территории (именно поэтому буржуа Амстердама и других торговых городов, не жалели денег на денежное довольствие для солдат). Для других театров военных действий ситуация изменилась лишь тогда, когда с северных берегов Балтики прибыли дисциплинированные и стойкие полки шведского короля Густава Адольфа. Эти солдаты поразили современников не только своей отвагой и хладнокровием, но и совершенно непривычным поведением: они не насиловали и не грабили.
Параллельно с новой военной организацией формировался и новый государственный аппарат. Бюрократия превратилась в самостоятельный социальный слой. Как отмечает Эдуард Перруа, во Франции уже к концу правления Карла VII чиновники представляли серьезную общественную силу. Укрепив французское государство за счет четко работающего правительственного аппарата, созданного в «Ланкастерской Франции», Валуа теперь не просто смогли управлять более эффективно, чем раньше, но и получили новую социальную опору: «Этих чиновников было достаточно, чтобы из них сформировался довольно индивидуализированный общественный класс, занимавший промежуточное положение между горожанами (буржуа — Б.К.), из которых они в большинстве выходят, и дворянством, куда они стремятся. Их сплоченность на всех уровнях укрепляли семейные союзы; в центре страны возникали настоящие парламентские династии, члены которых были связаны браками с „господами финансов“ (messieurs des finances); аналогичные союзы появились и на местах, и в нижних эшелонах»[412]. Преуспевшие буржуазные чиновники приобретали дворянское звание, но все равно оставались обособлены по отношению к старой аристократии и представителям военного сословия. Государство, охраняя привилегии старого дворянства, стремилось осложнить этот процесс, но все равно приобретение титулов выходцами из буржуазии приняло массовый характер. В одной Нормандии между 1550 и 1650 годами было возведено в дворянское звание более тысячи семей[413]. Так, рядом с «дворянством шпаги» (noblesse d'epe) появилось «дворянство мантии» (noblesse de robe), вполне буржуазное по своему происхождению, связям и образу жизни, но отнюдь не стремящееся к низвержению феодального порядка, не говоря уже об изменении государственного строя. Дворянство мантии постепенно превращалось в важнейшую опору правительства, оно не только держало в своих руках многие ключевые должности и учреждения, но и использовало их в своих интересах. Эта буржуазия изменяет общество, не борясь против феодализма, а приспосабливая его к собственным интересам и задачам. Динамический компромисс, управляемый монархией сверху, поддерживался разветвленной сетью социальных связей снизу.
Разумеется непреодолимой границы между дворянством шпаги и дврянством мантии не было, буржуа не только приобретали дворянское звание — их обедневшие потомки и младшие сыновья нередко искали счастья на военной службе[414]. И если противостояние дворянства и буржуазии на протяжении XVIII века постоянно усиливалось, то отнюдь не потому, что две группы были разделены непреодолимыми сословными перегородками. Дело в том, что на место сословных различий постепенно приходили классовые, а положение человека в обществе уже определялось не его происхождением или формальным статусом, а социальным положением. Буржуазию уже не устраивала вертикальная мобильность, открывавшаяся для ее представителей через покупку дворянских званий, она стремилась повысить свой статус именно в качестве буржуазии.
Такая ситуация, однако, сложилась лишь к концу существования Старого режима. На протяжении XVII и первой половины XVIII века отношения собственников капитала и монархии выглядели почти идиллическими. Иностранные наблюдатели отмечали, что французская буржуазия «предпочитала покупать правительственные должности, нежели вкладывать деньги в коммерческие или промышленные предприятия» (preferred to buy offices rather than to invest in commercial and industrial activities)[415].
Проводя политическую унификацию, абсолютная монархия решала важнейшую экономическую задачу для капитала, формируя и расширяя единый внутренний рынок. Перемещение товаров, организация поставок, необходимых для производства, связь производителей с потребителями, решение судебных споров — все это упрощалось чрезвычайно. Конечно, абсолютизм почти нигде не смог выполнить задачу бюрократической унификации полностью. Ему приходилось считаться с традициями феодальных вольностей, пережитками старых отношений, традиционными границами и статутами провинций, семейными привилегиями представителей аристократии и прочими обстоятельствами, доставшимися в наследство от Средневековья, с ограничениями, полностью избавиться от которых государство не могло, не поставив под вопрос собственную легитимность, династические права, восходившие к прошлому. Именно поэтому работа по бюрократическому упорядочению государства была завершена лишь Великой французской революцией и Наполеоном Бонапартом, да и то не во всех частях Европы.
Оценивая роль абсолютизма в истории Запада, Маркс и Энгельс подчеркивали огромное значение, которое эта политическая система имела для формирования капиталистической экономики и общества. По мнению автора «Капитала», бюрократическое государство, не отменяя феодализм как таковой, было уже не вполне феодальным, а представляло собой скорее компромисс между старыми и новыми господствующими классами.
Равновесие между земельным дворянством и буржуазией Энгельс называл «основным условием старой абсолютной монархии», причем подчеркивал, что благодаря этому равновесию реальная власть оказывается в руках бюрократии, «стоящей вне и, так сказать, над обществом», что «придает государству видимость самостоятельности по отношению к обществу»[416]. Именно такое автономное по отношению к буржуазии государство может оказаться (и не раз оказывалось) крайне эффективным инструментом капиталистической модернизации, поскольку могло навязать решения, соответствующие общим стратегическим интересам капитала, отдельным представителям буржуазии, которые могли от них пострадать в краткосрочной перспективе.
Маркс неоднократно указывал, что мощный бюрократический механизм абсолютистской монархии готовил торжество буржуазии и ускорял упадок феодализма[417]. Сходной точки зрения придерживался и Михаил Покровский, доказывавший, что вовсе не дворянство и аристократия, а интересы торгового капитала определяли характер решений, принимавшихся императорским двором в Санкт-Петербурге. Однако начиная с 1930-х годов в советской исторической литературе восторжествовала иная точка зрения, которая затем была без особой дискуссии принята западными марксистами. Перри Андерсон в книге «Происхождение абсолютистского государства» («Lineages of the Absolutist State») ссылается на «консенсус, существующий среди целого поколения марксистских историков, от Англии до России», которые отвергли точку зрения автора «Капитала», сочтя абсолютизм формой феодального господства[418]. Главной задачей абсолютистского государства было «увеличить эффективность аристократической власти в подчинении свободного крестьянства новым формам эксплуатации и зависимости»[419]. Сама по себе эта эксплуатация никакого отношения к формирующемуся капитализму и к процессу накопления капитала, по-видимому, не имела. А к формированию и укреплению капиталистических отношений государство было совершенно непричастно: «абсолютистское государство никогда не было арбитром между аристократией и буржуазией, и тем менее она была инструментом, который нарождающаяся буржуазия могла бы использовать против аристократии, напротив это была система, защищающая находящиеся под угрозой интересы знати»[420]. В общем, абсолютизм был «реорганизованным и укрепленным аппаратом феодального господства» (a redeployed and recharged apparatus of feudal domination)[421].
Существенная заслуга Перри Андерсона перед исторической наукой в Англии состоит в том, что именно он в 1960-е годы первым ввел целый ряд марксистских идей в обиход академического «мейнстрима», сделав их частью университетских дискуссий. Правда, он же с середины 1990-х годов предпринимал не менее систематические усилия по преодолению марксистского влияния на интеллектуальную жизнь Запада. Между тем, несмотря на закрепившуюся за ним репутацию «нового левого», Андерсон пропагандировал исторический материализм в окостенелой и догматической форме, которую тот приобрел после уничтожения «школы Покровского» и общей идеологической «зачистки», проведенной в Советском Союзе в 1932–1937 годах. Методологической основой такого марксизма был механистический позитивизм, работающий, однако, с марксистскими категориями.
Подобно официальным советским историкам второй половины 1930-х годов, Андерсон исходит из презумпции политической несовместимости феодализма и капитализма, полагая, что интересы аристократии и буржуазии неизменно противоположны. Таким образом, для государства остается лишь принципиальный выбор «или — или», власть, проводящая буржуазные реформы, по определению становится антифеодальной, и наоборот, государство, оберегающее интересы традиционных элит, оказывается заведомо враждебным интересам капитала. При таком подходе совершенно необъяснимыми становятся не только экономические и политические реформы в России, но и большая часть мероприятий «просвещенного абсолютизма» в Пруссии и Австрии. В лучшем случае подобные реформы оцениваются авторами как вынужденные уступки внешним обстоятельствам или давлению оппозиции. При этом упускается из виду, что во многих случаях реформы эти как раз навязывались обществу сверху, а правительству то и дело приходилось преодолевать массовое народное сопротивление реформам, нередко прибегая (по крайней мере, в России) к жесточайшему насилию. А промышленная и торговая политика абсолютистского государства удостаивается лишь поверхностного упоминания в связи с военными и дипломатическими усилиями правящих династий.
Поистине, требовались значительные интеллектуальные усилия, чтобы не заметить очевидной, на каждом шагу бросающейся в глаза связи между политикой государства и интересами капитала, тем более что на эту связь уже недвусмысленно и аргументированно указал Маркс.
Разумеется, государство, опираясь на компромисс между старыми и новыми господствующими классами, обладало определенной автономией — и именно поэтому было эффективно в проведении реформ. Однако ни буржуазия, ни старая земельная аристократия сами не оставались в процессе преобразований неизменными.
Если Англию и Голландию XVI–XVII веков можно считать примерами «демократического» восхождения буржуазии, то во Франции процесс принял совершенно иные формы, особенно после того как здесь укрепилась абсолютная монархия, справившись с испытаниями Фронды, задавив как аристократическое сопротивление, так и попытки демократических преобразований. Однако это отнюдь не означает, будто политическое влияние буржуа не укреплялось в Париже параллельно с тем, как увеличивался их политический вес в Лондоне. Просто здесь иные формы принимала сама политика.
На континенте абсолютистское государство представляло собой не только компромисс между феодальной аристократией, буржуазией и массами мелкопоместного дворянства, перед которым интеграция в военно-политический аппарат власти представляла гораздо большие возможности, нежели эксплуатация нищающего крестьянства в небольших по территории, а потому и коммерчески не слишком перспективных имениях. Оно оказалось идеальным инструментом для одновременного решения двух взаимосвязанных, но разнонаправленных задач — формирования наций и создания военно-торговых империй.
И то и другое соответствовало логике капитализма, было требованием времени.
ГОСУДАРСТВО И НАКОПЛЕНИЕ
Оценивая перемены, происходившие на протяжении XVI–XVII веков, Иммануил Валлерстайн делает вывод: «К 1650 году основные структуры исторического капитализма сформировались и консолидировались».[422] С этим категорически не соглашается Нил Дэвидсон, напоминающий, что буржуазные классы и соответствующие общественные отношения в тогдашней Европе были крайне слабы, даже Голландская Республика зарабатывала деньги, «обслуживая существующие феодальные режимы» (servicing the existing feudal regimes)[423]. Однако с таким же (на самом деле — с гораздо большим) основанием можно сказать, что, наоборот, феодальные режимы всей Европы оказались вынуждены обслуживать накопление капитала в Голландии.
Логика рассуждений Дэвидсона приводит к выводу, что буржуазия была слаба повсюду, кроме Англии, да и в Англии она была гораздо слабее, чем принято считать. Парадоксальным образом этот тезис — в целом вполне справедливый — как раз и подтверждает правоту Валлерстайна. Капитализм формируется первоначально как мировая система, и лишь затем на ее основе происходит консолидация национальных «моделей» буржуазного общества.
Слабость буржуазии в каждой отдельной стране непосредственно связана с развитием миросистемы прежде всего как целого. Лишь государство, занимающее положение гегемона в формирующейся системе, может позволить себе роскошь полноценного и всестороннего буржуазного развития. Миросистема формировалась за счет перераспределения ресурсов и интеграции экономических процессов, происходивших в разных регионах мира. В результате все еще феодальные по своей структуре общества все больше втягиваются в глобальный процесс капиталистического накопления. По отношению к странам капиталистической «периферии» эта логика была хорошо изучена и продемонстрирована исследователями XX века. Чем больше ресурсов вовлекается в капиталистическое развитие, тем больше они используются для глобального перераспределения, и тем меньше их остается доступными для местного капитализма, местной буржуазии. Однако в XVI–XVII веках система еще находилась в процессе становления, а распределение ролей между «центром» и «периферией» сформировалось далеко не окончательно. В значительной мере перераспределение ресурсов происходило и между самими странами «центра» — в пользу государства, оказавшегося в положении гегемона. Именно поэтому борьба за гегемонию в еще не сложившейся до конца системе сразу же приобретает яростный характер, сталкивая между собой сначала Англию и Голландию, а потом Англию и Францию[424].
Между тем в XVII веке порядок, на котором строилась мировая экономическая система в течение предшествующей эпохи, сам по себе переживал кризис.
В период между 1493-м и 1800-ми годами с американского континента получали 85 % всего использовавшегося в мире серебра и 70 % золота[425]. В Европе продолжали работать богемские серебряные рудники, но по объемам производства они далеко уступали американским шахтам. Некоторое количество серебра привозили из Японии, а золото также продолжало поступать из Африки.
Поток драгоценных металлов, который пошел в Европу после открытия Америки, стал не только стимулом для ускоренного экономического развития, но и позволил оплачивать стремительно растущий импорт из Азии. Как и любое резкое увеличение денежной массы, появление на рынках Запада золота и серебра в невиданных ранее количествах стимулировало сначала инфляцию, а затем дестабилизацию социальной системы.
Цены росли по всей Европе, но неравномерно. Естественно, в Испании они росли быстрее, чем в других странах. В качестве примера можно привести цены на пшеницу. Как отмечают исследователи, «в то время как в Англии цена на нее поднялась за XVI век на 155 %, а в Испании она выросла на 556 %»[426]. Соответственно происходило и перераспределение реальных доходов. Покупательная способность испанских рабочих в условиях революции цен упала примерно на треть, тогда как в некоторых других странах наблюдался рост жизненного уровня.
Ввоз серебра и золота из Америки в Европу через испанские владения достигает пика в 1591–1595 годах, после чего начинает неуклонно снижаться. Сокращающийся поток серебра оказывается одним из факторов, характеризующих «кризис XVII века». Возможности развития за счет грабежа новых колоний исчерпываются.
Однако «революция цен», несмотря на все издержки, связанные с обесцениванием денег, оказалась мощнейшим фактором накопления капитала. Происходило стремительное перераспределение финансовых ресурсов как между странами и регионами, так и между социальными слоями. В то время как классы, связанные с землей, и феодалы, и крестьянство, не могли резко увеличить свои доходы, страдая от каждого нового витка инфляции, торговый капитал и все, кто был так или иначе связан с эксплуатацией колоний, выигрывали.
«Колонии, — писал Маркс в „Капитале“, — обеспечивали рынок сбыта для быстро возникающих мануфактур, а монопольное обладание этим рынком обеспечивало усиленное накопление. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал. Голландия, которая первой полностью развила колониальную систему, уже в 1648 году достигла высшей точки своего торгового могущества»[427].
Торговый капитал и его заморские предприятия сыграли решающую роль в превращении буржуазного уклада в капитализм. Уже к началу XVI века речь идет не просто об обмене излишками между различными регионами и даже не только обмене товарами. Торговля начинает формировать международное разделение труда, а вместе с ним и новую политическую карту мира.
Адам Смит не случайно в первых главах своей книги уделяет столь большое внимание данному вопросу. Его «Исследование о природе и причинах богатства народов» начинается с главы «О разделении труда», где шотландский экономист не только доказывает необходимость разделения общества на классы, но и показывает задолго до Маркса и Ленина связь этих классов с распределением производственных функций. Если на первых порах речь идет о распределении операций между рабочими на предприятии, то затем Смит обращает внимание на разделение труда между хозяйственными отраслями и регионами, напоминая, что «возможность обмена ведет к разделению труда», которое, в свою очередь, приобретает тем большие масштабы, чем больше размеры рынка[428]. Таким образом, торговля, расширяя рынки и объединяя их, способствует развитию буржуазной экономики.
Описывая взаимосвязь капиталистического и некапиталистического хозяйства, Роза Люксембург писала: «В первой половине XIX столетия прибавочная стоимость в Англии выходила из процесса производства большей частью в виде хлопчатобумажных тканей. Но вещественные элементы ее капитализации — хлопок из рабовладельческих штатов Северной Америки или хлеб (средства существования для английских рабочих) из житниц крепостной России — хотя и представляли собой прибавочный продукт, но отнюдь не прибавочную стоимость. Насколько капиталистическое накопление зависит от этих некапиталистически произведенных средств производства, показывает хлопковый кризис в Англии, который стал результатом прекращения работ на плантациях вследствие гражданской войны, или кризис в европейской полотняной промышленности, который был следствием прекращения подвоза льна из крепостной России благодаря Восточной войне. Стоит лишь, впрочем, вспомнить о той роли, которую играл подвоз крестьянского, следовательно, некапиталистически произведенного, хлеба для прокормления масс промышленных рабочих Европы (т. е. как элемент переменного капитала), чтобы понять, насколько сильно капиталистическое накопление связано в действительности, благодаря своим вещественным элементам, с некапиталистическими кругами»[429].
Формируя международное разделение труда, торговый капитал организует и реорганизует мир в соответствии с требованиями буржуазной экономики, создает производство, единственной целью которого делается получение прибавочной стоимости.
Торговля на дальние расстояния становилась важнейшим механизмом накопления капитала. Сами по себе подобные предприятия, сложные и рискованные, были немыслимы без мобилизации значительных финансовых ресурсов (непропорциональных сравнительно небольшому числу людей, которые были в этих начинаниях задействованы), что имело смысл лишь постольку, поскольку получаемая прибыль оказывалась еще более существенной.
Торговый капитал не мог не оказывать огромного преобразующего влияния на производство. Укрепляясь и развиваясь, он осуществлял постоянное перераспределение ресурсов. Причем не только, и далеко не всегда — от будущих стран «периферии» к странам «центра» (как показывает опыт, на ранних этапах Новой истории страны Южной Азии и даже Восточной Европы имели положительный баланс в торговле с Западом), но прежде всего, между традиционным производством и нарождающимся капиталистическим сектором. Подобное перераспределение происходит как в глобальном масштабе, так и внутри западных стран, меняя там соотношение сил между различными хозяйственными укладами и социальными группами. Втягивая традиционных производителей в рыночные отношения, торговый капитал заставляет их перестраиваться, вести свои дела по-новому.
Однако далеко не всегда развитие торгового капитала позитивно влияло на производство. Положение дел в Испании и Португалии наглядно доказывает, что это не так. Любое расширение производства, модернизация оборудования, внедрение новых технологий (что в XV–XVII веках было неотделимо от привлечения новых, дорогостоящих специалистов, порой с другого конца света) — все это требует инвестиций. А формирующийся рынок капитала отнюдь не благоприятствовал производству: вкладывая деньги в торговлю и банковские операции, можно было заработать гораздо больше и гораздо быстрее. Поток товаров из Азии создавал дополнительную конкуренцию для европейских мастерских, хотя многие виды азиатских изделий европейцы в принципе произвести не могли из-за отсутствия сырья, технологии или опыта.
Блистательное развитие торгового капитализма в XVI веке несло в себе уже все элементы будущего кризиса. Это быстрее всего сказалось на Испании, где расцвет империи совпадает с нарастающими тенденциями хозяйственного застоя. В Италии закат городов-государств становится необратимым из-за оттока капиталов и стагнации производства. Однако и в других частях Европы нарастают проблемы.
Принципиально важно, что капитализм — не просто производство, основанное на эксплуатации наемного труда, но также и в первую очередь — производство, подчиненное логике накопления капитала. Между тем накопление капитала в мануфактурной промышленности XVI–XVII веков было медленным и слабым, не говоря уже о предшествующем периоде. Это подтолкнуло американского историка Роберта Бреннера к выводу об аграрном происхождении капитализма (о чем, впрочем, писал и Маркс в первом томе «Капитала»[430]). Причем, анализируя английское общество накануне революции, Бреннер отмечает, что в новую буржуазную организацию экономики было вовлечено не только «новое дворянство», возникшее благодаря захвату и раздаче монастырских земель в ходе Реформации Генриха VIII, но и старая земельная аристократия. Этот тезис очень убедительно доказан историком и вряд ли может быть подвергнут сомнению. Другое дело, что «новое дворянство» и старая аристократия в рынок вовлечены были по-разному, и способ их существования в меняющемся обществе был различным — иначе они просто слились бы в одну социальную группу (что, кстати, и произошло после «Славной революции» 1688 года).
К началу XVII века не только английское общество было уже в значительной степени буржуазным, но и государство не было уже вполне феодальным. Таким образом, Английская революция оказалась не только и не столько победой буржуазного порядка над феодальным или освобождением буржуазии от «феодального» государства, сколько — в историческом смысле — победой промышленного капитализма над торговым. Разумеется, смысл происходящей трансформации оставался не вполне доступен участникам событий, тем более что торговый капитал не представлял собой монолитного социального блока. Но так или иначе, система торгового капитализма, сформировавшаяся на протяжении XV–XVI веков, терпит крах в ходе кризиса XVII века — в результате потрясений Тридцатилетней войны, Английской революции и Англо-голландских войн. Итогом этих потрясений становится то, что на смену старой модели, где доминировала буржуазная эксплуатация традиционного хозяйства, приходит новая модель, основанная на капиталистическом производстве и непосредственной эксплуатации капиталом наемного труда. Одновременно закрепляется и разделение между «центром», где торжествуют новые производственные отношения, и «периферией», которая остается вотчиной торгового капитала. На этом, собственно, и основывается новый политический компромисс в рамках развивающегося класса буржуазии, превращающейся в класс капиталистических предпринимателей.
Трансформация буржуазного класса оказалась не результатом плавной социальной эволюции и поступательного экономического развития, а итогом острого политического кризиса, сопровождавшегося гражданской войной, террором и диктатурой. Причем политический кризис переживала не только Англия, где он принял завершенную форму революции, но также Франция, где бушевали беспорядки Фронды, и Голландия, где республика переживала череду восстаний, переворотов и катаклизмов. В Неаполе и Каталонии старая власть была свергнута народными выступлениями, подавить которые удалось лишь с большим трудом. К этому же ряду событий явно относятся и Великая Смута, Раскол и другие потрясения «бунтяшного века» в Московии. А в Германии Тридцатилетняя война была чем-то гораздо большим, нежели военным столкновением протестантских и католических княжеств.
Перри Андерсон характеризует эти политические кризисы и восстания (включая даже Англию) как «восстание знати против консолидации абсолютизма» (a nobiliary revolt against the consolidation of Absolutism)[431]. Однако тут же добавляет, что это движение «получило поддержку среди недовольной городской буржуазии и плебейских толп, принявших участие в общем возмущении. Лишь в Англии, где капиталистические элементы были сильны как в городе, так и в деревне, Великое восстание (the Great Rebellion) достигло успеха»[432].
Оценка событий сводится, таким образом, к известной английской формуле о том, что мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Одно из двух: либо мы имеем дело со схожими (хотя, конечно, отнюдь не одинаковыми) явлениями, которые, по признанию самого же Андерсона, имели похожие корни и социальную природу, но тогда и французскую Фронду надо оценивать как несостоявшуюся буржуазную революцию, либо, напротив, перед нами явления противоположной направленности (аристократическая реакция в одном случае и буржуазная революция — в другом), но тогда непонятно, почему историк сам же объединяет их в одну категорию. Показательно, однако, что у Андерсона из перечня восстаний и политических кризисов XVII века выпали перевороты и народные выступления в Голландии[433]. Подобная оговорка не случайна — ведь в Голландии уже явно не было ни феодализма, ни абсолютизма, а кризис развивался точно так же.
Между тем европейская смута XVII века, несмотря на присутствие в ней аристократического элемента, неотделима от истории развития капитализма. Политический кризис был порожден экономическими причинами, будучи отражением на уровне борьбы за власть тех трудностей, с которыми столкнулось буржуазное развитие Европы на всем огромном пространстве от Англии до России. Государство в том виде, в каком оно сформировалось в эпоху торговой экспансии XVI столетия, перестало отвечать потребностям развития общества. И не потому, что власть тормозила буржуазное развитие, а потому, что продолжение развития требовало активных усилий государственной власти, усилий, на которые государство в сложившейся на тот момент форме было неспособно.
Успехи торгового капитализма быстро привели к исчерпанию, казалось бы, безграничных ресурсов, которые стали доступны благодаря Великим географическим открытиям. Нарастающий кризис мог быть преодолен только за счет активного вмешательства государства, ориентированного на развитие производства. Военные заказы способствуют развитию промышленности, королевские мануфактуры оказываются в числе первых образцов крупных, хорошо организованных производств. Правительства тратят деньги на приобретение новых технологий и обучение кадров, они противостоят нарастающей деградации рынка, которая становится все более заметной, по мере того как начинает иссякать поток серебра из Америки. Однако на первых порах делается это бессознательно и стихийно. Только к концу XVII столетия подобные меры приобретают во Франции усилиями Жана-Батиста Кольбера (Jean-Baptiste Colbert) характер систематической политики, которая задним числом получила название меркантилизма.
Без изменения государственного устройства и радикального пересмотра правительственной политики невозможен был бы переход к новым формам накопления капитала. Именно благодаря усилиям и организующей работе государства рынок превращается в систему частного предпринимательства, а частное предпринимательство — в господствующий способ производства. Превращение буржуазного хозяйственного уклада в экономическую систему происходит за счет длительных, методичных и масштабных усилий государства (другое дело, что на первых порах правящие круги порой четко не осознают социально-исторического смысла происходящего, руководствуясь стремлением к хозяйственному развитию и пополнению бюджета). Государство на ранних этапах этого процесса отнюдь не является в полной мере буржуазным. Однако из всех классов европейского общества именно буржуазии в наибольшей степени удается использовать в своих интересах государственную власть, а в периоды кризисов и революций оборачивать себе на пользу их результаты. Другое дело, что дается это не без сопротивления других общественных сил, буржуазия добивается своих целей в ходе постоянной борьбы, а также неизбежных компромиссов с другими классами и сословиями, в том числе и стоящими ниже нее в социальной иерархии.
Европейское государство не только не было просто продуктом экономического и социального развития, оно само было важнейшим фактором преобразований, оно своей политикой формировало капитализм и само видоизменялось вместе с ним[434].
ПИРАТЫ И МОНОПОЛИИ
Маркс неоднократно подчеркивал грабительский характер первоначального накопления капитала. «Разграбление церковных имуществ, мошенническое отчуждение государственных земель, расхищение общинной собственности, осуществленное по-узурпаторски и с беспощадным терроризмом, превращение феодальной собственности и собственности кланов в современную частную собственность — таковы разнообразные идиллические методы первоначального накопления. Таким путем удалось завоевать поле для капиталистического земледелия, отдать землю во власть капитала и создать для городской промышленности необходимый приток поставленного вне закона пролетариата»[435].
Подобные нашествия капитала на общество повторяются снова и снова на протяжении истории, вплоть до конца XX века, когда разбойничьи нравы, типичные для ранних этапов европейского и американского капитализма, воспроизводились в повседневной практике предпринимательства на территории посткоммунистических стран Восточной Европы.
Однако осуществить их без поддержки и соучастия правительства принципиально невозможно. Решающим фактором первоначального накопления является, таким образом, не индивидуальная инициатива (будь то в форме «конструктивной» предпринимательской активности или, наоборот, в форме разбоя и насилия), а государство. И даже там, где мы сталкиваемся с прямым грабежом и беззаконием, эта деятельность приводит к желаемому эффекту лишь тогда, когда получает поддержку и — в конечном счете — санкцию государства[436]. Без этой поддержки, без легализации итогов грабежа, добыча никогда не стала бы капиталом.
Сложившийся капиталистический порядок предполагает уважение к правам собственности, но формирование буржуазных отношений повсеместно и необходимо сопровождается нарушением именно этих прав. Собственность крестьян экспроприируется землевладельцами, переходящими от феодального к буржуазному способу эксплуатации, в странах победившей Реформации королевская власть отнимает имущество монастырей, в католической Южной Европе государство на каждом шагу присваивает себе собственность евреев и протестантов, революционные режимы захватывают имения побежденной аристократии. В завоеванной Америке и в странах Азии захват имущества туземцев становится обычной практикой, а в Африке происходит массовое обращение в рабство самих людей. Формирование капитализма требует массового насильственного перераспределения собственности — такова логика первоначального накопления. Уважение к правам собственности становится священным принципом лишь тогда, когда перераспределение закончено, а капитал полностью подавил, подчинил себе и переварил все остальные хозяйственные уклады. В странах «периферии», где многоукладная экономика сохраняется на всем протяжении буржуазной истории, насилие и нарушение прав граждан — имущественных и личных — остается повседневной чертой общественной жизни, не вопреки капитализму, а благодаря ему.
Капиталистическая торговля не только нуждалась в военной защите, но и была в процессе накопления капитала неотделима от наступательных операций, в ходе которых захватывались территории и ресурсы, необходимые для развития коммерческих предприятий, уничтожались политические режимы, препятствующие торжеству европейских интересов, подавлялась конкуренция, принудительно изменялись социальные отношения. Такие военные операции неизменно сопровождались массовым нарушением имущественных прав, иными словами, грабежом и разбоем.
Соединение торговли с войной и грабежом лучше всего давалось морским пиратам в XVI–XVII веках, но не надо забывать, что именно из пиратских флотилий позднее возникали и торговые предприятия, и военно-морские силы Англии и Голландии. Проблема пиратства состояла в том, что масштабы их деятельности быстро перестали соответствовать нуждам накопления капитала. Уже в середине XVII века свободное предпринимательство пиратов оказалось неконкурентоспособным по сравнению с организованной торговлей, защищаемой и поддерживаемой государством. Авантюристы, которые не понимали новых правил или не могли с ними смириться, терпели неудачу, а позднее и подвергались уничтожению. Как отмечают историки, подавление пиратства (suppression of piracy), осуществленное британским флотом в середине XVIII века, стало возможно благодаря «изменению отношений между купцом и государством» (change of relationship between merchant and state)[437].
Пиратство, организованное буржуазией в XVI–XVII веках при поддержке государства в качестве разновидности предпринимательства, к началу XVIII века сменилось «диким» морским разбоем, с которым теперь активно боролся Королевский флот (Royal Navy), основанный бывшими пиратами.
Известный морской разбойник Генри Морган (Henry Morgan) по возвращении в Англию был предан суду. Странным образом, однако, правосудие не сумело доказать вину Моргана — хотя всему миру были известны его грабительские рейды против Панамы и других испанских портов, после чего оправданный судом преступник получил рыцарское звание и был отправлен обратно на Ямайку в должности вице-губернатора и главнокомандующего ее военно-морскими силами. Как человек способный и сообразительный, Морган очень хорошо понял суть произошедших перемен. Превратившись из морского разбойника в должностное лицо, бывший пират уделял основное внимание именно борьбе за безопасность мореплавания. Историки отмечают, что прекрасно зная суть дела, действовал он «со всей беспощадностью, применяя жестокие меры на этот раз по отношению к пиратам во имя соблюдения закона и приказа его королевского величества. Результаты не заставили себя долго ждать. Все больше бывших пиратов стали заниматься честным судоходством, и торговля на Карибском море начала процветать. Постепенно Ямайка порвала все свои связи с пиратами, а Порт-Ройал превратился в крупный центр морской торговли»[438].
Демобилизация флота после войны за Испанское наследство пополнила ряды морских разбойников новыми кадрами, превратив атлантическое мореплавание в весьма рискованное предприятие. Но уже к 1726 году пиратство в Карибском море было фактически подавлено. Это было не только результатом успешного патрулирования опасных зон британским военным флотом, но и следствием серьезных мер, предпринятых на суше. Властями английских колоний была развернута полномасштабная кампания по борьбе с пиратством. В ход шли пропаганда, законодательные меры, репрессии. «Кампания по зачистке морей (the campaign to cleanse the seas) поддерживалась священниками, королевскими чиновниками, публицистами, которые произносили проповеди и речи, писали прокламации и памфлеты, публиковали статьи в газетах, старательно создавая негативный образ пирата. В прежние времена успех пиратов зависел от поддержки на берегу, усиливавшейся легендами об их подвигах, которые распространялись среди моряков и торговцев награбленным добром. Теперь ситуация изменилась — в 1722 и 1723 годах все видели виселицы с казненными разбойниками и слышали пропаганду, объяснявшую необходимость жестоких мер. Численность пиратов начала падать, и к 1726 году от всего братства сохранились лишь жалкие остатки»[439].
Однако насильственное перераспределение ресурсов от масс народа к формирующейся буржуазной элите — не более, чем частный случай общей истории, в которой важнейшее значение имело перемещение товаров между континентами, формирование нового международного разделения труда и передвижение средств, накопленных в сфере торговли, непосредственно в сферу производства. Все эти процессы были теснейшим образом связаны с государственной политикой, с военной экспансией европейских держав и их борьбой друг с другом.
В подавляющем большинстве случаев включение стран будущей периферии в новую мировую экономику происходило не за счет стихийного развития рыночных связей, а за счет принуждения. Местные рынки приходили в упадок, а порой и сознательно уничтожались, сложившиеся торговые связи разрушались, товарные потоки перенаправлялись, а производство радикально перестраивалось. Целые регионы, которые раньше поставляли на внешний рынок лишь излишки своей продукции, теперь производили свой товар непосредственно на экспорт. Сельскохозяйственные культуры, характерные для одних территорий, перемещались на другие. Традиционные отношения уступали место новым.
Несмотря на то что европейские купцы обладали значительными финансовыми ресурсами, полученными за счет разграбления и колонизации Америки, этого было недостаточно, чтобы произвести столь радикальную экономическую реорганизацию в азиатских странах. Совершить ее одними только рыночными методами, не прибегая к насилию, оказалось невозможно.
Ян Питерсзон Кун (Jan Pieterszoon Coen), генерал-губернатор голландских владений в Азии, объясняя правлению Ост-Индской компании логику своих действий, произнес уже цитировавшуюся выше формулу: «в Индии торговля развивается и поддерживается под прикрытием нашего оружия; и поскольку оружие мы оплачиваем доходами от торговли, очевидно, что мы не можем торговать без войны точно так же, как не можем воевать без торговли»[440]. Хозяйственная реорганизация, которую проводил западный капитал в Азии, а заодно и в самой Европе, была бы невозможна без политических преобразований и вооруженного насилия.
Разумеется, в этом процессе участвовали не только европейцы. Азиатские торговые элиты активно сопротивлялись европейскому влиянию, конкурировали, сбивали цены, без колебаний прибегали к провокациям и насилию. Однако, во-первых, азиатские купцы пытались защищать status quo, тогда как европейцы добивались перемен, а во-вторых, европейцы применяли насилие гораздо более систематически, более грамотно и, главное, более эффективно. Они создали систему, при которой, как отмечали позднейшие историки, «применение насилия было подчинено рациональному стремлению к прибыли»[441]. Они ставили четкие цели, которых добивались одновременным использованием военных и коммерческих средств. Это сочетание рыночных методов с насилием и создало капиталистическую мировую экономику. И оно не было бы возможно без координирующей роли государства, которое не только субсидировало, поддерживало и организовывало торговлю, регулировало и налаживало работу рынка, инвестировало деньги в новые, дорогостоящие производства, выступало заказчиком и советчиком для капитала, но и без колебаний применяло в его интересах насилие, формировало армии и флоты, отправляло военных и чиновников в далекие страны, для того чтобы обеспечить торговые интересы складывающейся буржуазии и защитить формируемые ею рынки.
Инструментом государственного регулирования экономики в абсолютистской Европе было создание монопольных компаний, получавших от короны исключительные права на освоение новых рынков и создание новых отраслей. Подобные организации, отмечает Маркс, были «мощными рычагами концентрации капитала»[442]. Они продолжали традиции купеческих гильдий позднего Средневековья, но уже в новых условиях.
Описывая экономику Франции при Старом режиме, английский историк констатирует, что в крупных размерах накопление капитала происходило именно за счет предприятий, формировавшихся по заданию и при поддержке правительства: «Подобные монополии и огромные состояния, которые удавалось нажить благодаря связанной с ними спекуляции были бы невозможны без абсолютистского государства»[443].
По инициативе и под контролем правительства создавались специальные частно-государственные корпорации, самыми знаменитыми из которых стали голландская и английская Ост-Индские компании. Однако история торговых монополий начинается значительно раньше — с Московской компании (Moscovy Company), основанной в Лондоне в 1554 году при личной поддержке Елизаветы Английской и ее ближайшего союзника Ивана Грозного. За ними следуют новые компании: Турецкая (Turkey Company) — в 1578 году, Восточная (Eastland Company) — созданная для торговли на Балтике в 1579 году, Левантийская (Levant Company) — основанная в 1581 году. Лишь позднее в Англии возникают Ост-Индская и Африканская компании. Колонизация Америки тоже потребовала создания государственно-частных монополий — Компания Бермуды (The Bermuda Company), Компания острова Провиданс (The Providence Island Company), Компания Массачусетского залива (The Massachusetts Bay Company). И лишь позднее, при Кромвеле, колонии, которые первоначально создавались на основе монопольных хартий, теперь были открыты для всех желающих их осваивать.
Старейшая английская колония Виргиния возникла как частно-государственное смешанное предприятие, основанное в 1587 году. По словам немецкого историка начала XX века, Виргинская компания с точки зрения права «представляла самое удивительное учреждение, когда-либо существовавшее. Верховные права над колонией принадлежали обществу, которое считало в числе своих членов множество богатых лондонских купцов и влиятельных личностей… Виргиния не была, следовательно, королевской колонией. Тем не менее управление обществом было такого рода, что открывало самый широкий простор для вмешательства правительства»[444].
Виргинию контролировали одновременно официальные английские власти, лондонские акционеры-инвесторы и самоуправление белых поселенцев. Казалось бы, такая сложная и запутанная система управления должна была вести к катастрофической неэффективности и постоянным конфликтам, но на практике, хотя конфликты и возникали, они всегда разрешались сравнительно легко. Эта способность быстро и относительно безболезненно решать возникающие проблемы может быть объяснена единственным способом — в основе деятельности всех участвовавших в процессе сторон лежала очевидная для них всех общность интересов. Подобное положение дел заставляло историков считать: «Английская империя в первую очередь возникла как продукт частного предпринимательства»[445]. Однако с таким же успехом можно сделать и обратный вывод — колониальное предпринимательство было теснейшим образом связано со строительством империи.
В 1624 году Виргиния была превращена в королевскую колонию, а Оливер Кромвель подчинил ее торговлю Навигационным актам. По мере укрепления буржуазного режима в Англии влияние государства на колониальные дела постоянно усиливалось, на протяжении длительного периода времени это не вызвало особого недовольства у колонистов.
На практике колонии не выжили бы без поддержки и защиты государства. Однако финансовые трудности европейских правительств способствовали развитию капитализма в Северной Америке или Южной Африке ничуть не меньше, нежели протестантские ценности поселенцев.
Опыт англичан был усвоен голландцами, которые благодаря энергичному сочетанию частной инициативы и агрессивной государственной политики достигли впечатляющих успехов. В 1621 году была создана голландская Вест-Индская компания (WIC). На первых порах компания занималась преимущественно пиратством и контрабандой. «Первоначально это было скорее правительственное предприятие, чем бизнес-инициатива, и связана ее деятельность была с войной, которую Голландия возобновила против Испанской империи по окончании двенадцатилетнего перемирия. Под угрозой банкротства в 1674 году WIC реорганизовалась в компанию, специализирующуюся на работорговле, хотя контрабанда в Южной Америке и сахарные плантации в Суринаме тоже приносили немалую прибыль. Именно WIC наладила в Атлантике трехстороннюю торговлю, связавшую европейское производство, поставки рабов из Африки и плантационное хозяйство в Америке в единую, взаимосвязанную и прибыльную торгово-производственную систему»[446].
В качестве опорной базы WIC в Америке был основан Новый Амстердам, который позднее был захвачен англичанами и по мирному договору 1667 года в Бреде стал частью британской заокеанской империи под именем Нью-Йорк. Следуя по пятам голландцев, английские и французские купцы наладили собственные торговые схемы в этом же треугольнике. В свою очередь уже Голландская Ост-Индская компания, основанная еще раньше — в 1602 году, стала образцом для подражания в Англии и в странах континентальной Европы.
Голландия не принадлежала к числу стран с «сильным правительством», но как указывают современные исследователи, здешние власти «могли быть исключительно эффективны, когда это требовалось»[447]. Американский историк Эймс отмечает, что попытки развивать мировую торговлю на основе свободного предпринимательства привели к «яростной конкуренции между различными голландскими компаниями»[448]. Эта конкуренция ослабляла их позиции по отношению к англичанам, которые действовали консолидировано. Правительство вынуждено было вмешаться и организовать объединение соперничающих предприятий в единую монопольную компанию. В 1598 году произошло слияние многочисленных конкурирующих торговых фирм в Объединенную Ост-Индскую компанию (Vereenigde Ost-Indische Compagnie, VOC). В 1600 году великий пенсионарий (главный министр) провинции Голландия Йохан ван Олденбарневелт (Johan van Oldenbarneveldt) добился создания специальной комиссии для изучения проблемы. Переговоры проводились на самом высоком уровне, в них принимал непосредственное участие сам Мориц Нассауский, принц Оранский (Maurits van Oranje-Nassau), занимавший высший в республике пост штатгальтера (статхаудера). Окончательно слияние состоялось лишь в 1602 году.
Когда в Амстердаме было объявлено о предстоящем создании Ост-Индской компании, «город был охвачен энтузиазмом» (real enthusiasm had seized the city), сообщает голландский историк[449]. Основание компании «было событием, затронувшим все население Амстердама. Всего лишь 84 из более чем тысячи акционеров были настоящими крупными инвесторами (вложившими 10 тысяч гульденов или больше). Напротив, в списке людей, подписавшихся на акции компании, мы находим 466 мелких инвесторов, вложивших менее тысячи гульденов. Они составляли две пятых от общего числа акционеров»[450]. Основную массу этих «мелких инвесторов» составляли ремесленники, мелкие лавочники и даже наемные работники, вкладывавшие обычно по 60 гульденов, что являлось «значительной частью их сбережений»[451].
Компания получила право не только торговать, но и вести войну, строить крепости, основывать колонии, чеканить монету и заключать договоры от имени Нидерландской республики. Первоначально решения руководства компании (Heren XVII) утверждались Генеральными Штатами, но к концу XVII века компания и государство стали уже настолько неразделимы, что в этом не было необходимости. Как замечает один из историков, по сути «VOC была тождественна государству» (VOC was identical with the state)[452]. С одной стороны, VOC представляла собой «одну из первых акционерных компаний»[453]. Ее акции, как и акции английской Ост-Индской компании котировались на биржах. А их курсы четко отражали не только их коммерческие, но и политические успехи и неудачи[454]. С другой стороны, обе компании учреждаются решением правительственных органов на основании официальной хартии, утвержденной парламентами. Государственные функции приватизировались и отдавались в руки частных подрядчиков, но в то же время официальная власть непосредственно включалась в управление и координирование предпринимательской деятельности.
Голландия, являвшаяся первым последовательно капиталистическим государством Европы, разумеется отличалась в этом плане от других держав: влияние частного капитала на правительство здесь было совершенно открытым и публичным. Отсюда, однако, не следует, будто голландская модель колонизации была радикально иной, чем у других держав.
В 1648 году, воспользовавшись окончанием Тридцатилетней войны, VOC наняла большое количество солдат, потерявших работу в Европе, и развернула наступление на португальские владения в Азии. Было завершено завоевание Цейлона, захвачены Малабар и Коромандель (Coromandel) в Индии.
Эймс отмечает, что голландская система казалась «скорее воспроизведением португальской Индийской империи (Estado da India), нежели ее капиталистическим отрицанием» (became a mirror i of the Estado da India more than a capitalist rejection of it)[455]. По его мнению, невозможно представлять победу голландской Ост-Индской компании (VOC) над португальцами как торжество капитализма над феодализмом. Наступающий капитализм отнюдь не представлял собой исключительно частное предпринимательство точно так же, как абсолютистское государство в Португалии уже не было образцом чистого феодализма. Именно способность голландской буржуазии эффективно поставить себе на службу институты и традиции, сформированные португальским абсолютизмом, предопределила ее политические и экономические успехи в Азии. Сильное государство не исключало развития частного предпринимательства, а напротив, оказывалось важнейшим его условием.
С самого начала VOC представляла собой некоторое противоречие, пишут голландские историки: «частная фирма, действующая как государство, стремящаяся установить монополию в условиях жесткой конкуренции»[456], эта компания «вела себя как Князь в Азии, но голова, увенчанная княжеской короной покоилась на теле купца»[457].
Впрочем, несмотря на квазигосударственное существование компании, именно коммерция составляла основу ее деятельности. В бюджете VOC «некоммерческие доходы (налоги, таможенные сборы и дань) никогда не превышали 10 % общих поступлений из Азии» (noncommercial revenues (taxes, tolls, tribute) never exceeded 10 percent of all Asian revenues)[458]. В то же время ее коммерческий успех был тесно связан с политической и военной силой. В результате возникали неизбежные и регулярные конфликты между акционерами в Амстердаме, требовавшими экономить деньги, не тратить лишних средств на содержание войск и администрации, и строителями империи, которые руководили Высшим советом в Батавии (High Council at Batavia). Если купцам в Голландии нужна была прибыль, то администраторы в Батавии понимали, что без военных и административных расходов поддерживать успешную торговлю не удастся.
Несмотря на то что голландцы сами брали пример с англичан, именно деятельность VOC стала образцом для множества аналогичных предприятий, основанных на протяжении XVII столетия. В 1627 году Ришелье создал компанию по освоению Канады — Новой Франции. В 1664 году Кольбер основал по голландскому образцу сразу две компании — (Compagnie des Indes orientales, Compagnie des Indes occidentales) соответственно для работы в Ост-Индии и Вест-Индии. Затем последовало учреждение ряда более мелких компаний, а в 1723 году для реорганизации и координации их деятельности был создан Совет по делам Индий (Conseil des Indes). Схожие компании учреждались в Шотландии, Дании, Швеции, Пруссии и России (в последних двух странах, впрочем, без особого успеха). В Швеции за XVII столетие по инициативе центральной власти был организован целый ряд торговых компаний: в 1640 году — Вест-Индская компания (West India Company), а в 1646 году — Левантийская компания (Levant Company). Сахарная компания (Sugar Company) была основана в 1647 году, Гвинейская компания (Guinea Company), известная также как шведская Африканская компания, была учреждена в 1649 году, за ней последовала Табачная компания (Tobacco Company) — в 1651 году.
Впоследствии подобные компании, не сумев заложить основы для сильных колониальных империй, исчезли и в качестве коммерческих предприятий. Тем не менее в определенные моменты скандинавы становились серьезными конкурентами голландцам и англичанам, как, например, датская Вторая Ост-Индская компания, основанная в 1672 году.
Финансовые тяготы, которые пришлось испытать правительствам во время кризиса XVII века, оказались чрезвычайными, а главное неожиданными, — после того, как в течение почти столетия поток американского серебра позволял так или иначе сводить концы с концами даже для государств, не слишком заботившихся о поддержании бюджетной дисциплины.
Постоянные войны, которые вели между собой европейские державы, оказались разорительными не только из-за сопровождавших их разрушений и расходов на содержание армий. До XVIII века мобилизация крупных воинских соединений была затруднена не столько недостатком людей и вооружения, сколько неэффективностью транспорта и организации. Прежде чем армии удавалось собраться в полном составе, приходилось кормить, оплачивать и удерживать под контролем ранее прибывшие в точку сбора соединения. Генриху V, несмотря на поддержку парламента и лондонских купцов, пришлось закладывать дворцовое серебро для подготовки экспедиции 1415 года во Францию. На организацию Непобедимой Армады Филипп II выделил первоначально 3,8 миллиона дукатов. В итоге сильно урезанный план стоил ему более десяти миллионов — непомерная сумма даже для мировой монархии Габсбургов. По злорадному замечанию английского историка, ресурсы, накапливавшиеся предшественниками Филиппа в течение многих лет, «были растрачены за кратчайшее время, чтобы покрыть расходы армады»[459].
К середине XVII века все европейские державы находились на грани банкротства. «Все эти правительства прибегали к продаже королевского имущества, девальвации денег, торговле должностями, „новаторским“ инициативам в сфере налогообложения и, конечно, к заимствованиям, — констатируют историки. — Доходов от королевских имений и таможни не хватало еще и потому, что аристократия демонстрировала неизменную способность получать доступ к казенным средствам и растрачивать их. Дефицит бюджета был постоянным. А неэффективное использование правительственных средств затрудняло сбор налогов»[460].
В подобной ситуации буржуазные предприятия за морем выглядели привлекательным дополнением к традиционным источникам дохода. Государство повсеместно поддерживало подобные начинания, предоставляло им официальный статус и одновременно стремилось к тому, чтобы они имели как можно более предпринимательский характер.
Государства поддерживали монопольные компании, охраняли их и оказывали им постоянную поддержку — техническую, финансовую, информационную. Французский военный флот (Marine de guerre) участвовал не только в обеспечении безопасности новых атлантических колоний, но и в их организации и даже финансировании — вместе с купцами из Дьеппа и Гавра[461].
Можно констатировать, что государство (само еще далеко не буржуазное) охотно передоверяло свои функции и полномочия частному бизнесу, но, в свою очередь, частные предприниматели успешнее всего добивались своих целей, когда действовали от имени и по поручению государства, имея возможность в моменты крайней необходимости привлекать на свою сторону вооруженную силу правительства и его финансовые ресурсы. Близость к власти становилась важнейшим условием реализации амбициозных коммерческих планов, которые были зачастую неотделимы от политической стратегии. Оценивая роль государства в формировании крупных состояний XVI–XVII веков, Роберт Бреннер говорит про «политическое накопление капитала» (political accumulation)[462].
Правительства оберегали монопольные права компаний не только внутри собственных стран, но и на международном уровне. Когда Дания в 1616 году учредила собственную Ост-Индскую компанию и пыталась привлечь к предприятию иностранный капитал, Англия и Голландия не только запретили своим подданным подписываться на датские акции, но и грозили Копенгагену войной. Тем не менее датская компания просуществовала до 1729 года. Наряду с основанной в 1731 году шведской Ост-Индской компанией, она оказалась одним из основных импортеров чая в Европу, опережая в этом деле даже англичан (причем значительная часть ее товара контрабандой сбывалась в той же Британии). Датчанам удалось основать собственные торговые фактории в Индии, используя для этих целей порт Транкебар (Trankebar, или Tharangambadi), где был сооружен форт Дансборг (Dansborg). Также под контролем компании находилась база в Южной Африке, недалеко от контролировавшегося голландцами Кейптауна. В 1730 году, изменив имя и хартию, она была учреждена заново как Азиатская компания (Asiatisk Kompagni), получив в 1772 году на 40 лет монопольное право вести под датским флагом торговлю к востоку от мыса Доброй Надежды. В 1772 году, когда срок действия монополии истек, Датская Индия была объявлена колонией короны (crown colony). Эта колония просуществовала до 1845 года, когда была продана Британии, а ее территории оказались присоединены к английским владениям в Индии и Южной Африке[463]. Шведская Ост-Индская компания прекратила свое существование еще раньше, в 1813 году. Последние заморские колонии Дании были переданы Британской империи в 1869 году.
Все эти компании, хоть и создавались как частные акционерные предприятия, действовали в прямой связи с правительствами своих стран. Их непосредственной задачей было накачивать средства в государственный бюджет. Деньги поступали как от торговой деятельности (в частности, от таможенных сборов), так и от взносов, которые купцы должны были делать в казну ради сохранения дарованных им монополий и политической поддержки.
Цель компаний состояла в том, чтобы, ограничив конкуренцию между купцами из одной страны, повысить их коллективную конкурентоспособность по отношению к купцам из других стран. Однако с самого начала роль компаний не сводилась к регулированию торговли и устранению «внутринациональной» конкуренции. Будучи учрежденными при поддержке государства, они изначально обладали политическими возможностями, которых не было у частных предпринимателей, и несли определенную политическую ответственность перед правительством. Даже Московская компания, не имевшая военно-политической организации, активно занималась дипломатической деятельностью в России, кредитовала внешнюю экспансию Романовых, помогала царю набирать войска и закупать вооружение. Сходным образом руководители контор Левантийской и Турецкой компаний (Levant Company and Turkey Company) в Стамбуле имели статус не только торговых представителей, но и королевских послов. Тем не менее полномочия торговых компаний, включая и Ост-Индскую, на первых порах в Англии не были столь обширными, как у голландской VOC, которая могла самостоятельно объявлять войну и заключать мир. При всей своей заинтересованности в торговле, режим Тюдоров и первых Стюартов не готов был механически отождествлять интересы купцов с интересами государства. И даже буржуазная революция XVII века в этом отношении не изменила ситуацию.
Задним числом деятельность монопольных компаний подвергалась уничтожающей критике со стороны либеральных экономистов и историков, которые начиная с конца XVIII века представляли эти организации в качестве препятствия для развития конкуренции, преграды на пути инноваций и частного предпринимательства. Одним из наиболее яростных критиков монопольных торговых компаний был Адам Смит. По его мнению, «монополия колониальной торговли, подобно всем другим низменным и завистливым мероприятиям меркантилистической системы, подавляет промышленность всех других стран, главным образом колоний, ни в малейшей степени не увеличивая, а, напротив, уменьшая промышленность страны, в пользу которой она устанавливается»[464]. Шотландский экономист был убежден, что «подобного рода монопольные компании во всех отношениях являются вредными, всегда более или менее невыгодными для стран, в которых они учреждаются, и гибельными для тех, которые имеют несчастье оказаться под их управлением»[465]. В качестве добросовестного экономиста шотландский исследователь, конечно, вынужден был признать: зачастую риск и издержки, связанные с колониальной торговлей, столь высоки, что без помощи подобных компаний организовать ее — на основе свободной конкуренции капиталов — оказывается просто невозможно. Но отсюда он делал лишь тот вывод, что в подобном случае торговать с восточными народами и вовсе не надо: «Хотя, таким образом, при отсутствии монопольной компании какая-нибудь отдельная страна может оказаться не в состоянии вести непосредственную торговлю с Ост-Индией, отсюда отнюдь не следует, что подобного рода компания должна быть учреждена в ней; отсюда следует только то, что при данных обстоятельствах такая страна не должна торговать непосредственно с Ост-Индией»[466]. Иными словами, страны, не имеющие достаточно высокого уровня развития капитализма, должны смириться с торговой монополией Британии и Нидерландов, но монополия эта должна принадлежать не конкретным компаниям, а британской или голландской буржуазии в целом.
Легко заметить, что когда Смит писал свои инвективы в адрес Ост-Индской компании, положение европейцев в странах Востока было уже прочным, политические и военные проблемы решены, а рынки открыты. В этом смысле очень показательна позиция, занятая по вопросу о деятельности Ост-Индской компании другим английским либеральным мыслителем — Эдмундом Бёрком (Edmund Burke). В 1780-е годы Бёрк прославился гневными речами против Уоррена Гастингса (Warren Hastings), возглавлявшего администрацию Ост-Индской компании в Бенгалии. Он разоблачал злоупотребления и произвол британских чиновников, их корыстолюбие и беззакония. Однако биографы Бёрка не могут не признать некоторой «непоследовательности» (inconsistency) в его выступлениях — вплоть до 1773 года «мы постоянно видим Бёрка защищающим интересы Ост-Индской компании»[467]. Когда правительство пыталось поставить вопрос об ограничении дивидендов, выплачиваемых акционерам компании, никто иной как Бёрк яростно протестовал, заявляя, что «подобного невозможно отыскать в законах ни одной цивилизованной страны на земле — вы угрожаете самому важному принципу, на котором покоится свобода государства»[468].
Эволюция взглядов Бёрка отражает общее развитие ситуации в Индии. Если в 60-е годы XVIII века борьба за контроль над субконтинентом еще продолжалась, а позиции британцев в Бенгалии еще не казались совершенно прочными, то к концу века положение дел изменилось, английские купцы свободно могли вести свои дела в Индии под прикрытием сильной армии и, что не менее важно, собственных судов, обеспечивавших признание европейских норм права своими «туземными» партнерами и конкурентами. Соблюдение законности становилось важнейшим условием для развития успеха. Соответственно менялось и отношение к Компании. Наставало время, когда плодами ее побед должны были пользоваться уже не только ее акционеры, но и весь предпринимательский класс.
В XVI–XVII веках и даже в начале XVIII столетия картина выглядела совершенно иначе. Если бы европейцы в Азии действовали в соответствии с задним числом опубликованными рекомендациями Адама Смита, то торговать с Востоком оказались бы не в состоянии не отдельные страны, а Запад в целом.
В качестве доказательства своего тезиса о вреде монополий шотландский экономист ссылался на опыт Португалии, «которая более 100 лет подряд» держала торговлю с Индией «в своих руках без всякой монопольной компании»[469]. Ирония этого аргумента состоит в том, что колониальный монополизм португальцев в XVI веке шел куда дальше, чем англичан или голландцев в XVII столетии. Если англичане и голландцы создавали военно-торговые корпорации, то португальская корона просто держала все ключевые порты под непосредственным политическим контролем. Именно прямое вмешательство государства обеспечивало «свободу торговли» для индивидуальных португальских предпринимателей, которые не только опирались на защиту королевских вооруженных сил, но и на созданную правительством инфраструктуру.
Оговорка Смита о невозможности торговли в отдельном конкретном случае выдает общую проблему, с которой сталкивалась либеральная экономическая мысль на протяжении двух последующих столетий: разоблачая неэффективное управление теми или иными объектами в условиях государственного контроля и монополизма, они вынуждены умалчивать о том, что в каких-либо иных условиях данные объекты просто вообще не были бы созданы. Поскольку либеральная мысль начиная с середины XVIII столетия склонна была изображать экономические законы в качестве естественных, неизменных и никак не связанных с социальной организацией, способом производства или специфическими условиями существования отдельных обществ, то историческая эволюция рынка сознательно упускалась ими из виду точно так же, как и реальные обстоятельства, при которых возникли те или иные описываемые ими структуры. И уж, тем более, вне поля их интереса оставались политические действия, с помощью которых рыночные отношения становились господствующими на практике.
Между тем капитализм — это не конкуренция товаров, а конкуренция капиталов. Тот, кто может сконцентрировать на своей стороне большие ресурсы, выигрывает в конкурентной борьбе независимо от того, насколько эффективны его действия с чисто экономической и организационной точек зрения. Именно поэтому поддержка государства является важнейшим требованием любой частной корпорации, сталкивающейся с иностранной конкуренцией и работающей на мировом рынке. Другое дело, что эту поддержку может оказывать как «родное» государство, так и «туземное», на территории которого разворачивается рыночное соревнование.
Издание правительственных указов, гарантирующих права корпораций, было обычной практикой и в странах будущей периферии, примером чего являются фирманы Великих Моголов, на которые опиралась все та же английская Ост-Индская компания. Однако здесь государственное вмешательство играло несколько иную роль: встраивая иностранные корпорации в систему местной власти и управления, эти указы не только закрепляли их место в восточном обществе, но и давали им в руки правовые, а отчасти даже административные инструменты, с помощью которых иностранный капитал начинал эти общества преобразовывать.
Далеко не случайно, что монопольные компании, возникшие в рамках феодальной системы, продолжали существовать и в буржуазной Голландии, и в парламентской Англии после революции. Рынок, который описывает Адам Смит, опираясь на практику конца XVIII века, вовсе не существовал в реальности во времена, когда создавались монопольные компании. Именно эти корпорации сыграли важнейшую роль в организации рынка, выполняя функции, с которыми не могли бы справиться десятки и сотни независимых предпринимателей. Они обеспечивали концентрацию капитала, снижали коммерческий риск, а главное устанавливали общие правила торговли, налаживали отношения между поставщиками и потребителями, принимая на себя издержки. Со всем этим самостоятельные предприниматели просто не справились бы. Вооруженные силы компаний повсеместно осуществляли принуждение к рынку, заставляя туземное население производить и выставлять на продажу именно те товары, которые были нужны европейскому потребителю. Они устанавливали и поддерживали отношения с властью не только в странах, откуда они происходили, но и на новых рынках, которые они осваивали. Здесь получение политической поддержки и монопольных прав было особенно важно, поскольку в противном случае торговля могла оказаться вовсе невозможной или рискованной настолько, что не оправдывала бы затрат.
Но как только ситуация менялась, рынок был сформирован и условия хозяйственной деятельности становились более благоприятными, а главное более предсказуемыми, правительство начинало испытывать давление со стороны предпринимателей, не имевших государственных привилегий. В свою очередь корпоративная элита сопротивлялась изо всех сил, однако ее позиции слабели на глазах, ибо теперь корпорация защищала уже не общие интересы капитала, а лишь свои собственные.
Уже в XVI веке эти проблемы возникли в связи с деятельностью английской Московской компании. Пока торговля с Московией осуществлялась по опасному и труднопроходимому северному пути, никто не оспаривал монопольный статус корпорации, но после того, как армии Ивана Грозного захватили и открыли для англо-русской торговли ливонский порт Нарву, куда плавать было легко и относительно безопасно, сразу же появилось множество купцов, требовавших отменить привилегии компании[470].
В Вест-Индии английская корона столкнулась с теми же проблемами в первой половине XVII века, когда «новые купцы» (new merchants) вступили в конфликт со Стюартами, покровительствовавшими монопольным компаниям. Недовольство этих «новых купцов», как в Лондоне, так и в колониях, стало одним из факторов, подпитывавших антимонархическую революцию[471]. Однако в Ост-Индии, где позиции британского капитала были намного слабее, ситуация менее контролируема, а иностранная конкуренция жестче, монопольная корпорация не только сохраняла свой статус в течение длительного времени после революции, но не подвергалась серьезной критике по крайней мере до второй половины XVIII века. Если волна революционных перемен положила конец монополизму на атлантических рынках, то на политике Англии по отношению к азиатскому рынку она не отразилась почти никак. И лишь после того, как армиям Ост-Индской компании, возглавляемым Робертом Клайвом удалось установить фактический контроль над Бенгалией, навязав английскую торговую гегемонию всему субконтиненту, ситуация резко изменилась. В Англии и Шотландии либеральные публицисты от Адама Смита до Эдмунда Бёрка выступили с резкой критикой монополизма.
РАБОТОРГОВЛЯ
Хозяйственное освоение Нового Света было не только итогом энергичных усилий и предприимчивости европейских поселенцев, но и результатом труда миллионов африканских рабов, без которых производство в американских колониях просто не смогло бы выйти на уровень, требуемый мировым рынком. «Рабство и работорговля, — пишет английский историк Робин Блэкборн, — имели критическое значение для успеха атлантической колонизации. Работорговля в Африке была напрямую связана с торговлей золотом, поддержанием прибрежных европейских факторий, производством сахара»[472]. Хлопок, кофе, табак и другие культуры наряду с сахаром распространились по Европе благодаря труду черных невольников.
Бразильский исследователь Антонио Карлос Маццео (Antonio Carlos Mazzeo) отмечает, что плантационное хозяйство, основанное на рабском труде, было бы невозможно без существования капиталистического рынка в Европе и соответствующего международного разделения труда. Рабовладельческая экономика Нового Света «отнюдь не представляет собой какой-то особый способ производства, существующий отдельно от капитализма, напротив, перед нами специфический тип капитализма»[473]. Это позволило Андре Гундар Франку (Andr Gunder Frank) говорить применительно к плантационному хозяйству о «капиталистическом рабстве» (capitalist slavery)[474]. Американское рабство, таким образом, сходно со «вторым изданием крепостничества» в Восточной Европе, где несвободное состояние крестьянства стало наилучшим средством, чтобы «удовлетворить западный спрос»[475].
То, что развитие нового рабства по времени совпадает с эпохой «вторичного закрепощения» крестьян в России и в Восточной Европе (также в Германии — к Востоку от Эльбы), далеко не случайность. Дешевые продукты рабского и крепостного труда были необходимы для субсидирования свободного труда на Западе и это, в свою очередь, стало важнейшим условием прихода капитала в производство. Без этой русско-африканской, восточноевропейско и южноамериканской «субсидии» капиталистическое производство Запада вряд ли могло бы состояться в той форме, в какой мы его знаем.
Развитие свободного труда в странах, становившихся «центром» мирового капиталистического хозяйства, дополнялось и фактически субсидировалось параллельным использованием несвободного труда на периферии.
Разумеется, рабство полностью не исчезло на протяжении Средневековья, но оно играло второстепенную роль в странах Азии и Северной Африки, почти полностью исчезнув в Европе. И все же именно формирование новой мировой экономики и развитие торгового капитализма способствовали возрождению рабства в качестве признанного социального института по обе стороны Атлантики. К XVIII веку рабство и работорговля достигают в процессе становления нового, свободного мира и формирующегося либерального капитализма значительно больших масштабов, чем в средиземноморском мире Античности.
«Как капиталистическое производство не может ограничиться природными сокровищами и производительными силами умеренного пояса, нуждаясь для своего развития в возможности распоряжаться всеми странами вне зависимости от климата, так же мало оно может обойтись рабочей силой одной лишь белой расы. Для использования тех земных поясов, где представители белой расы становятся неработоспособными, капитал нуждается в других расах; он вообще нуждается в неограниченной возможности распоряжаться всеми рабочими силами земного шара, чтобы при их помощи привести в движение все производительные силы земли, поскольку это возможно в рамках производства прибавочной стоимости, — писала Роза Люксембург. — Английская хлопчатобумажная промышленность как первая действительно капиталистическая отрасль производства не могла бы существовать не только без хлопка южных штатов Североамериканского союза, но и без тех миллионов африканских негров, которые были перевезены в Америку в качестве рабочей силы для плантаций и которые после войны за освобождение, как свободный пролетариат, пополняли ряды класса капиталистических наемных рабочих»[476].
Продажа невольников была важной отраслью африканской средневековой торговли. Советский историк Л.Е. Куббель, анализируя арабские источники, отмечает: «Золото Судана оттеснило на задний план в представлениях арабских писателей даже работорговлю. Но и в этих условиях из рассказов таких из них, как ал-Бакри или ал-Идриси можно со всей очевидностью усмотреть и хорошо налаженный, регулярный характер походов за невольниками, и то, что организаторами и участниками этих походов были не североафриканские купцы, а жители торговых городов Судана»[477]. В обществах Ганы, Мали и позднее в Сонгайской державе, как отмечает Куббель, ни на золото, ни на невольников не было спроса, но они стали «важнейшими статьями экспорта под влиянием североафриканского спроса»[478].
Португальцы, продвигаясь в Африку, шли по стопам арабов. Проникнуть вглубь континента в XVI и XVII веках им не удалось, несмотря на страстное желание получить доступ к имевшемуся там золоту. Однако они смогли наладить отношения с местными царьками и вождями прибрежных племен, а также с их коммерческими агентами. Эта племенная элита получала немалые выгоды от своего посреднического положения. Европейские товары обменивались на золото и рабов, поступавших из глубины континента.
Европейцы быстро догадались использовать свои глобальные возможности для торговли на местных рынках. Так, ракушки-каури, которые заменяли деньги в Западной Африке, теперь перевозились тоннами с побережья Индийского океана на европейских судах и обменивались здесь на рабов. Мексиканское серебро шло в Китай для оплаты шелков, а армянские купцы, тесно сотрудничавшие с англичанами, связали испанские Филиппины с Индией. Уже в XVI веке испанские реалы стали самой распространенной денежной единицей на побережье Индии.
Американское серебро и золото превратили европейцев в серьезную коммерческую силу в Азии. Рост западного морского влияния способствовал упадку традиционных караванных путей на Востоке.
Рабы начали использоваться испанцами для замены вымирающих индейцев на островах Карибского моря. Однако именно португальцы наладили эффективную систему поставок, установив стабильные партнерские отношения с африканскими правителями и племенными вождями, поставлявшими им «живой товар». Оживленная торговля людьми развернулась в Сенегале, распространившись затем на Гвинею, Сьерра-Леоне и всю Западную Африку. Португальский путешественник Дуарте Пачеко Перейра (Duarte Pacheco Pereira) писал домой, что дела в этих местах идут великолепно: «когда торговля здесь хорошо налажена, она дает 3,5 тысячи рабов, а то и больше, значительное количество слоновой кости, золото, прекрасную одежду из хлопка и множество других товаров»[479]. Из товаров, привозимых европейцами, наибольшим успехом пользовались лошади и украшения.
За период от открытия Америки до начала XVIII века в Новый Свет было перевезено около 1,5 миллиона чернокожих рабов и еще около 6 миллионов — в течение следующего столетия[480]. Усовершенствования, произошедшие в кораблестроении, появление корабельной вентиляции позволяли резко увеличить количество живого товара, доставляемого на американские плантации. Если в XVII веке по дороге умирал каждый пятый, то к началу следующего века смертность при транспортировке удалось понизить до 10 %, а к концу столетия до 5 %. Другим фактором, способствовавшим расширению работорговли был переход от господства монопольных компаний к режиму свободного предпринимательства, воцарившемуся в Атлантике к середине XVIII века[481].
Разумеется, работорговля отнюдь не была изобретением европейцев. Но именно открытие Америки создало новый спрос и новые рынки для живого товара, а появление европейских предпринимателей позволило поставить этот бизнес на широкую ногу. К началу XVIII века торговля рабами стала для Африки более значимой частью экономики, чем вывоз золота и слоновой кости. Азиатский текстиль привозился в наиболее развитые зоны африканского побережья, где обменивался на живой товар. Европейские авторы того времени отмечали, что африканские потребители «стали хорошо разбираться в европейских и азиатских изделиях» (became very knowledgeable about general European and Asian products).[482] Наряду с текстилем на африканских рынках спросом пользовались мебель и оружие. Португальцы привозили из Бразилии ром и табак.
Африканские продавцы рабов постепенно осваивались с рыночной экономикой, научаясь извлекать максимум выгоды из растущего спроса — цены на живой товар неуклонно росли: «африканцы сами определяли масштабы поставок, решали, каких именно рабов выгоднее предложить на продажу. И они устанавливали цены»[483]. Так что именно в работорговле следует искать исторические корни африканского капитализма.
Между 1576-м и 1591-м годом португальцы перевезли в Бразилию по разным оценкам от 40 до 50 тысяч рабов, главным образом из Конго и Анголы[484]. При этом, однако, к 1600 году чернокожее население Бразилии не превышало 15 тысяч человек, большая часть которых была занята на сахарных плантациях. «Такой разрыв между числом ввозимых рабов и их численностью на плантациях связан с жесточайшими условиями содержания, которые вели к массовой смертности, — пишет английский историк Хью Томас (Hugh Thomas), — планировалось, что раб должен прожить 10 лет после прибытия в Новый Свет, после чего он терял свою трудовую ценность и должен был заменяться новым невольником, привозимым из Анголы или Конго»[485]. С экономической точки зрения оказывалось выгоднее завозить взрослых рабов и эксплуатировать их, доводя до ранней смерти, чем выращивать на плантациях чернокожих детей, которых надо было годами кормить, прежде чем они станут пригодны к работе. Производство сахара было сложным и трудоемким делом, а потому приток рабочей силы требовался постоянно. Значительная часть сахарных плантаций и перерабатывающих предприятий принадлежала крещеным евреям, которые сами были под постоянным наблюдением инквизиции — их подозревали в тайной приверженности иудаизму. Вложить свои капиталы в метрополии эти предприниматели не могли и вынуждены были ограничиваться работой в Бразилии.
В самой Африке развитие работорговли способствовало появлению новой европеизированной элиты, состоявшей из туземной аристократии и купцов, а также мулатов, занимавшихся посредническими операциями. Освоение европейцами морского пути вдоль берега Западной Африки изменило экономическую ситуацию внутри континента. Государства, державшиеся за счет контроля над караванными путями из глубины континента к Средиземному морю, приходили в упадок и разрушались.
В свою очередь в Америке рабство не было первоначально уделом одних лишь черных африканцев. В начале XVI века в испанские колонии отправляли отбывающих наказание преступников. В годы правления Оливера Кромвеля английское правительство отправляло в Вест-Индию ирландцев, захваченных при подавлении восстания. Американский историк Бэйзил Дэвидсон (Basil Davidson) отмечает, что у белых рабов не было никаких привилегий по сравнению с черными: «К европейским рабам и полу-рабам относились примерно так же, как и к чернокожим»[486].
Королевский эдикт 1519 года регулировал для португальских владений условия содержания невольников и требовал их обязательного обращения в христианство, причем непременно — еще до посадки на корабль. Последнее, по всей видимости, было связано с высокой смертностью в процессе транспортировки. Было бы желательно, чтобы рабы умирали христианами. Разработанные португальцами нормы впоследствии легли в основу аналогичных актов, издававшихся в других странах. В частности, забота о душах чернокожих невольников на протяжении столетий оставалась важнейшим этическим вопросом для европейских правителей. В 1648 году акт, изданный французским королем Людовиком XIII, также предусматривал обязательное крещение рабов.
Вслед за португальцами работорговлей занялись испанцы, французы, голландцы и англичане. Первоначально в испанских владениях торговля людьми была налажена плохо и развивалась не слишком успешно, принося больше убытков, чем прибыли. Спрос превышал предложение и рост цен способствовал активизации этого бизнеса во второй половине XVI века. Однако дело осложнилось тем, что королевская власть, отчаянно нуждавшаяся в деньгах, в 1574 году обложила рабовладельцев в Америке налогом, заставляя платить за каждого принадлежавшего им невольника. Администрация Перу отчаянно требовала от правительства в Мадриде принять меры для обеспечения колоний рабами, но должного эффекта не было. Лишь в 1580-х годах, после того как Португалия попала под власть Филиппа II, работорговля в заморских владениях Испании была налажена с помощью опытных португальских купцов, которых финансировали генуэзские банкиры. Корона предоставляла монопольные контракты избранным поставщикам, которые брали на себя обязательство перевести определенное количество живого товара в оговоренный срок. Однако высокая рождаемость в Испании и Италии, откуда продолжалась массовая миграция в колонии, а также наличие многочисленного индейского населения, создавали на рынке труда в испанских колониях ситуацию, разительно отличавшуюся от той, что имела место в Бразилии. Потому испанская работорговля никогда не достигала масштабов португальской. В свою очередь некоторые католические священники уже в конце XVI века выступали с осуждением рабства и требовали освобождения рабов-христиан, что существенно осложняло дело с идеологической точки зрения[487].
К началу XVII века французы закрепились на побережье Сенегала и Гамбии, англичане начали активно торговать с Гвинеей. Португальцы, нуждавшиеся в поставках рабов в Бразилию, после некоторых колебаний стали терпимо относиться к присутствию других европейцев в Африке при условии, что коммерческое влияние не превращалось в политический контроль над территорией. Гораздо драматичнее развивались отношения с голландцами, которые, добиваясь независимости от Габсбургов, находились в войне с Испанией и Португалией. Однако голландцам удалось наладить поставки рабов контрабандно, в обход официальных властей. Важную роль в этом сыграли португальские евреи, переселившиеся в Голландию, чтобы избежать религиозных преследований. Они знали язык и рынок, сохраняли торговые связи в Бразилии и привыкли обходить запреты властей. Перемирие, заключенное между монархией испанских Габсбургов и нидерландскими Соединенными провинциями в начале XVII века, позволило голландцам еще более расширить торговлю с Бразилией. Когда в 1621 году после 12 лет мира вновь развернулись боевые действия, вытеснить голландцев с занимаемых позиций было уже невозможно.
В 1620 году голландский корабль доставил в Виргинию первую партию чернокожих рабов. «Спрос на них был настолько значителен, что вскоре не только голландские корабли доставляли этот груз в изобилии, но и англичане, а также сами виргинские купцы занялись торговлей черным товаром»[488]. Английское правительство пыталось также отправлять в Виргинию осужденных преступников для работы на плантациях, но эта практика вызвала недовольство поселенцев, поскольку каторжники, отбыв наказание, освобождались и начинали жить среди добропорядочных граждан. Напротив, чернокожие рабы оставались в неволе пожизненно, а потому с ними никаких проблем не было.
По мере того как Португалия и Испания уступали ведущие позиции в мировой политике Голландии, а потом Англии и Франции, менялось и соотношение сил в торговле. Королевская Африканская компания (Royal African Company) получила в 1660 году от английской монархии монопольные права на торговлю на этом рынке, главным образом состоявшую в приобретении и продаже невольников. В конце XVII века, когда Испания и Португалия утратили свою прежнюю мощь, а голландцы, побежденные в морских войнах и умиротворенные политическими и коммерческими компромиссами «Славной революции», превратились из конкурентов в союзников, правительство под давлением независимых купцов решилось на отмену монополии. В 1698 году она была отменена частично, а 14 лет спустя — полностью. Купцы из Бристоля и Ливерпуля устремились в этот выгодный бизнес, поставляя рабов на плантации Вест-Индии. «К 1740 годам, — констатирует американский историк Маркус Рэдикер, — они сделали Великобританию мировым лидером в транспортировке живого товара»[489].
В XVIII веке британский, французский и североамериканский капиталы играли возрастающую роль в этом бизнесе. «Развитие британских и французских владений в Карибском море шло таким образом, что потребность в африканских невольниках превышала потребность в заселении островов европейскими колонистами. Число белых, добровольно приезжающих сюда в 1650–1700 годах было куда ниже, чем число привозимых чернокожих рабов, — сообщает Робин Блекборн. — Но в XVIII веке разрыв еще больше увеличился: из Африки завезли около 6 миллионов рабов, а европейцев прибыло в пять или шесть раз меньше»[490]. Не менее миллиона человек погибли при перевозке. Однако после прибытия в Америку далеко не всем удавалось прожить долго. По оценкам историков, «для того, чтобы доставить 9 миллионов рабов за период 1700–1850 годов пришлось поймать около 21 миллиона человек в Африке. Разрыв между этими цифрами говорит сам за себя — примерно 5 миллионов умерло в течение первого года после поимки и еще около семи миллионов были заняты в самой Африке, обеспечивая работу военно-коммерческого аппарата, занятого поставкой невольников».[491]
Существование европейских колоний в Африке было непосредственно связано с развитием плантационной экономики Вест-Индии. В середине XVIII века лондонский «Gentleman’s Magazine» с пафосом доказывал, что африканские торговые базы имеют принципиальное значение для будущего империи: «если из-за безразличия и равнодушия, из-за непонимания их ценности или просто из-за нежелания тратиться на оборону мы потеряем эти поселения, мы потеряем и наши колониальные сахарные плантации; ибо сахарные плантации не могут существовать без негров, а негров можно получать только из Африки»[492].
Рабство и работорговля были важнейшим элементом в механизме накопления капитала, причем не только там, где речь шла о непосредственной эксплуатации труда рабов. Как и любой бизнес, работорговля требовала инвестиций, организации и кредита. Свободные от рабства колонии Новой Англии наживались на этих операциях ничуть не меньше, чем южные колонии, где применялся труд невольников.
«Протестантские купцы Бостона, Салема, Ньюберипорта и Провиданса точно так же, как и их коллеги из Бристоля и Ливерпуля, накопили богатство, работая в треугольнике между Европой, Западной Африкой и Карибами, получая все выгоды от работорговли и использования рабского труда на плантациях», — констатирует Ричард Пит (Richard Peet)[493].
Разумеется, нравственные проблемы, связанные с работорговлей были очевидны уже для самих участников подобных предприятий, которые во многих отношениях были людьми для своего времени вполне передовыми. Среди акционеров голландской Вест-Индской компании (WIC) возникла дискуссия о допустимости подобного бизнеса. Многие участники предприятия, как протестанты, так и евреи, выражали сомнения относительно моральной допустимости торговли людьми. Гуманистически настроенные акционеры по нравственным соображениям отдавали предпочтение пиратству перед работорговлей. Однако жажда прибыли возобладала над соображениями религиозной этики[494].
Рабство было не просто важным элементом колониальной экономики, но и частью формирующейся системы свободного рынка. О поставке рабов рассуждали так же, как и о любом другом товаре, оценивая эффективность вложения средств и перспективы развития бизнеса. Так, британский «Gentleman’s Magazine» напоминает в середине XVIII века о необходимости увеличить «ежегодные поставки негров, которые должны со 160 подняться до 2500 в течение одного сезона»[495].
Система, основанная на рабстве, создавала необходимость сильного государства. Не только для удержания в повиновении массы порабощенных людей, но и для транспортировки и охраны живого товара. Потому даже ослабевшие Испанская и Португальская империи оставались важнейшим элементом в системе Атлантической экономики. Мощные имперские институты были необходимы для сохранения подобного порядка вещей. В этом плане процессы, происходившие в России, Виргинии и Бразилии, не просто параллельны и схожи, но до известной степени однотипны. Разница состояла, однако, в том, что в Америке империя была «внешней», основанной иностранными государствами, тогда как Россия сама являлась великой державой и империей.
IV. Кризис XVII века
Экономика свободной торговли, развитие которой получило в Европе мощный стимул в связи с Великими географическими открытиями, исчерпала себя к середине XVII века. Финансовые ресурсы, казавшиеся неограниченными в связи с неиссякаемым потоком американского золота и серебра, стали гораздо менее доступными. Драгоценные металлы, поступавшие из-за океана, обесценились, масштабы экономики выросли, а заокеанские рудники давали все меньше выработки или требовали дополнительных инвестиций. По мере того как сокращался доступ государства и предпринимателей к финансовым средствам, обнаруживалась и узость европейского рынка. Большинство населения, отнюдь не разбогатевшее за время бурной экономической экспансии, не предъявляло достаточного спроса на товары, предлагавшиеся на рынке. Страны Восточной Европы, которые начали отставать от стремительно развивающегося Запада, готовы были продавать сырье, но не могли предоставить достаточного рынка сбыта ни для его готовой продукции, ни для товаров, поступавших из заморских земель. По мере того как обнаруживалась ограниченность рынка — обострялась конкуренция. Политические конфликты, никогда не прекращавшиеся, вспыхнули с новой силой, накладываясь на внутренние гражданские конфликты и междоусобицы, которые переживали почти все государства.
На первых порах борьба развернулась между традиционными политико-идеологическими блоками — католическим, объединившимся вокруг династии Габсбургов, и протестантским, к которому по соображениям государственного интереса примкнули католическая Франция и православная Россия. Столкновение этих блоков приняло форму общеевропейской войны, беспрецедентной по своим масштабам, численности армий и причиненным ими разрушениям. 30 лет непрерывных боевых действий, наиболее активно разворачивавшихся на территории Германии, привели эту страну к хозяйственной катастрофе, от которой она не могла оправиться до середины следующего столетия. Между тем окончание Тридцатилетней войны не только не означало перехода Европы к мирному существованию, но лишь знаменовало начало новой серии конфликтов, в которых недавние победители столкнулись между собой. Бранденбург воевал со Швецией, Англия и Франция — с Голландией, а затем, победив Голландию, англичане и французы — между собой. Голландская торговая гегемония сменилась британской. Австрийские и испанские Габсбурги продолжали борьбу против французских Бурбонов, но династические и религиозные конфликты играли в этом противостоянии все меньшую роль, уступая принципам государственного интереса, сформулированным во Франции кардиналом Ришелье, испанским первым министром графом Оливаресом (Olivarez) и шведским канцлером Оксеншерной (Oxenstierna). Национальное государство постепенно формировалось на месте династических монархий, и параллельно возникали империи нового типа, активно защищающие интересы собственной буржуазии по всей Европе и на просторах мирового океана. Вера в свободу торговли сменилась ориентацией на государственный протекционизм в рамках меркантилистской системы.
Революционные потрясения изменили политический режим в Англии и угрожали не менее радикальными переменами в Испании и Франции. Смута и бунты сотрясали Московию, а Польша из-за непрерывных внутренних конфликтов утратила способность выступать на европейской арене в качестве полноценного государства, превратившись из субъекта мировой политики в ее объект. Оттоманская Турция — в начале XVII века одна из самых мощных держав — к концу столетия превратилась в отсталую и слабую империю, с трудом удерживающую натиск агрессивных соседей.
Политическая карта и соотношение сил между европейскими государствами радикально изменились в ходе кризиса XVII века. Но не менее серьезные изменения претерпели и их экономическая политика, социальная система и та роль, которую играло правительство в развитии общества.
ГОЛЛАНДСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ
К середине XVII века торговая гегемония Голландии была бесспорным фактом, с которым вынуждены были считаться все державы, независимо от того, как относились они к Республике Соединенных провинций и ее правителям. Несмотря на то что Англия под властью династии Тюдоров стала первой страной, бросившей вызов испано-португальскому господству на морях, именно маленькая Голландская республика оказалась государством, способным радикально изменить ситуацию в свою пользу и выступить в роли универсального торгового посредника не только для всей Европы, но и для значительной части Азии.
После смерти королевы Елизаветы и воцарения в Лондоне династии Стюартов английская монархия все более погружалась в пучину внутренней смуты, противостояние партий и группировок, борьба королей с парламентом и не находящие разрешения социальные конфликты сдерживали внешнюю экспансию. Стюарты поощряли развитие заморской торговли и военного флота, создание колоний, но видели в подобных мероприятиях скорее средство для получения дополнительных ресурсов (по возможности — в обход парламента), способ компенсировать внутреннюю слабость своего режима, узость социальной базы и неэффективность своей европейской внешней политики. Напротив, Голландия, уже пережившая революцию, была способна сконцентрировать ресурсы на главных направлениях, отвечавших интересам победившей буржуазии. История голландской Ост-Индской компании в этом плане показательна. Возникнув позже своего английского прототипа и используя его опыт как образец, голландская компания стремительно вышла в лидеры, заставляя всех остальных европейских купцов подражать себе и мечтать о повторении своих успехов.
Голландская революция была вызвана не только и не столько религиозными разногласиями, сколько желанием Габсбургов использовать финансовые ресурсы Нидерландов для осуществления своей глобальной имперской политики, от которой сама нидерландская буржуазия не получала достаточной выгоды. Использовать те же средства самостоятельно — для формирования собственной морской державы было и разумнее и дешевле.
Голландская торговля XVII века опиралась на опыт, связи и знание рынков, накопленные нидерландскими купцами, работавшими на протяжении нескольких столетий вместе с ганзейскими предпринимателями и итальянцами. Стратегическое положение Нидерландов, через которые осуществлялись сотрудничество и обмен между торговым капиталом балтийской и средиземноморско-атлантической торговых зон, давало их купцам огромные преимущества и возможности уже в XIV–XV веках. Эти возможности резко выросли после открытия Америки и увеличения торговой роли Атлантики. В XVI веке голландцы вслед за англичанами освоили северный торговый путь в Россию, где по их инициативе был основан Архангельск. «Груженые зерном голландские корабли в те времена шли прямо из Архангельска в Ливорно, Геную, Анкону, Горо и Венецию, а оттуда обратно в Амстердам», — пишет голландский историк Ян Виллем Велувенкамп (Jan Willem Veluwenkamp)[496]. Азиатские пряности и персидские шелка, проходя мимо мыса Доброй Надежды, где Соединенные провинции основали свою колонию, доставлялись их судами во все концы Европы. «Все ветви европейской и мировой торговли были тесно связаны друг с другом. Товар, закупленный в одних частях мира, голландцы продавали после дополнительной обработки в своей стране или без таковой в других регионах. По всему миру они закупали товары, на которые был спрос в какой-либо другой части мира, располагая, таким образом, практически неисчерпаемым ассортиментом товаров. Став международными торговыми посредниками, они в самое короткое время завоевали невиданно сильные конкурентные позиции, заложив тем самым основу голландского торгового превосходства в международной торговле, которое оставалось незыблемым на протяжении всего XVII века и пошатнулось лишь в XVIII веке»[497].
На первых порах решающую роль играли знания и связи, накапливавшиеся в течение длительного времени, фактически — несколько столетий. Однако по мере развития мирового рынка голландские предприниматели быстро осваивали новую информацию, налаживали новые связи и формировали новые торговые пути. Опыт торгового посредничества, накопленный в Европе, оказался очень важен для голландцев в Азии, где западные товары практически не имели спроса. Популярное представление о европейской военно-торговой экспансии в Азии XVI века как начале господства «Запада» над «Востоком» не соответствует действительности. Перераспределение ресурсов в мировой экономике первоначально шло однозначно в пользу стран Азии. Европейский спрос вызвал там бурный подъем производства. Утечка серебра из Европы приняла такие масштабы, что заставила одного из португальских авторов заметить: «Из-за этого многие говорят, будто не Португалия открыла Индию, а наоборот»[498].
Как отмечает Гленн Эймс, неспособность европейцев продать свои товары в Азии привела к тому, что они стали расширять посредническую торговлю между азиатскими портами. То был единственный способ «избежать потери огромного количества серебра»[499]. Особенно это было существенно для англичан и голландцев, не имевших собственных месторождений серебра и золота в колониях (португальцы нашли драгоценные металлы в Бразилии к концу XVII века). Такое положение дел сохранялось вплоть до середины XIX века, когда лондонский «Экономист» без особого энтузиазма констатировал, что торговля с Индией и Китаем «столь тесно связаны одна с другой», что развивать одно направление невозможно, не занимаясь и другим[500].
Уже в XVII веке голландцы нашли выход, наладив торговлю между азиатскими портами. Индийский текстиль мог быть легко обменен в Индонезии на специи, китайские товары доставлены в Западную Азию. К концу XVII века одна только голландская VOC закупала 30 % обработанной селитры, производимой в Бенгалии. Европейским спросом было обеспечено 10 % занятости в местном текстильном производстве. Производство специй и перца в Азии удвоилось уже в XVI веке[501]. Стремясь сократить свои издержки, европейские компании все более активно втягивались в посредническую торговлю внутри Азии, тем самым способствуя развитию местного производства.
Транспортные средства в конце XVI века оставались почти столь же неэффективны, как и в Средние века, но рост производительности труда привел к резкому росту количества продукции, которую можно было вывезти на внешние рынки. Пропорционально тому, как увеличивалось производство, менее чувствительными для купцов становились неизбежные потери, связанные с транспортировкой товара. При этом рост производства опережал усовершенствование транспортных средств — корабли, которые бороздили моря в XVII веке, были лишь незначительно лучше тех, что обеспечивали торговую экспансию Запада за сто лет до этого. «Более дешевые товары, а не удешевление транспортировки освободили мир от „тирании расстояния“»[502].
Хотя голландцы были прежде всего торговцами, это были торговцы великолепно вооруженные и готовые без колебания применить силу. Восстание против власти Габсбургов и последовавшая за тем почти постоянная пограничная война с Испанией позволила Соединенным провинциям сформировать эффективную военную организацию не только на море, но и на суше.
«В течение первых двадцати лет открытой борьбы испанцы превосходили нидерландцев в военном отношении, — констатирует Дельбрюк. — Если Вильгельм Оранский и его братья набирали наемное войско, оно оказывалось разнузданным и его били в открытом поле, либо его приходилось снова распускать, так как не могли собрать денег на выплату жалованья. Нидерландцы держались лишь тем, что укрепленные города запирали ворота перед испанцами, и если последние после тяжелой осады и овладевали многими из них и подвергали их ужасным карам, все же всеми овладеть им не удалось…»[503] Большего успеха восставшие достигали в морских операциях, или действуя партизанскими методами. Но задача формирования полевой армии, способной противостоять военной машине Габсбургов, была поставлена и в конечном счете решена с основательностью и настойчивостью, неизменно свойственной голландской буржуазии.
В первые годы XVII века Мориц Оранский, принц Нассау (Maurits van Nassau), возглавив голландские вооруженные силы, провел глубокую реформу, позволившую эффективно использовать сравнительно ограниченные людские ресурсы, которыми располагала республика.
Историки отмечают, что реформы, предпринятые Морицем Оранским в армии Соединенных провинций, можно считать «переломным моментом в истории армий и военной организации»[504]. Поскольку под его командой сражались английские полки, «голландская школа» была хорошо изучена и понята в Англии, повлияв во время революции на формирование «армии нового образца» Оливера Кромвеля. Влияние «голландской школы» испытала на себе и шведская армия короля Густава Адольфа, а позднее — прусская армия.
Подойдя к делу с вполне буржуазной практичностью, принц Мориц начал с организации материально-технического обеспечения армии. Поскольку грабежи и бесчинства наемников Вильгельма Оранского нанесли очевидный ущерб делу республики, задача состояла в том, чтобы создать армию дисциплинированную, хорошо оплачиваемую, но при том не слишком дорогую. Кормить солдат за счет военной добычи было практически невозможно, тем более что военные действия на первых порах были преимущественно оборонительными и велись на собственной территории. Увеличено было количество офицеров, появились унтер-офицеры, причем «этому командному составу каждый месяц приходилось платить почти столько же, сколько всем солдатам целой роты»[505]. Однако благодаря наведенному в военной организации порядку, суммарные расходы снизились. Как замечает Джонатан Израель (Jonathan Israel) в своей, ставшей классической, истории Голландской республики, «после 1585 года обществу пришлось приспособиться к ситуации, ранее в Европе невиданной, когда требовалось долгие годы содержать большие массы солдат, расквартированных среди гражданского населения, поддерживать сильные гарнизоны в густонаселенных городах»[506]. Однако дело было организовано таким образом, что размещение гарнизонов стало для местного населения делом скорее выгодным, нежели обременительным. Жалованье войскам выплачивалось регулярно и щедро, зато солдаты обязаны были за все платить местным жителям, среди которых были расквартированы. Насильников и мародеров безжалостно вешали. Во время одной из осад принц Мориц приказал повесить солдата за то, что он украл шляпу[507].
В основе тактических идей Морица Оранского лежало пристальное изучение теоретических и исторических книг древних авторов, по словам своих биографов, принц «изучал все, что практиковалось у древних греков и римлян в области военного искусства, и не боялся ни труда, ни усилий, ни расходов»[508].
Большое внимание уделялось строевой подготовке. В 1607 году Якоб де Гейн (Jacob de Gheyn) выпустил знаменитый учебник, который был переведен на все европейские языки. Многочисленные немецкие князья на его основе подготовили учебники для собственных армий. А Фридрих-Вильгельм, курфюрст Пруссии, специально изучал военное дело при дворе нидерландских штатгальтеров. Офицерам теперь тоже требовалась профессиональная подготовка. В 1616 году в Зигене (Siegen) была основана первая военная академия.
Голландские мушкетеры научились быстро и эффективно перестраиваться. Поскольку требовалось время, чтобы перезарядить оружие, отстрелявшиеся шеренги отходили назад, проходя через строй следующей шеренги и не вызывая при этом беспорядка и сумятицы. Оружие начало стандартизироваться, что было не только важно для организации огня, но и выгодно для владельцев мануфактур, поставлявших армии мушкеты и боеприпасы большими партиями.
Благодаря постоянной муштре, как отмечает Дельбрюк, у голландцев появилась возможность не только строить пехоту большими квадратными колоннами, но и «формировать мелкие колонны и передвигать их самыми различными способами»[509]. Войска стали более мобильными, командующий теперь мог безотлагательно и эффективно реагировать на меняющуюся обстановку. Стрелки умели быстро отступить под прикрытие пикинеров и алебардщиков (штыка в Европе еще не было), которые мгновенно заполняли образующуюся брешь в строе. Постепенно складывался новый линейный боевой порядок, позволявший максимально использовать возможности огнестрельного оружия.
Тем не менее Мориц, подобно прочим военным и политическим лидерам Соединенных провинций, отличался осторожностью и прагматизмом, избегая рискованных предприятий и не стремясь к захвату стратегической инициативы. «Несмотря на интенсивную реформу голландской военной машины, — пишут историки, — управитель и командующий голландскими войсками предпочитал захватывать укрепленные города и городки, удерживаемые испанскими гарнизонами, вместо того, чтобы искать возможности дать врагу битву в открытом поле»[510]. Однако в 1600 году, когда оказалось невозможно избежать решающей битвы, возле городка Ньюпорт (Nieuwpoort) во Фландрии ему удалось нанести решающее поражение испанской армии. Секрет победы состоял в том, что Мориц вводил в бой свои английские и голландские полки поэтапно, а испанцы атаковали большими колоннами: в решающий момент, когда сражение казалось испанцам почти уже выигранным, в него вступили свежие силы голландцев, против которых резервов у противника уже не было.
По мере того как военные силы Соединенных провинций росли, увеличивалась и готовность к их применению. Параллельно с оборонительной войной в Европе Голландия развернула наступательные войны в Америке и Азии.
В борьбе за контроль над рынком пряностей амстердамские олигархи столкнулись с не менее жесткой купеческой олигархией островов Банда (Banda Islands). Купцы-мусульмане, доминировавшие в водах Индийского океана, воспринимались европейцами не только как конкуренты, но и как враги веры. Агрессивность и коварство местных правителей, ненадежность и мошенничество купцов постоянно подчеркивались в европейских рассказах об Азии, не в последнюю очередь для оправдания собственных поступков (с волками жить по волчьи выть). Эти рассказы отнюдь не были плодом фантазии авторов, а если и считать их своеобразной формой пропаганды, то эта пропаганда была эффективна именно потому, что опиралась на реальные факты. Но и европейцы не отставали от своих азиатских учителей. Бандийская война (Bandese War) началась в 1609 году после того, как местные олигархи убили голландских представителей. Борьба приняла затяжной характер, и в 1615 году на острова была отправлена экспедиция, получившая приказ истреблять бандийских мусульман «а затем заселить страну язычниками» (and repopulate the country with pagans)[511]. Губернатором голландских владений в Ост-Индии был назначен Ян Питерсзон Кун (Jan Pieterszoon Coen), столь добросовестно и точно выполнивший эти указания, что в 1617 году сами амстердамские олигархи (Heren) испытали некое подобие угрызений совести: «мы предпочли бы добиться цели с помощью несколько более умеренных мер» (we would have wished for matters to be taken care of with more moderate measures)[512]. В 1619 году на гребне успеха голландцы захватили Джакарту, надолго превратив ее под именем Батавии в свой военно-торговый центр и опорную базу в регионе.
С самого начала своего существования VOC повела активное наступление на позиции европейских конкурентов, прежде всего англичан, используя вооруженные силы для завоевания коммерческих преимуществ. Английские купцы подвергались нападениям, их фактории захватывались и уничтожались, их защитников вырезали. Затем началось наступление на позиции Португалии. VOC вообще была создана в значительной степени не как торговое предприятие, а как организация для завоевания португальских владений в Азии. В 1638 году голландские войска высадились на Цейлоне. Местные португальские гарнизоны защищались отчаянно. Как признавали сами голландцы: «Большинство португальцев в Азии смотрят на эти места как на свою родину и не собираются возвращаться в Португалию»[513]. Однако силы буржуазной республики оказались куда более значительными, чем ресурсы слабеющей лиссабонской монархии.
Отделение Португалии от Испании не привело к прекращению военных действий против нее со стороны Голландии. Напротив, Соединенные провинции резко усилили нажим на ослабевшее королевство. Голландцы договорились с уставшими от португальского протектората королями Конго, а в 1641 году захватили Луанду. Под их контроль перешла значительная часть Бразилии. Теперь можно было резко увеличить масштабы работорговли, соединив контроль над рынками с военным и торговым господством на море. Бизнес процветал. Если в 1642 году голландцы переправили и продали в своих владениях 2000 рабов, то в 1644 году — уже 5565[514].
К середине XVII века голландцам удалось захватить значительную часть португальской империи в Азии, Африке и Америке. Ими были заняты Ангола, Цейлон, Малабар и Малакка. Голландские войска высадились в Бразилии. Слабеющая португальская держава подвергалась атакам со всех сторон. Совместная экспедиция персов и англичан в 1622 году захватила Ормуз (Hormuz). Маскат был завоеван султанатом Омана. В Марокко арабы теснили португальские позиции. Однако к 1670-м годам, когда Голландия сама оказалась под ударом со стороны Англии и Франции, португальские короли смогли вернуть часть своих владений. Понимая, что невозможно отвоевать все, правительство в Лиссабоне сосредоточилось на борьбе за Атлантику. В Бразилии голландское господство, гораздо более эффективное, а потому и более жесткое, чем власть португальской короны, вызвало сопротивление, причем не только среди белых колонистов, но и среди индейского и чернокожего населения. Вспыхнувшее восстание закончилось изгнанием пришельцев, а затем объединенные португальско-бразильские силы изгнали голландцев и из Анголы.