Хребты безумия (сборник) Лавкрафт Говард
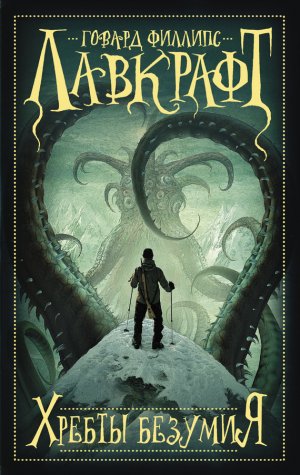
Немногие сознают, какие неведомые дали раскрываются в историях и мечтах их юности; ибо дети, слушая и мечтая, не пытаются вгонять мысли в какие-то рамки, а когда мы пытаемся вспомнить уже будучи взрослыми, то воспоминания получаются скучными и унылыми, отравленными ядом жизни. И все же некоторые из нас просыпаются среди ночи, увидев диковинные фантазии: зачарованные горы и сады, поющие под солнцем фонтаны, золотые пики гор, вздымающиеся возле ласковых морей, долины, простирающиеся вокруг спящих городов из камня и бронзы, удалых воинов, разъезжающих по опушкам густых лесов на белых лошадях, покрытых попонами; и тогда мы догадываемся, что заглянули через ворота из слоновой кости в мир, открытый для нас прежде, когда мы еще не были так мудры и несчастны.
Куранес внезапно смог вернуться в прежний мир своего детства. Ему снился дом, где он родился, большой, увитый плющом, в котором прожили тринадцать поколений его предков и где он надеялся умереть и сам. Летней лунной ночью он тайком выбрался в сады, спустился вниз, по террасам, мимо парка со старыми дубами и вышел на длинную белую дорогу, ведущую к деревне. Деревня казалась очень старой на вид, с покосившимися, будто начинающая убывать луна, домами на околице, и Куранес невольно задумался: что же таится в домах с островерхими крышами: сон или смерть? Посреди улицы росла высокая трава, а дома смотрели на него взглядом непроницаемо грязных стекол либо пустыми глазницами. Куранес шел не останавливаясь, будто куда-то конкретно. Он не пытался проявлять своеволия, опасаясь, что все окажется иллюзией, как мечты и устремления повседневной жизни, никогда ни к чему не приводящие. Потом он свернул из деревни к обрыву – и внезапно оказался на краю света, у бездны, возле которой стояла деревня; весь мир заканчивался, и взору открывалась бесконечная пустота, не содержащая ничего, и небо над ней было пустое, не освещалось даже ущербной луной или мерцанием звезд. Глубокая внутренняя убежденность сподвигла Куранеса сделать шаг вперед, и он медленно полетел вниз, плыл все ниже и ниже, миновал темные, бесформенные, неприснившиеся сны, слабо светящиеся сферы частично приснившихся сновидений и смеющихся крылатых эльфов, которые, казалось, высмеивали всех мечтателей мира. Потом тьма перед ним расступилась, и Куранес увидел ущелье и город в долине, сверкающий вдали на фоне неба, моря и снежной вершины горы, вздымающейся возле моря.
Куранес проснулся в тот же миг, как увидел город, но этого мига ему хватило – он сразу узнал Селефаис, город в долине Оот-Наргаи за Танарианскими холмами, где его дух обитал целую вечность в тот час давнего летнего полдня, когда он убежал от няньки и, наблюдая за плывущими облаками, заснул возле деревни, убаюканный теплым морским бризом. Он был крайне недоволен, когда его нашли и разбудили, потому что во сне собирался отплыть на золотой галере в чудесные края, где море смыкается с небом. Вот и на этот раз Куранес, проснувшись, почувствовал досаду, потому что нашел свой сказочный город после сорока тоскливых лет.
Но через три ночи Куранес снова вернулся в Селефаис. Как и в прошлый раз, сначала ему приснилась деревушка, сонная или вымершая, и бездна, через которую он должен был безмолвно перелететь; затем снова перед ним оказалось ущелье, и он увидел сверкающие минареты города, изящные галеры, стоявшие на приколе в голубой гавани, и китайские деревья гинкго на горе Аран, колышущиеся от морского бриза. Но на сей раз никто не выхватил его из мира грез, и он, как крылатое существо, опустился на поросшую травой полянку на склоне горы, и ноги его мягко коснулись травы. Наконец ему удалось вернуться в долину Оот-Наргаи к замечательному городу Селефаис.
Спускаясь с горы, Куранес наслаждался ароматом трав и любовался красочными цветами; он перешел бурную журчащую речку Нараксу по деревянному мостику, на котором много лет назад вырезал свое имя, миновал рощицу и подошел к большому каменному мосту у городских ворот. Здесь ничто не изменилось: не потемнели мраморные стены, не покрылись патиной украшавшие их бронзовые скульптуры. И Куранес понял: ему не надо опасаться, что все здесь стало совсем другим. Даже часовые на крепостном валу были те же самые и такие же молодые, какими он их запомнил. Тогда Куранес вступил в город через бронзовые ворота и прошел по ониксовым мостовым, а купцы и погонщики верблюдов приветствовали его, как будто он никуда надолго не уходил, и то же самое повторилось в бирюзовом храме Нат-Нортат, где жрецы в венках из орхидей объяснили ему, что в Оот-Наргаи время не движется и здесь всегда вечная юность. Затем Куранес прошел по Столбовой улице к той части крепостного вала, что граничила с гаванью, где толпились купцы и моряки, а также чужестранцы из тех краев, где море смыкается с небом. Куранес долго стоял на крепостном валу, глядя на ярко освещенную гавань, на морскую рябь, сверкавшую под непривычным солнцем, на галеры, скользившие по воде. Трудно было оторвать взгляд от горы Аран, царственно возвышавшейся над морем, нижняя часть склонов которой была зелена от растительности, а снежный пик упирался в небо.
Куранесу безумно хотелось отплыть на галере в те удивительные края, о которых слышал так много чудесного, и он отправился на поиски капитана, когда-то давно согласившегося взять его с собой в плавание. Он разыскал этого человека, Атхиба, сидящим на том же самом сундуке с пряностями и, казалось, даже не заметившим, сколько времени прошло. Затем они вдвоем подплыли к галере, стоявшей на якоре, капитан отдал приказ гребцам, и галера вышла в бурное Серенарианское море, которое где-то вдали сливается с небом. Несколько дней галера неслась по волнам, и наконец путники приблизились к горизонту, туда, где море смыкается с небом. Галера, не замедляя хода, вплыла в голубизну неба и двинулась меж пушистых облачков, слегка розоватых от света солнца. А далеко внизу, под килем, Куранес видел незнакомые земли, реки и города неслыханной красоты, нежившиеся в лучах солнца, которое здесь никогда не заходило. Наконец Атхиб сказал, что путешествие подходит к концу: они приближаются к гавани Серанниана, облачного города, построенного из розового мрамора на эфирном берегу, где западный ветер начинает дуть в небо. Но когда на горизонте стали видны самые высокие из башен этого города, Куранес услышал звук, от которого проснулся в своей лондонской мансарде.
После этого он многие месяцы тщетно искал чудесный город Селефаис и галеры, уплывающие к небу, и хотя посетил в грезах много чудных, невиданных мест, никто из встреченных им не помог ему отыскать Оот-Наргаи, лежащий за Танарианскими холмами. В одну из ночей он пролетал над темными горами, где на большом расстоянии друг от друга горели едва различимые костры – там паслись стада диковинных косматых животных, и на шее у вожаков висели колокольчики, позвякивающие при ходьбе, – и в самой глухой части этой затерянной в горах страны, куда редко проникали путешественники, он приметил очень древнюю стену, изгибами проходящую через горы и долины, настолько громадное сооружение, что не верилось, что это дело рук человеческих: и в ту и в другую сторону стена уходила куда-то вдаль. За этой стеной в предрассветных сумерках он увидел странные сады с вишневыми деревьями, а когда взошло солнце, пред ним предстал прекрасный мир белых и красных цветов, сочной зеленой листвы, белых дорожек, сверкающих ручейков и голубых маленьких озер, резных мостиков и пагод с красными крышами – настолько прекрасный, что Куранес в восхищении на миг забыл про Селефаис. Но, направившись к пагоде, он вспомнил про чудесный город – и спросил бы местных людей про него, но обнаружил, что здесь обитают только птицы, пчелы и бабочки. В другую ночь Куранес поднимался по бесконечной винтовой лестнице из мокрого камня и наконец увидел в лунном свете из окна башни долину и реку; на противоположном берегу реки лежал спящий город, и Куранесу показалось, что он узнает знакомые места. Он собирался уже спуститься и спросить, как добраться до Оот-Наргаи, но вдруг из-за горизонта выплыла яркая звезда, и Куранес понял, что перед ним руины города и не река, а болото, поросшее камышом, а на всем вокруг лежит печать смерти – с тех пор как король Кинаратолис вернулся из завоевательного похода и узрел месть богов.
Вот так Куранес тщетно искал сказочный город Селефаис с его галерами, плавающими в небесный град Серанниан, а попутно видел много чудес и однажды едва спасся от верховного жреца, о котором лучше умолчать, но скажу лишь, что тот скрывал лицо желтой шелковой маской и жил в полном одиночестве в очень древнем каменном монастыре, стоявшем на холодном пустынном плато Ленг. Со временем Куранесу стали настолько постылы бесцветные дни, разделяющие ночи, что он, желая продлить ночные грезы, стал пользоваться наркотиками. Полезным в этом отношении оказался гашиш, и с его помощью Куранес совершил путешествие в удивительное пространство, где отсутствует форма, а светящиеся газы изучают тайны жизни. Фиолетовый газ рассказал Куранесу, что это пространство находится за пределами того, что он назвал бы бесконечностью. Этот газ никогда раньше не слышал о планетах и живых организмах, но смог определить, что Куранес явился из той бесконечности, где существуют материя, энергия и сила притяжения. Куранес безумно жаждал вернуться в Селефаис с его дивными минаретами и потому стал принимать более сильные дозы наркотиков. Но в один прекрасный летний день все деньги у него закончились, и покупать наркотики было не на что; его выселили из мансарды, и он, бесцельно бродя по улицам и перейдя по очередному мосту, оказался в глухой оконечности города, где дома попадались все реже и реже. Но внезапно здесь его ожидания сбылись: Куранес повстречал кортеж рыцарей из Селефаиса, прибывший, чтобы забрать его с собою навсегда.
Они были прекрасны, эти рыцари на чалых лошадях, в сверкающих доспехах и расшитых золотом плащах с гербами. И так многочисленны, что поначалу Куранес по ошибке принял кортеж за войско; но их прислали, чтобы оказать ему особую честь: ведь Куранес создал Оот-Наргаи своими мечтаниями, и потому теперь его навечно назначили верховным богом города. Рыцари усадили Куранеса на коня, и он поскакал в голове кавалькады. Величественная конница выехала на равнины Суррея и вскоре миновала родовой замок Куранеса, где жили когда-то его предки. Но вот что удивительно: скача вперед, всадники совершали обратное путешествие во времени. Так, проезжая в сумерках деревню, Куранес видел дома и людей такими, как видел их Чоcep или его предшественники, и порой им попадались рыцари верхом в сопровождении своей прислуги. Когда стемнело, лошади побежали резвее, а в ночи и вовсе полетели, будто по воздуху. В предрассветных сумерках они приблизились к деревне, которую Куранес видел обитаемой в детстве, а потом, в другом сне, спящей или вымершей. Сейчас она была обитаема, и деревенские жители, поднявшиеся рано утром, кланялись проезжавшим всадникам, сворачивавшим на улицу, которая во сне обрывалась пропастью. Прежде Куранес бывал у пропасти только ночью, теперь он жаждал увидеть бездну при свете дня и нетерпеливо подгонял своего коня. Едва все они приблизились к краю пропасти, с запада разлился золотой свет и закрыл все вокруг лучезарной завесой. Пропасть казалась бурлящим хаосом розового и небесно-голубого цвета, и невидимые голоса запели ликующий гимн, когда всадники ринулись вниз и поплыли среди сверкающих облаков в серебристом сиянии. Казалось, бесконечно долго падают вниз всадники, а кони их ступают по золотым облакам, как по золотому песку в пустыне, но наконец лазурная завеса распахнулась, открывая подлинное великолепие – изумительную красоту Селефаиса на берегу моря и горного снежного пика над ним. Галеры ярких расцветок плыли из гавани в далекие края, где море смыкается с небом.
И Куранес стал верховным правителем Оот-Наргаи, города своей мечты, и его окрестностей, а двор его располагался попеременно в Селефаисе и городе в облаках Серанниане. Он и сейчас там правит и будет править вечно, несмотря на то что возле утесов Инсмута волны насмешливо поигрывали телом бродяги, забредшего на рассвете в полупустую деревню, потаскали его вдоль берега и выбросили возле Тревор-Тауэрс, где преуспевающий пивовар, ставший миллионером, наслаждался атмосферой приобретенного не так давно старинного родового имения деградирующей аристократии.
1922
Усыпальница
Перевод Валентины Кулагиной-Ярцевой
Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для умалишенных и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, умственные представления большинства людей слишком ограниченны для того, чтобы разумно и терпеливо оценить те отдельные явления, которые лежат за пределами повседневного опыта и которые способны увидеть или ощутить лишь немногие психологически восприимчивые люди. Хотя человеку с широкими взглядами известно, что не существует четкого различия между реальным и нереальным, что все существующее представляется таким как есть лишь благодаря тонким индивидуальным умственным и физическим особенностям, посредством которых мы воспринимаем его, прозаическое большинство считает безумием проблески озарения, проникающие сквозь грубую завесу банального эмпиризма.
Мое имя Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи позволял мне не заниматься доходной деятельностью, а неуравновешенность характера не содействовала регулярным занятиям и отдыху в обществе знакомых. Я пребывал в сферах, далеких от реального мира, юность и молодость моя прошли за чтением старинных и редких книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю, что я находил в этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или находили другие, но не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь послужит подтверждением грубой клеветы на мой разум, клеветы, которую мне не раз доводилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, не анализируя их причин.
Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я существовал один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно находит себе компанию из не живущих более или из предметов неодушевленных.
Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых зарослях, я проводил почти все время, – то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам. По ее мшистым склонам я делал первые детские шаги, вокруг ее покрытых причудливыми наростами дубов сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях дриад, и не раз наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны… но об этом я не стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых темных зарослях – о заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайдов, последний прямой представитель которого упокоился в этом темном обиталище за много десятилетий до моего рождения.
Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита, выветрившегося и выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная дверь – плита, висевшая на ржавых железных петлях, – преграждала вход. Дверь была затворена неплотно – в этом угадывалось нечто зловещее – и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница, но уже много лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. О полуночной буре, разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старожилы здешних мест, глухо намекая на то, что они называли «божьим гневом». Но очарование скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось. Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайдов перебралось в другую страну, и когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов, скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы, в печальной тени, которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне.
Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями обитель смерти. Стоял июль – время, когда алхимия лета преображает лес в сливающуюся воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря влажной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит в очарованном сознании.
Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои десять лет я видел и слышал много чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был на удивление взрослым. Когда, пробираясь между густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпальницу, то не имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные плиты, странно приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни печальных, ни пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантазировал, но, принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от прямого соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение на поросшем лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное нутро, куда я тщетно пытался заглянуть сквозь дразнящую щель, не связывалось у меня со смертью и разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием, которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавшие путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаясь пошире открыть каменную дверь, потом пробовал протиснуться в щель; но ни то ни другое мне не удалось. И если поначалу меня снедало простое любопытство, то тут я пришел в неистовство; в сумерках вернувшись домой, я поклялся сотне богов этой рощи, что любой ценой когда-нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призывали меня.
Доктор с седоватой бородкой, который ежедневно появляется в моей комнате, однажды сказал тому, кто навещал меня, что это решение знаменовало начало достойной сожаления мономании; но вынесение окончательного приговора я предоставляю моим читателям – после того как они узнают обо всем.
Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок чуть приоткрытой усыпальницы и в осторожных расспросах о характере и истории обнаруженного мною сооружения. Дети, как правило, имеют обыкновение прислушиваться к разговорам, таким образом, я многое узнал, но привычка к скрытности не позволила мне ни с кем поделиться ни своим открытием, ни принятым решением. Наверное, следует упомянуть, что я не был ни удивлен, ни испуган, узнав об истинном назначении усыпальницы. В моих довольно своеобразных представлениях о жизни и смерти холодный прах и живое, трепещущее тело были связаны довольно слабо; я просто чувствовал, что злополучное благородное семейство каким-то образом представлено в одетом камнем пространстве, которое я стремился исследовать. Невнятные толки о таинственных ритуалах и нечестивых празднествах прошлых лет, которые совершались в старинной усадьбе, лишь усилили мой интерес к гробнице, и я ежедневно просиживал часами перед ее порталом. Однажды я просунул свечу в узкую дверную щель, но не увидел ничего, кроме сырых каменных ступеней ведущей вниз лестницы. Запах усыпальницы и отпугивал, и околдовывал меня. Казалось, он знаком мне, знаком с давних, за пределами воспоминаний, времен, предшествовавших моему воплощению в теперешнем теле.
На следующий после моего открытия гробницы год я случайно наткнулся на старый, заплесневелый том перевода «Жизнеописаний» Плутарха на забитом книгами чердаке собственного дома. Читая жизнеописание Тезея, я поразился рассказу об огромном камне, под которым юный герой должен был найти знамения своей судьбы, как только станет достаточно взрослым, чтобы поднять такую тяжесть. Эта легенда умерила мое страстное желание проникнуть в усыпальницу, внушив мне, что время еще не пришло. Позже, сказал я себе, став сильнее и хитроумнее, я без труда открою тяжелую, запертую на цепь дверь, а пока надо покориться велению Судьбы.
Таким образом, мои бдения около поросшего мхами портала стали реже, но большую часть времени я проводил в не менее странных занятиях. Иногда я потихоньку вставал по ночам и украдкой выбирался на прогулки по тем самым кладбищам и погостам, от которых оберегали меня родители. Что там делалось, я не буду рассказывать, потому что теперь не совсем уверен в реальности происходившего; но я помню, как после таких ночных прогулок я часто удивлял окружающих знанием подробностей, не сохранившихся в памяти поколений. Однажды я поразил домашних необычным рассказом о похоронах известного сквайра Брустера, влиятельного в наших местах и богатого человека, умершего в 1711 году; его надгробный памятник из серого с синеватым отливом сланца, на котором были выбиты череп и скрещенные кости, с течением времени понемногу рассыпался в пыль. В порыве детской фантазии я объявил, что владелец похоронной конторы, Гудмен Симпсон, украл башмаки с серебряными пряжками, шелковую одежду и атласное белье покойника, и добавил, что сам сквайр, которого не совсем покинула жизнь, дважды перевернулся в зарытом в землю гробу на следующий день после погребения.
Мысль о том, чтобы проникнуть в гробницу, не оставляла меня; неожиданно сделанное генеалогическое открытие – по материнской линии мои предки были в отдаленном родстве с Хайдами, род которых, как считалось, пресекся, – лишь укрепило мою решимость. Я оказался последним потомком не только отцовского рода, но также и этого, более древнего и более таинственного. Я начал ощущать, что эта гробница моя, и с нетерпением ждал, когда наконец, открыв дверь, смогу оказаться внутри и сойти по скользким каменным ступеням во тьму. У меня создалась привычка внимательно прислушиваться, сидя у приоткрытой двери, я выбирал для этих странных бдений тихую полуночную пору. С годами мне удалось расчистить небольшую прогалину в зарослях перед замшелым каменным порталом на склоне холма, а ветви росших вокруг деревьев переплелись, образовав стены и купол лесного шатра. Этот шатер был моим храмом, закрытая дверь – святыней, и часто, когда я лежал там, растянувшись на мшистой земле, меня посещали удивительные мысли и удивительные грезы.
Ночь, когда я совершил первое открытие, была душной. Очевидно, я задремал и, пробуждаясь, ясно услышал голоса. Их тон и произношение удержали меня от того, чтобы заговорить; их тембр заставил меня промолчать; могу поручиться, что лексика, манера говорить и сами высказывания разительно отличались от современных. Все особенности новоанглийского диалекта – и четкая риторика полувековой давности, и характерное неблагозвучное произношение колонистов-пуритан, казалось, были представлены в этой беседе теней, хотя это я осознал только впоследствии. А в тот момент мое внимание привлекло совсем другое явление, настолько мимолетное, что я не поручился бы за его реальность. Просыпаясь, я увидел, как мелькнул и тут же погас свет внутри забытой гробницы. Это не вызвало у меня ни удивления, ни испуга, но я убежден, что в ту ночь я коренным образом и навсегда переменился. Вернувшись домой, я поднялся на чердак, уверенно направился к полусгнившему сундуку и обнаружил там ключ. На следующий день я легко отпер дверь, которую так долго и напрасно старался открыть. В мягких сумерках я в первый раз проник в усыпальницу на давно опустевшем склоне. Я был точно околдован, сердце колотилось, я ощущал неописуемое ликование. Закрыв дверь, я стал спускаться по ступеням, как будто давно их знал; свеча то и дело мигала в удушливых испарениях, но я чувствовал себя в этом затхлом склепе как дома. Оглядевшись вокруг, я увидел множество мраморных плит с гробами или остатками гробов. Некоторые были закрыты и совершенно целы, другие почти рассыпались, и их серебряные ручки и накладки валялись среди странных кучек беловатой пыли. На одной из серебряных пластин я прочел имя сэра Джеффри Хайда, приехавшего из Сассекса в 1640 году и умершего несколькими годами позже. В глубине просторной ниши стоял прекрасно сохранившийся гроб, украшенный только пластинкой с именем – именем, заставившим меня и улыбнуться, и вздрогнуть. Повинуясь странному импульсу, я влез на широкую плиту, погасил свечу и улегся в него. На раннем рассвете я, пошатываясь, вышел из усыпальницы и запер дверь на цепь. Юность моя закончилась, хотя всего двадцать один раз зимние холода успели проморозить мое бренное тело. Жители деревни, рано начинавшие день, бросали на меня любопытные взгляды, удивляясь следам якобы бурной пирушки на лице юноши, который, как им было известно, вел уединенную и воздержанную жизнь. Перед родителями я решился предстать лишь после долгого освежающего сна.
С тех пор гробница служила мне убежищем каждую ночь. Не стану рассказывать о том, что я видел, слышал и делал. В первую очередь изменения произошли в моей речи, на которой всегда сказывалось влияние окружения, и появившаяся в ней архаичность вскоре была замечена. Неожиданно для себя я сделался на диво дерзким и безрассудным. Изменились манеры, я стал вести себя как светский человек, несмотря на то что жил всю жизнь отшельником. Прежняя замкнутость сменилась разговорчивостью, мне стало доступно и легкое изящество речи Честерфилда[5], и нечестивый цинизм Рочестера[6]. Я проявлял удивительную эрудицию, не имевшую ничего общего с чуть ли не монашеской образованностью, приобретенной мною в юности; я покрывал форзацы своих книг импровизированными легкими эпиграммами в духе Гея и Прайора[7]. Однажды за завтраком я сам приблизил катастрофу, вдохновенно продекламировав – с интонациями явно подвыпившего человека – стихотворение XVIII века, эпохи короля Георга, игривую застольную песнь, полную вакхического веселья, которой не найти ни в одной книге, и звучавшую примерно так:
- Мы эля в тяжелые чаши нальем
- И выпьем за то, что пока мы живем;
- Пускай громоздится в тарелке еда —
- Поесть и напиться мы рады всегда.
- Подставь же стакан!
- Жизнь так коротка.
- За гробом не выпьешь уже ни глотка!
- Был красен от выпивки Анакреон,
- Но счастлив и весел при этом был он.
- Пусть буду я красным, но все же живым,
- Чем белым, как мрамор, и столь же немым!
- Эй, Бетти, друг мой!
- Целуйся со мной!
- В аду не найти мне подружки такой!
- Красавчика Гарри держите, не то,
- Парик потеряв, упадет он под стол!
- А сами наполним мы кубки опять,
- Все ж лучше под лавкой, чем в яме, лежать!
- Здесь смех и вино,
- Веселья полно;
- В могиле тебе недоступно оно.
- Черт, как я надрался! Шагнуть не могу,
- Стоять не могу, и язык – ни гу-гу!
- Хозяин, порядок пора навести!
- До дома попробую я добрести.
- Кто мне бы помог?
- Не чувствую ног,
- Но весел, пока не прибрал меня Бог![8]
Примерно в это же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня никакого впечатления, теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов – сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий нижний подвал, о котором я, как выяснилось, знал, несмотря на то что о его существовании многие годы никто не вспоминал.
Наконец произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими передвижениями, и это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы, с детских лет благоговейно храня свои тайны; теперь же я вынужден был с еще большей осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице.
Как-то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердой рукой, я заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядатая. Конец был явственно виден, ведь мое убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатай не остановил меня, и я поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью станет известно всем?
Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатай рассказывает боязливым шепотом, будто я провел ночь возле усыпальницы, обратясь лицом к неплотно закрытой двери! Каким чудом он мог так обмануться? Несомненно, сверхъестественные силы покровительствовали мне! Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал, не таясь, посещать усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я наслаждался загробным общением, которое не стану описывать, а потом произошло это, и я был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие.
В ту ночь я не собирался выходить: в тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими огоньками фосфоресцировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по-иному. Меня тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой-то мере ожидал. Перед моим восхищенным взором вновь возник во всем своем великолепии особняк, рухнувший столетие назад; все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех, у каждого в руке был бокал с вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знавал их уже ссохшимися, тронутыми смертью и разложением. В этой дикой, нечестивой толпе я был самым диким и самым беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств, я произносил речи, в которых отрицал все законы – и божеские, и человеческие, и природные.
Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар охватили здание; участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался один, меня удержал на месте унизительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я заживо сгорю дотла, а пепел мой развеется по ветру, я никогда не буду лежать в усыпальнице Хайдов! Разве не ждет меня мой гроб? Разве нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? Вечный! Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть даже душе моей пришлось бы столетиями искать воплощения в теле, которое сможет упокоиться в нише склепа. Джервас Хайд не разделит печальной участи Палинура! [9]
Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что исступленно кричу и бьюсь в руках двух мужчин, один из которых – тот самый шпион, выслеживавший меня у гробницы. Дождь лил как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг – след мощного удара, ниспосланного с небес; из этого развороченного ударом молнии места несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете фонарей небольшую шкатулку старинной работы.
Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами «Дж. X.», изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде XVIII века парике с кошельком. Насколько я мог разглядеть, лицо его было точной копией того, что я ежедневно видел в своем зеркале.
На следующий же день я оказался в этой комнате с зарешеченными окнами, но кое-что мне продолжает сообщать старый слуга – простая душа, которого я любил в детстве и которому, как и мне, нравятся кладбища. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь и что, как оказалось при ближайшем рассмотрении, ржавого замка в течение последних пяти десятков лет никто не трогал. Он даже говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители и что меня часто видели у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти утверждения, у меня нет, ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я почерпнул во время ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения старинных книг из фамильной библиотеки. И если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне веру. Он совершил нечто, позволяющее мне сделать, во всяком случае, часть моей истории достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите в каменной нише он обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластинке которого стоит лишь одно слово: Джервас. Я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.
1922
Гипнос
Перевод Олега Колесникова
Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то вызывала бы удивление та смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, не будь она результатом неведения и непонимания опасности.
Бодлер
Наверное, меня хранят милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни какие-либо изобретенные человеком средства не способны удержать от падения в пропасть сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата; но тот, кто возвращается из мрачнейших владений ночи, измученный и познавший, навсегда лишается мира и покоя. Я был глупцом, неистово стремящимся познать тайны, не предназначенные для человеческого рассудка. Глупцом или богом был мой единственный друг, который вел меня этим путем и которого в итоге постигла та ужасная участь, что должна была достаться мне.
Припоминаю, как мы впервые встретились на железнодорожной станции, где он оказался в центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, облаченный в черный костюм, его тело свела судорога, придавшая ему удивительную строгость. Думаю, ему было тогда около сорока – об этом свидетельствовали глубокие морщины на бледном, со впалыми щеками, но овальном и красивом лице и легкая проседь в густых вьющихся волосах и аккуратной бородке, которая прежде была иссиня-черной. Высокий лоб был божественной формы и точно высечен из пентелийского мрамора. Мне, скульптору по профессии, он показался статуей фавна античной Греции, найденной в руинах храма и чудесным образом оживленной в наш удушливый век, для того лишь, чтобы подчеркнуть пронизывающий холод и груз напрасно прожитых лет. И когда он открыл свои крупные, горящие лихорадочным блеском черные глаза, я уже знал, что отныне он станет моим единственным другом – другом человека, у которого никогда не было друзей, – поскольку такие глаза, должно быть, видят великолепие и ужас царств, находящихся за пределами обыденного сознания и действительности; царств, о которых я мечтал в грезах, но напрасно искал наяву. Поэтому, разогнав толпу, я предложил ему пройти со мной, быть моим учителем и проводником в постижении удивительных тайн, и он согласился, не произнеся ни слова. Позднее я обнаружил, что его голос похож на музыку, в нем сливались глубокое звучание виол и легкий звон хрусталя. Мы часто беседовали и ночью, и днем, пока я вытачивал из слоновой кости его бюсты и миниатюрные головки, чтобы запечатлеть для вечности различные выражения его лица.
Не берусь описать словами суть наших изысканий – слишком уж мало они связаны с какими-либо представлениями людей о мире. Они имели отношение к огромной устрашающей Вселенной и познании реальности, лежащий за пределами нашего понимания материи, времени и пространства, – той Вселенной, о существовании которой мы иногда догадываемся в тех особенных разновидностях сновидений, что неведомы заурядным представителям рода людского и лишь несколько раз в жизни являются человеку, одаренному воображением. Мир нашего бодрствующего сознания порожден из этой же Вселенной примерно как шут выдувает из трубочки мыльный пузырь и соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь со своим творцом, когда этот шут втягивает его обратно по своей прихоти. Люди науки лишь смутно догадываются об этом, но по большей части стараются не замечать. Мудрецы как-то пытались толковать сны, и боги смеялись над ними. Один человек с восточными воззрениями сказал как-то, что время и пространство относительны, и люди подняли его на смех. Но этот человек с восточными воззрениями всего лишь высказал предположение. Я пытался сделать больше, чем просто предположение, и мой друг пытался – и отчасти преуспел. Затем мы стали пробовать вместе и с помощью экзотических наркотиков погружались в запретные глубины сновидений в моей башне-мастерской, пристроенной к старинному особняку в многовековом графстве Кент.
Одним из главных душевных терзаний тех дней была невыразимость. Невозможно записать или как-то еще сообщить то, что я узнал и увидел в часы тех нечестивых исследований, ибо ни в одном языке нет подходящих для этого слов и понятий. Наши впечатления от начала и до конца относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с реакциями нервной системы человека. И хотя это были ощущения и они даже содержали некоторые подобия времени и пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Все, что возможно в пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, называя происходящее в них погружениями и полетами, ибо при каждом таком откровении какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над темными, внушающими ужас безднами, иногда прорывалась сквозь хорошо различимые препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака.
Мы совершали эти бестелесные полеты иногда поодиночке, иногда вместе. Когда мы были вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня, но несмотря на бестелесность я узнавал о его присутствии всплывающим в памяти зрительным образам: его лицо в странном золотом свете пугающе красивое, с удивительно юными чертами, с горящими глазами, изгибом бровей гордого олимпийского бога и чуть тронутыми сединой волосами и бородою.
За временем мы не следили: оно казалось нам всего лишь иллюзией. Должно быть, в этом была какая-то доля истины, ибо мы удивлялись тому, что совсем не старимся. Наши обсуждения были чудовищно богохульственны и амбициозны: ни боги, ни демоны не отважились бы на то, чего домогались мы. Меня и сейчас пробирает дрожь, когда я рассказываю о наших занятиях, и я не решаюсь говорить о них более подробно; впрочем, скажу, что однажды мой друг написал на листке бумаги желание, которое не осмелился произнести вслух, а я сжег этот листок и со страхом посмотрел на усыпанное звездами ночное небо за окном. Я намекну – только намекну, – что он замышлял обрести власть над всей видимой вселенной и даже большей областью, предполагал достичь того, чтобы Земля и все звезды перемещались в пространстве согласно его воле, и решать судьбы всех живущих. Клянусь, что у меня не было ничего даже близкого к подобным притязаниям, а если это противоречит каким-то словам или записям моего друга, то он, несомненно, глубоко заблуждался, ибо я не властный человек, чтобы рисковать совершить нечто крайне запретное ради великого достижения.
В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за пределами мыслимого. Особые непередаваемые ощущения вызывали в нас безграничный восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти невозможно. Вязкие облака проносились мимо одно за другим, и наконец я почувствовал, что мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде.
Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, но оказалось неизмеримо плотнее; нечто вязкое и клейкое, если вообще возможно применять подобные описания свойств нематериального мира.
Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел мастерскую в башне и бледное все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, мраморные очертания его лица, невероятно изможденного, невыразимо прекрасного в золотистом лунном свете.
Вскоре тело в углу пошевелилось, и да хранят меня небеса от того, чтобы еще когда-либо увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти, желая избавиться от страха и одиночества.
Так завершились наши добровольные погружения в глубины грез. Упавший духом и вздрагивающий от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых попыток исследования той области, где мы побывали. Он не решился рассказать, что именно там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта решил, что нам теперь следует как можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте: невыразимый страх охватывал меня всякий раз, как только мною овладевал сон.
После каждого даже самого краткого и непродолжительного сна мне казалось, что я постарел, а мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда бывший затворником – он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, – теперь панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один, и даже компания в несколько человек его не успокаивала. Отрадой ему стали разнообразные шумные сборища и неистовые пирушки; немноголюдные мужские встречи нас не устраивали.
В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило, но мой друг считал это меньшим злом, чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое случалось, то невольно часто боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что-то чудовищное. Посматривал он не в какую-то определенную сторону – я заметил, что направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на северо-восток. Летом он украдкой смотрел куда-то почти над головой. Осенью поглядывал на северо-запад. Зимой его осторожное внимание привлекала восточная часть небосклона, но только в предутренние часы.
Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь по прошествии двух лет я понял, что этот страх связан с каким-то вполне конкретным местом; тогда я стал замечать, что поглядывает он всегда на одну и ту же точку звездного неба, где-то в области созвездия Северной Короны.
В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление довольно заметно состарили нас, редеющие волосы и борода моего друга стали белыми как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко уделяли более одного-двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в ужасную угрозу.
Наконец, в туманном и дождливом январе, наступил тот день, когда деньги у нас закончились и не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи и резные головы из слоновой кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, и однажды ночью мой друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и сейчас прекрасно помню эту сцену: запущенная мрачная каморка на чердаке, под самой крышей, по которой беспрерывно стучит дождь; мерно тикают настольные часы; воображаемо тикают карманные часы на туалетном столике; скрипят ставни в какой-то отдаленной части дома; звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; но самое страшное – размеренное, глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновения сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо удаленных запретных сферах.
Напряжение моего бдения становилось невыносимым, дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал донесшийся откуда-то бой часов – наши часы этого не умели, – и моя возбужденная фантазия приняла его за отправную точку. Часы… время… пространство… безграничность… и затем мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на северо-востоке Северная Корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий шумовой фон – низкий монотонный вой, доносящийся издалека; жалобный, протяжный, насмешливый зов откуда-то с северо-востока.
Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от которой мне уже никогда не избавиться; не из-за него я так кричал и дергался в конвульсиях, что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел; ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно-золотистого света из северо-восточного угла – луч, который не рассеивал тьму вокруг, а подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся и странно помолодевшее лицо моего друга, такое, каким я помнил его во время наших совместных блужданий по безднам пространства и раскрепощенного времени, когда он преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных кошмаров.
Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные глаза в ужасе раскрылись, а на тонких, бледных губах застыл крик, настолько пропитанный страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно-бледном лице, сияющем и молодом, столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг страх, не сравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе.
Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе; когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему – то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, – со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать полицию. Я не раз пробовал, но мне не удается описать, что именно мне довелось там увидеть, а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не прочтешь. Но с тех пор я стараюсь больше не поддаваться коварному и ненасытному Гипносу, повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии.
Невозможно разобраться, что же все-таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более похожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга, и только искусство, философия и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что-то успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженное на кушетке в углу мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от лекарств, лысый, седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими предмету.
Они отрицают, что я продал все свои работы, и восторгаются тем безмолвным и окаменевшим, что порождено проклятым лучом. Это все, что осталось от моего друга; друга, который был моим проводником на пути к безумию и катастрофе; изумительная, богоподобная мраморная голова в стиле древнегреческих статуй, молодость которой бессильно повредить время, прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, изгиб бровей гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для нее послужил я сам в возрасте двадцати пяти лет, но на ее мраморном основании высечено лишь одно имя греческими буквами: .
1923
В склепе
Перевод Валерии Бернацкой
На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками.
В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока – в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек-Уолли, где провел девять часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности; как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый холостяк – ни родных, ни близких.
До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что и жители Пек-Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб – туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении.
Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали не часто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью.
Наконец пришла весна, и для девятерых умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, девяностолетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но проканителился целых три дня, вплоть до пятнадцатого – до Страстной пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили.
Итак, пятнадцатого апреля, в пятницу пополудни, Берч впряг лошадь в повозку и направился к склепу, чтобы перевезти гроб с телом Мэтью Феннера. Он не скрывал впоследствии, что был несколько навеселе, хотя тогда еще не пил горькую, как позднее, когда хотел забыться. У него просто немного кружилась голова, отчего он вел себя еще безалабернее обычного, чем раздражал чуткую лошадь. Берч гнал ее к склепу, стегая кнутом, а она ржала, била копытом и мотала головой, как и в тот день, когда им помешал дождь. Было сухо, но дул сильный ветер, и Берч поспешно отпер железную дверь и забрался в склеп, одна сторона которого примыкала к склону холма. Многим было бы не по себе в этом сыром, затхлом помещении, где в беспорядке стояли восемь гробов, но не отличавшегося тонкостью чувств Берча заботило лишь одно – не перепутать гробы и поместить каждого в его могилу. Он еще помнил шумный скандал, который закатили переехавшие в город родственники Ханны Бигсби, когда решили перевезти ее прах на городское кладбище и обнаружили под могильным камнем останки судьи Кепуэлла.
В склепе было темновато, но Берч обладал хорошим зрением и не спутал гроб Асафа Сойера с нужным ему, хотя они почти ничем не отличались. Собственно, вначале гроб этот предназначался для Мэтью Феннера, но получился такой нескладный и шаткий, что Берч, вспомнив, как этот щуплый старичок был добр и щедр к нему, когда пять лет назад Берчу грзило разорение, неожиданно для себя, в приступе какой-то странной сентиментальности, отставил его в сторону. Для Мэтта он сколотил самый лучший гроб, на какой только был способен, однако, поскупившись, сохранил и отвергнутый, приспособив его для Асафа Сойера, когда тот скончался от лихорадки. Сойер был недобрым человеком, о его дьявольской мстительности и злопамятстве ходили легенды. Поэтому Берч не испытал никаких угрызений совести, сплавив ему эту развалюху, которую сейчас и отпихнул с дороги в поисках гроба Феннера.
Но как только он отыскал его, дверь вдруг с шумом захлопнулась, оставив гробовщика почти в полной темноте. Свет едва пробивался сквозь узкую фрамугу да вентиляционное отверстие над головой, и Берчу пришлось пробираться к двери на ощупь, то и дело останавливаясь и спотыкаясь о гробы. Он долго громыхал во мраке проржавевшими задвижками, бился о железные панели, удивляясь, отчего это дверь стала такой неподатливой. Наконец правда открылась ему, и тогда он отчаянно закричал, но его услышала только лошадь, издав в ответ неодобрительное ржание. Засов, к которому он относился столь небрежно, окончательно заклинило, и незадачливый гробовщик, жертва собственной беспечности, оказался запертым в склепе.
Это событие произошло в полчетвертого пополудни. Берч, по природе человек флегматичный и трезвый, вскорости перестал вопить и принялся искать инструменты, которые, как он помнил, лежали где-то в углу склепа. Сомнительно, чтобы он в полной мере прочувствовал весь ужас и фатальность ситуации, однако его основательно раздражал сам факт заточения, столь грубо выключивший его из жизни деревни. Дневной распорядок полностью нарушен, одно ясно: если его не выручит какой-нибудь праздный гуляка, придется провести здесь всю ночь, а может, и больше. Отыскав наконец инструменты и выбрав из них молоток и стамеску, Берч снова пробрался между гробами к двери. Дышать было совершенно нечем, но он не обращал на это внимания, пытаясь справиться с массивным железным засовом. Он отдал бы многое сейчас за фонарь или хотя бы свечу, но за неимением их трудился изо всех сил почти в полной темноте.
Поняв, что с засовом ему не справиться – особенно теми инструментами, которыми он располагал, – Берч огляделся в поисках другого выхода. С одной стороны склеп был врыт в склон холма, и узкая вентиляционная труба проходила через толстый слой земли, что делало абсолютно невозможной попытку выбраться через нее. Однако можно было попытаться расширить узкую фрамугу, расположенную в фасаде строения, прямо над дверью. Берч долго ее разглядывал, прикидывая, как бы до нее добраться. Лестницы в склепе не было, а ниши для гробов, расположенные с трех сторон, которыми, кстати, Берч никогда не пользовался, также были для него бесполезны. Подняться наверх можно было, только составив лестницу из самих гробов, и Берч стал прикидывать, как лучше это сделать. Уже три гроба, поставленные один на другой, давали ему возможность дотянуться до фрамуги, но с четырьмя, считал он, будет удобнее. Все гробы были одного размера, взгромоздить их один на другой не представляло труда, но требовалось покумекать, как поставить все восемь, чтобы «лестница» была поустойчивей. Размышляя обо всем этом, он пожелал себе, чтобы его изделия оказались попрочнее. Однако у него не хватило воображения пожелать также, чтобы они были пустыми.
В конце концов он порешил, что в основание «лестницы» лягут три гроба, установленные параллельно стене, на которые он поставит еще два ряда по два гроба в каждом, а сверху у него будет еще один. Это сооружение позволит без труда взобраться на него, даст устойчивость и нужную высоту. Но потом Берчу показалось, что лучше оставить в основании только два гроба, а один держать в запасе на тот случай, если с четырех ступеней ему будет трудно выбраться наружу. И вот наш узник начал трудиться в темноте, созидая свою миниатюрную вавилонскую башню и обращаясь при этом весьма бесцеремонно с безмолвными останками своих односельчан. От его усилий некоторые гробы уже трещали, и тогда для большей уверенности Берч решил поставить на самый верх прочный гроб Мэтью Феннера. Не доверяя глазам, он попытался отыскать на ощупь и почти сразу же наткнулся на него. Это была великая удача, так как Берч непредусмотрительно запихнул его в третий этаж.
Воздвигнув наконец свою башню, Берч решил дать передышку натруженным рукам и немного посидел на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем, прихватив с собой инструменты, с превеликой осторожностью взгромоздился на самый верх и оказался прямо на уровне фрамуги. Она была со всех сторон выложена камнем, и следовало изрядно потрудиться, чтобы сделать из этой щели достаточно большой лаз. Лошадь при стуке молотка как-то странно заржала; в ее ржании слышались не то издевка, не то одобрение. Уместно было и то и другое. С одной стороны, стать узником сего ветхого строения – какой убийственный сатирический комментарий к тщете человеческих усилий! С другой стороны, стремление выбраться из западни, несомненно, заслуживало всяческого уважения.
Наступивший вечер застал Берча за работой. Теперь он совсем уже ничего не видел – за облаками померк даже свет луны, но все же воспрянул духом, так как щель значительно увеличилась. Он был уверен, что к полуночи сумеет выбраться, и к этой уверенности не примешивалось никакой суеверной робости. На него никак не влияли ни время, ни место, ни странное общество у него под ногами. Он со стоическим спокойствием отбивал камень за камнем, тихонько поругиваясь, когда осколки попадали ему в лицо, но от души расхохотался, когда один попал в лошадь, уже давно бившую в остервенении копытом у кипариса. Лаз понемногу увеличивался, и Берч время от времени делал попытку в него пролезть – при этом гробы под ним шатались и скрипели. Он уже понял, что ему не придется ставить еще один гроб – щель была на досягаемом уровне.
Только в полночь Берч решил, что теперь-то уж наверняка пролезет в отверстие. Усталый и вспотевший, он спустился вниз и присел отдохнуть, чтобы набраться сил для последнего рывка. Голодная лошадь непрерывно ржала, и в этом ржании было нечто настолько жуткое, что даже Берчу стало не по себе. Он уже не чувствовал того подъема, который испытал, уверившись в близком спасении, теперь он опасался, что, раздавшись с возрастом в боках, все-таки не сможет пролезть в дыру. Вновь взбираясь на поскрипывающие гробы, Берч мучительно ощущал собственный вес, а поднимаясь на последний, услышал угрожающий треск, недвусмысленно говоривший, что крышка проломилась. Зря он, видимо, понадеялся на лучшее свое изделие: стоило ему только встать на него, как гнилые доски треснули, и Берч провалился в гроб. Лошадь, испуганная то ли шумом, то ли усилившимся зловонием, издала отчаянный звук, который и ржанием-то нельзя было назвать, и понеслась куда-то в ночную тьму, таща за собой громыхающую тележку.
Берч понял, что положение его аховое – теперь дыра была значительно выше его груди, но, собрав все силы, решился на отчаянную попытку. Уцепившись за край фрамуги, он попытался подтянуться, однако что-то мешало ему, казалось, его крепко держат за ноги. Тут он впервые за все время испытал страх и изо всех сил постарался освободиться от непонятной помехи, но на ноги будто гири навесили. Внезапно он почувствовал резкую боль, как если бы в лодыжку впилось что-то острое. Берч, несмотря на весь свой ужас, объяснил для себя эту боль вполне естественными причинами, полагая, что у треснувшего гроба обнажились гвозди или расщепленные углы. Он, должно быть, кричал, уж во всяком случае, отчаянно брыкался, почти теряя сознание.
Наконец страшным усилием воли Берч вырвался из западни, протиснулся в щель и рухнул на сырую землю. Он не мог, как выяснилось, идти и пополз, волоча окровавленные ноги и конвульсивно впиваясь ногтями в могильную землю, а выглянувшая из облаков луна освещала эту жуткую картину. Берч полз к домику кладбищенского сторожа, тело у него было ватным, а движения замедленными, как в ночном кошмаре. Никто не гнался за ним, во всяком случае, когда Армингтон, ночной сторож, услышав царапанье, открыл дверь, кроме Берча, за нею никого не было.
Армингтон уложил Берча на свободную кровать и послал своего сына Эдвина за доктором Дэвисом. Больной был в полном сознании, но ничего не объяснял, повторяя только что-то вроде: «Мои ноги… пусти… один в склепе». Пришедший со своим неизменным саквояжем и ободряющими словами доктор распорядился снять с несчастного верхнюю одежду и башмаки. Его раны (обе лодыжки в области ахиллова сухожилия были зверски истерзаны, как будто из них вырвали по изрядному куску мяса), казалось, озадачили и даже напугали старого врача. Он с волнением расспрашивал больного о случившемся, дрожащими руками постарался побыстрее обработать и забинтовать раны, не в силах глядеть на это жуткое зрелище.
В вопросах, которые Дэвис задавал гробовщику, звучал плохо скрываемый страх, похоже, он хотел выпытать у своего пациента – что было совсем нехарактерно для старого врача – все до мельчайших подробностей о кошмарном ночном приключении. Его особенно интересовало, уверен ли Берч, что на самом верху стоял тот самый гроб, и как он сумел отыскать его в темноте, точно ли это был гроб Феннера и как ему удалось отличить его от того, в котором покоился зловредный Асаф Сойер. И мог ли так внезапно треснуть гроб Феннера? Деревенский врач Дэвис видел, конечно, оба гроба во время похорон и, конечно же, посещал Феннера и Сойера незадолго до их смерти. И помнил свое изумление на похоронах Сойера: как это он поместился в гроб, сделанный по размерам тщедушного Феннера?
Через два часа доктор ушел, посоветовав Берчу говорить всем, что поранил ноги о гвозди и острые углы. Кому придет в голову что-нибудь другое? Лучше помалкивать и не обращаться к другим врачам. Берч так и сделал, я же со своей стороны, осмотрев после его откровений старые, бледные уже шрамы, согласился, что это был мудрый совет. Берч навсегда остался хромым – связки так полностью и не восстановились, – но, полагаю, самый большой ущерб понесла его душа. Психическое здоровье гробовщика заметно пошатнулось, больно было видеть, как бывший увалень и флегматик вздрагивает при одном лишь упоминании о пятнице, склепе, гробе и подобных вещах. Его напуганная лошадь вернулась-таки домой, но его разум в прежнем виде не возвратился к нему. Он сменил работу, но так и не обрел покоя. Возможно, его мучил страх, возможно, на этот страх позднее наложилось раскаяние в совершенных грехах. Желая забыться, он пристрастился к спиртному.
Той ночью, оставив Берча, доктор Дэвис, взяв с собой фонарь, направился к склепу. При свете луны он увидел разбросанные осколки камней и изуродованный фасад строения. Дверца склепа легко подалась, едва он дотронулся до нее. Насмотревшийся всего в операционных, доктор смело вошел внутрь и огляделся. Но от тяжелого зловония и открывшегося перед ним зрелища у доктора перехватило дыхание. Он громко закричал, крик перешел в еще более ужасный хрип. В следующее мгновение он уже несся к сторожке и там, забыв все правила профессиональной этики, разбудил пациента и, тряся его, возбужденно и прерывисто зашептал нечто такое, что обожгло уши гробовщика, будто с шипением изрыгаемый яд.
«Это был Асаф! Так я и думал! Я хорошо помню, у него не хватало переднего зуба. Заклинаю, не показывай никому свои раны – там есть эти отметины. Труп почти разложился, но злобное выражение на его лице… на его бывшем лице… видно и сейчас… Ведь это сущий дьявол. Помнишь, как он разорил старого Раймонда, и это через тридцать лет после спора о границе между их участками! Или как безжалостно раздавил он прошлым летом укусившего его щенка! Сущий дьявол, Берч! Он может мстить и из гроба. Спаси меня, Боже, от его мести!
Зачем ты сделал это, Берч? Конечно, он был негодяй, и я не виню тебя за этот бракованный гроб, но все же ты зашел слишком далеко. Экономить, конечно, не грех, но ведь старина Феннер был такого маленького роста!
Этого зрелища я никогда не забуду. Брыкался ты, видать, здорово – гроб Асафа валяется на земле, череп расколот, кости раскиданы. Всякого я насмотрелся, но такого не упомню! Жуткое зрелище! Бог свидетель, ты, Берч, получил по заслугам. Череп заставил меня содрогнуться, но то, что я увидел потом, было во сто крат хуже: содранное с твоих лодыжек мясо лежит в бракованном гробу Мэтта Феннера!»
1925
Неименуемое
Перевод Олега Колесникова
В осенних сумерках мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века на старом аркхемском кладбище и рассуждали о неименуемом. Обратив взгляд на исполинскую иву с почти целиком вросшей в ствол древней могильной плитой, надпись на которой прочесть теперь не представлялось возможным, я стал фантазировать по поводу того, какого типа «питательные» вещества извлекают гигантские корни этого гигантского дерева из земли многовекового кладбища; мой приятель упрекнул меня в том, что я несу вздор, ибо здесь уже более ста лет никого не хоронят, а значит, в почве нет ничего особенного, чем могло бы питаться это дерево, помимо самых обычных веществ. И вообще, добавил он, все эти мои постоянные упоминания о различных «неименуемых» и «не произносимых вслух» вещах – пустой детский лепет, вполне в духе моих ничтожных успехов на ниве литературы. Я слишком увлекаюсь в рассказах всяческими кошмарными видениями и звуками, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они не могут внятно поведать о случившемся. Мы познаем все окружающее, заявил он, посредством своих пяти чувств и с помощью интуиции; следовательно, не может существовать таких предметов или явлений, которые не поддаются строгому описанию, основанному либо на достоверных фактах, либо на корректно выстроенных богословских доктринах – в качестве последних предпочтительны догматы конгрегационалистов в любой их модификации, вплоть до трактовки сэром Артуром Конан Дойлем.
С этим другом, Джоэлом Мэнтоном, мы часто вели спокойные, размеренные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрел характерное для жителя Новой Англии самодовольство, отличающееся глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Он был убежден, что если что-то и имеет реальную эстетическую ценность, так это наш обыденный, повседневный опыт, а следовательно, задача создателя художественного произведения не в том, чтобы возбуждать сильные эмоции увлекательным сюжетом и глубокими переживаниями и страстями, но поддерживать в читателе спокойный интерес и воспитывать вкус к аккуратным, детальным описаниям будничных событий. Особое недовольство вызывала у него моя чрезмерная увлеченность мистическим и необъяснимым; ибо, несравнимо глубже меня веруя в сверхъестественное, он не выносил, когда потустороннее низводили до обыденного, делая его предметом литературного исследования. Ему, логичному, практичному и трезвомыслящему, было трудно понять, что именно в уходе от обыденности и вольном манипулировании образами и представлениями, которые в действительной жизни, как правило, вгоняются нашими ленью и привычкой в хорошо знакомые схемы, можно обрести величайшее наслаждение. Для него все предметы и ощущения имели раз и навсегда заданные свойства и параметры, причины и следствия; и хотя в глубине души он сознавал, что человеческое мышление иногда способно иметь дело с явлениями и ощущениями, не укладывающимися с геометрической строгостью в наши представления и опыт, но все же считал себя вполне компетентным для того, чтобы проводить условную черту и убирать из рассмотрения все, что не может быть познано и испытано среднестатистическим гражданином. А кроме того, он был почти уверен, что не может существовать действительно неименуемое – подобное казалось ему бессмыслицей.
Я прекрасно сознавал всю тщетность построенных на образах и метафизических аргументах в попытках переубедить этого самодовольного ортодоксального обывателя, но в обстановке этого послеобеденного диспута было нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычных словопрений. Полуразрушенные серые плиты, деревья почтенного возраста, остроконечные крыши старинного городка, прибежища ведьм и колдунов – все это, обступающее кладбище со всех сторон, вдохновило меня встать на защиту своего творчества, и я кинулся в атаку, перейдя границу и вступив на территорию врага. Впрочем, начать контратаку не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон почтительно относится ко всякого рода бабушкиным сказкам и суевериям, которые в наши дни не воспринимает всерьез ни один сколько-то образованный человек – таким, например, поверьям, что после смерти человек может появляться в весьма отдаленных местах или что лица стариков, долго глядящих в окна, запечатлеваются в самом стекле. Воспринимать всерьез то, о чем нашептывают деревенские старушки, заявил я, означает допускать посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных эквивалентов. Но это означает признавать возможность явлений, не укладывающихся в рамки обычных представлений; ибо если мы допускаем, что видимый или осязаемый образ мертвеца может передаваться в пространстве через половину земного шара и во времени через века, то разве нелепы предположения, что заброшенные дома населены странными разумными существами или что на старых кладбищах скапливается бесплотный разум ушедших поколений? И если душа, во всех предписываемых ей свойствах, не подчиняется законам материального мира, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, способная принимать такую форму – или отсутствие формы, – которая для наблюдателя окажется вызывающей крайнее отвращение и абсолютно неименуемой? «Здравый смысл», когда рассуждаешь о подобных вещах, дружески заверил я Мэнтона, означает попросту отсутствие воображения и гибкости ума.
Наступали сумерки, но мы не торопились завершать нашу беседу. Мои аргументы для Мэнтона, похоже, оказались недостаточно весомыми, и он продолжал оспаривать их с убежденностью в своей правоте, характерной для профессиональных преподавателей; я же держался пока вполне уверенно на своих позициях и не собирался сдаваться. Сумерки стали сгущаться, вдалеке в окнах замерцали огоньки, но мы уходить не собирались. Сидеть на надгробии оказалось вполне удобно, и моего прозаически настроенного друга нисколько не беспокоили ни глубокая трещина в древней кирпичной кладке прямо у нас за спиной, ни окружающее нас пятно тьмы, образовавшееся потому, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшими уличными фонарями возвышался полуразрушенный необитаемый дом, построенный еще в семнадцатом веке. В этой непроглядной тьме на запущенном надгробии вблизи заброшенного дома мы продолжали обсуждать «неименуемое», и, когда Мэнтон наконец перестал изрекать язвительные замечания, я рассказал ему об ужасных событиях, действительно имевших место и лежащих в основе того из моих рассказов, который казался ему наиболее нелепым.
Рассказ этот назывался «Окно мансарды» и был опубликован в январском выпуске «Уисперс» за 1922 год. Во многих местах Америки, в особенности на юге и на тихоокеанском побережье, журналы с этим рассказом даже убирали с прилавков, потакая требованиям слабонервных идиотов, и лишь в Новой Англии проявили невозмутимость и только пожимали плечами в ответ на жалобы на мою эксцентричность. Критиковали меня в первую очередь за то, что описанное существо было биологически просто невозможно; оно всего лишь одна из версий расхожих деревенских сказок, которые Коттон Мэзер по причине чрезмерной доверчивости вставил в свои сумбурные «Великие деяния Христовы в Америке», причем происхождение этой небылицы настолько неопределенное, что он не решился указать место, где это произошло. И уж совсем не вписывалось ни в какие рамки то, как я развил и усложнил древний мистический сюжет, проявив себя как бездумного и претенциозного графомана. Мэзер действительно описал появление подобного существа, но кто, кроме дешевого охотника за сенсациями, мог бы поверить, что оно способно вырасти и станет, во плоти и во крови, шастать по ночам и заглядывать в окна домов, а днем прятаться в мансарде заброшенного дома, и будет делать это целое столетие, пока какой-то прохожий не увидит его в окне мансарды, а потом так и не сможет объяснить, отчего у него поседели волосы? Все это выглядело полнейшим вздором, притом совершенно безвкусным, и мой приятель не упустил возможность согласиться с последним утверждением. Тогда я рассказал ему о прочитанном в дневнике, датированном 1706–1723 годами, обнаруженном мною среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы в тот момент беседовали. В дневнике описывались необычные шрамы на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэнтона в подлинности этого документа. А также я рассказал ему о страшных историях, рассказываемых местным населением, передающихся из поколения в поколение, и о том, как вполне реально сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы посмотреть на некие следы, которые, предполагалось, там должны были быть.
История была жуткой – но какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая пуританский период истории Массачусетса? Нам известно крайне мало о том, что скрывалось в глубине, за внешней стороной событий, но по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной омерзительно прорывался наружу, можно судить о степени разложения. Охота на ведьм – это лишь ужасный луч, высвечивающий, что творилось в смятенных умах людей, но даже она – это лишь пустяк. В жизни отсутствовала красота; не было никакой свободы – мы можем судить об этом по архитектуре, сохранившимся предметам быта, а также по ядовитым проповедям тогдашних духовников. Но под ржавой железной смирительной рубашкой таились невероятные уродства, извращенные пороки и колдовство. Вот когда был, действительно, апофеоз Неименуемого!
В своей демонической 6-й книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты, Коттон Мэзер, разражаясь анафемой, называет все вещи своими именами. Сурово, словно библейский пророк, немногословно и бесстрастно, как не мог после него излагать уже никто, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между нею и человеком, нечто с дурным глазом, и о безымянном пьянчуге, повешенном, несмотря на его крики, потому что у него был похожий глаз. На этом история Мэзера кончается, и он не сделал ни малейших намеков на то, что случилось потом. Возможно, он просто не знал, а может, знал, но не осмелился сказать. Другие, кто знал, тоже предпочли сохранить молчание, и потому до сих пор неизвестно, что же заставляло людей приглушать голос до шепота при упоминании о замке на двери, за которой скрывалась лестница на мансарду в доме бездетного, убогого и угрюмого старика, установившего на могиле, которую все обходили стороной, серую плиту без надписи, но сохранившиеся в избытке легенды таковы, что от них у смельчаков стынет самая пылкая кровь.
Обо всем этом я узнал из найденного мною древнего дневника; все осторожные намеки и не предназначенные для посторонних ушей истории о существах с дурным глазом, которых видели в окнах по ночам и на пустынных лесных опушках. Некая тварь напала на моего предка ночью на проселочной дороге и оставила следы рогов на его груди и следы когтей, подобных обезьяньим, на спине; на дорожной пыли удалось найти перемежающиеся четкие отпечатки копыт и чего-то похожего на лапы обезьяны. Один почтальон рассказывал, что, проезжая верхом через Медоу-Хилл незадолго до рассвета, при тусклом сиянии луны видел старика, догонявшего и окликавшего какое-то гадкое существо, убегавшее вприпрыжку, и многие поверили почтальону. Также точно известно, что в 1710 году, после похорон дряхлого бездетного старика, тело которого положили в склеп за его домом, рядом со странной плитой без надписи, в его доме раздавались какие-то голоса. Дверь на мансарду отпирать не стали, но оставили дом таким, какой он был, – мрачным и заброшенным. Когда же из покинутого дома доносились звуки, прохожие вздрагивали и шепотом успокаивали себя, что, наверное, замок на той двери достаточно прочный. Надежда эта не оправдалась, и случился кошмар в доме приходского священника, всех обитателей которого нашли наутро не просто бездыханными, но разодранными на части. Легенды более поздних лет уже более похожи на байки – полагаю, по той причине, что то существо, скорее всего, скончалось. Но память о нем сохранялась долго – вероятно потому, что истории передавались по секрету.
Пока я рассказывал все это, мой друг Мэнтон сделался малословным, и я понял, что история произвела на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, но вполне серьезно поинтересовался о том пареньке, что сошел с ума в 1793 году и стал прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем мальчишка забрался в мрачный, заброшенный дом, который все обходили стороной. Этот момент не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил, что на окнах запечатлеваются лица людей, долго сидевших подле них. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах упомянутой мансарды, паренек решил пойти и посмотреть на них и прибежал обратно обезумевший и непрестанно кричащий.
Пока я все это рассказывал, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я закончил, к нему тут же вернулось обычное скептическое отношение. Согласившись, ввиду представленных аргументов, что какой-то необычный монстр действительно существовал, Мэнтон, однако, указал мне, что даже самые болезненные извращения натуры никак нельзя отнести к неименуемому, поскольку они довольно четко описываются средствами современной науки. Восхитившись его логике и настойчивости, я привел еще несколько свидетельств, услышанных мною от стариков. В этих более современных историях с призраками, пояснил я, упоминаются существа столь ужасные и отвратительные, что никак нельзя предположить, чтобы они были природными тварями: кошмарные призраки гигантских размеров и чудовищных очертаний, иногда видимые, иногда только осязаемые, в безлунные ночи как бы плавающие по воздуху, появляющиеся то в старом доме, то возле склепа сзади него, то над могилой, где рядом с плитой без надписи пустило корни молодое деревцо. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как утверждала молва, – не знаю, но, во всяком случае, эти призраки оставляли сильное и неизгладимое впечатление о себе; неспроста старейшие из местных жителей испытывали к ним суеверный страх еще каких-нибудь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти не вспоминали, что, кстати, и могло послужить причиной их исчезновения. Наконец, если подойти к этой проблеме со стороны эстетической теории и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации человеческих существ, то вполне естественно, что вряд ли удается добиться связного и внятного описания в случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной призрачной мерзостью, как дух злобного, уродливого монстра, само существование которого уже было кощунством по отношению к природе. Такая химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, разве не может оказаться во всей своей неприглядной наготе подлинно неименуемым?
Должно быть, уже настала ночь. Мимо на удивление бесшумно пролетела летучая мышь; она коснулась меня крылом и Мэнтона, вероятно, тоже – я не видал его в темноте, но мне показалось, что он взмахнул рукой. Спустя некоторое время он снова заговорил:
– А сам этот дом с окном мансарды сохранился? И там по-прежнему никто не живет?
– Да, я видел его собственными глазами.
– И ты обнаружил там что-нибудь? Я имею в виду, в мансарде или еще где-то…
– В углу между крышей и полом лежали кости. Не исключено, что паренек увидел именно их. Слабонервному, чтобы свихнуться, этого могло оказаться вполне достаточно, ибо если все эти кости принадлежали одному существу, то оно было кошмарным чудовищем, какое может привидеться только в бреду. Я счел своим долгом избавить мир от этих костей, поэтому сходил за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там оказалась щель, туда я их и свалил. Не думай, что это была просто причуда – видел бы ты тот череп! На нем были рога сантиметров десять длиной, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас.
Наконец я почувствовал, что Мэнтона, который почти прижался ко мне, пробрала настоящая дрожь! Но его любопытство оказалось сильнее страха.
– А что же окна?
– Все они были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Это были… ну, с такой ромбовидной решеткой из небольших кусков стекла, какие были обычными до 1700 года. Думаю, стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. А может, их унес тот паренек?… Об этом предание ничего не говорит.
Мэнтон снова затих и задумался.
– Я хотел бы увидеть этот дом, Картер, – произнес он наконец. – Где он? Есть там стекла или нет, мне интересен сам дом. И та могила, куда ты кинул кости, и другая могила, с плитой без надписи, – во всем этом, должно быть, есть что-то жуткое.
– Ты видел этот дом сегодня, пока не стемнело.
Некоторая театральность, с которой я произнес последнюю фразу, подействовала на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать, – он судорожно отпрянул от меня и удушливо выкрикнул, вложив в этот крик все накопившееся и сдерживаемое до сего момента напряжение. Это был очень странный крик, но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ. Словно отзываясь ему эхом, из кромешной тьмы донесся скрип, и я догадался, что это открывается одно из решетчатых окон в проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, поскольку все остальные рамы давным-давно рассыпались, я понял, что скрип издает жуткая пустая рама того самого окна мансарды.
Затем с той же стороны налетел порыв ледяного затхлого воздуха и сразу же почти рядом со мной раздался пронзительный крик; он исходил из расколотого места упокоения человека и монстра. В следующее мгновение меня свалил удар чудовищной силы, нанесенный невидимым объектом громадных размеров и непонятной природы, и я растянулся на оплетенной корнями почве зловещего кладбища, а из могилы неслась такая адская какофония шумов и сдавленных хрипов, что мое воображение мгновенно заполнило окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Пронесся леденящий иссушающий вихрь, раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но прежде чем успел понять, что происходит, я милосердно лишился чувств.
Обладая меньшими габаритами, чем я, Мэнтон оказался более выносливым, и, хотя в итоге он пострадал сильнее меня, очнулись мы почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд мы узнали, что находимся в больнице Св. Марии. Сиделки, собравшиеся вокруг нас, поведали нам о том, как сюда мы попали: какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу-Хилл, примерно в миле от старого кладбища, на том самом месте, где когда-то, говорят, располагалась бойня. У Мэнтона были две серьезные раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. Я отделался легкими повреждениями, но зато все мое тело оказалось покрыто ссадинами и синяками удивительного происхождения – например, один из них был явно отпечатком копыта. Мэнтон явно больше меня знал о нашем приключении, однако ничего не рассказал озадаченным и заинтригованным врачам до тех пор, пока не выведал у них все подробности о наших ранах. Только после этого он сообщил, что на нас напал разъяренный бык – выдумка, на мой взгляд, неудачная, ибо откуда такой бык мог взяться?
Как только врачи и сиделки покинули нас, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным страхом, спросил:
– О Боже, Мэнтон, что же это было? Эти раны выглядят так… на что оно было похоже?
Я примерно представлял, что он скажет, но был слишком ошеломлен, чтобы ликовать, услышав его ответ.
– Нет, описать это невозможно. Оно было повсюду… какое-то желе… слизь, не имеющая формы… имеющая тысячи форм, столь кошмарных, что хочется скорее забыть о них. Я видел глаза, а в них – чистый порок! Это была бездна… пучина… воплощение крайней мерзости. Настолько неприличное, что я не могу описать… Картер, это было неименуемое!
1925
Изгой
Перевод Олега Колесникова
Джон Китс[10]
- Барон всю ночь ворочался в постели;
- Гостей подпивших буйный пляс томил
- Чертей и ведьм – и в черноту могил
- Тащили их во сне к червям голодным.
Несчастен тот, у кого воспоминания о детстве вызывают лишь страх и печаль. Жалок тот, кто, оглядываясь на прожитую жизнь, видит лишь долгие часы уединения в огромных мрачных залах с тяжелыми портьерами и рядами навевающих тоску древних книг или лишь бесконечные бдения в сумеречных рощах, среди наводящих благоговейный ужас огромных, причудливых, оплетенных лианами деревьев, безмолвно тянущих в вышину искривленные ветви… Такой участью наделили меня щедрые боги – быть одиноким и отвергнутым, сломленным и сдавшимся. Но я отчаянно цепляюсь даже за эти блеклые воспоминания, когда мой рассудок стремится умчаться куда-то за пределы нашего мира.
Не знаю, где я родился, память хранит воспоминания только об этом замке, бесконечно древнем и безмерно ужасном, с мрачными проходами и галереями, с высокими потолками, на которых глаз может узреть лишь какие-то тени и паутину. Камни разрушающихся коридоров выглядят так, будто всегда были покрыты мерзкой сыростью, и повсюду здесь этот проклятый запах – будто только что догорел погребальный костер ушедших поколений. Здесь никогда не бывает светло, и потому я иногда зажигаю свечу, чтобы полюбоваться пламенем, а солнечный свет мне видеть не доводилось, поскольку кошмарные деревья, поднявшиеся выше башен, закрывают его. Правда, одна черная башня вздымается выше леса, достигая вершиной открытого неба, но она частично разрушена и подняться по ней почти невозможно, – разве что карабкаться по отвесной стене, цепляясь за камни.
Я провел здесь многие годы, но не знаю, сколько именно, ибо не отмечал хода времени. Наверное, кто-то заботился обо мне, но я не видел никаких других живых существ помимо крыс, пауков и летучих мышей. Тот, кто меня нянчил, видимо, был ужасающе стар, ибо первое, что приходит мне в голову при мысли о человеческом существе, – некая пародия на меня, нечто перекошенное, ссохшееся и зачахшее, как этот замок. Кости и скелеты, встречавшиеся в каменных склепах глубоко под землей, воспринимались мною как нечто совершенно обыденное. В моем представлении они имели гораздо большее отношение к реальной жизни, чем те существа, о которых я знаю лишь по цветным изображениям в древних книгах. Из этих книг я и знаю все, что мне известно о мире вокруг. У меня не было учителей или наставников; за все эти годы я ни разу не слышал человеческого голоса, даже собственного: хотя я умею читать, мне никогда не приходило в голову делать это вслух. О своем внешнем виде я мог только догадываться – зеркал в замке не было, и я представлял себя похожим на молодых людей, изображенных в книгах. Я ощущал себя молодым, потому что помнил так мало.
Я часто перебирался через ров с гниющей водой к мрачным тихим деревьям, под которыми лежал и грезил о прочитанном в книгах; обычно при этом я представлял себя находящимся в многолюдном солнечном мире, лежащем за бескрайними лесами. Однажды я попытался сбежать, пробравшись через лес, но стоило мне удалиться от замка, как сумерки сгустились, воздух становился все более пропитанным ужасом, и потому я опрометью бросился назад, боясь затеряться в лабиринте мрачного безмолвия.
Так я жил, мечтал и ожидал чего-то в этом нескончаемом полумраке – сам не зная, чего ожидаю. И наконец, истомленный одиночеством в сумраке, я уже не смог сдерживать страстное стремление к свету и воздел с мольбою руки к той единственной черной полуразрушенной башне, что поднималась над лесом в неведомое небо. Я решился взобраться на эту башню, даже рискуя разбиться; уж лучше увидеть небо и погибнуть, чем существовать, не увидев ни разу дневного света.
В промозглых сумерках я взбирался по древним выщербленным ступеням, пока не достиг того уровня, где они заканчивались, и там, невзирая на опасность, продолжил подъем, используя углубления и выступы на стене. Ужасным и зловещим был этот мертвый, лишенный ступеней каменный цилиндр, черный, полуразрушенный и заброшенный, кажущийся еще более зловещим от бесшумно пролетающих время от времени нетопырей. Но еще более ужасным и зловещим было мое медленное продвижение, ибо сколько я ни лез, тьма над головой не рассеивалась, и озноб начал сжимать меня леденящей хваткой. Я дрожал, терзаясь догадками о том, почему не становится светлее, и не смея поднять глаза. Беспокоясь, что, возможно, уже настала ночь, я то и дело шарил рукой в поисках амбразуры окна, чтобы посмотреть и оценить, как высоко я взобрался.
И наконец, после целой вечности крайне рискованного подъема вслепую над пропастью по вогнутой поверхности, я коснулся головой чего-то твердого и понял, что достиг крыши, или, по крайней мере, какого-то перекрытия. Я поднял в темноте руку и, потрогав преграду, убедился, что она каменная и неподвижная. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, за что удавалось ухватиться на склизкой стене, до тех пор пока, подняв руку, не обнаружил, что преграда слегка поддается, и там снова попытался подниматься, упираясь в преграду головой, поскольку обе руки у меня были заняты. Никакого света сверху я не увидел и, уперевшись локтями в горизонтальную поверхность, понял, что мое восхождение еще не закончено, поскольку ощутил каменный пол наблюдательной площадки, большей по диаметру, чем сама башня. Я осторожно закончил пролезать через люк, стараясь не позволить тяжелой крышке упасть обратно, но последнее мне не удалось. Я в изнеможении лежал на каменном полу, с эхом стука от захлопнувшегося люка в ушах, и надеялся, что смогу открыть его снова, когда это понадобится.
Будучи уверенным, что уже поднялся на огромную высоту, выше проклятого леса, я заставил себя подняться на ноги и принялся наощупь искать окно, что-бы впервые увидеть небо, луну и звезды, о которых прежде только читал. Но повсюду меня ждало разочарование, поскольку вокруг были только широкие полки из мрамора, заставленные ящиками пугающе большого размера. Снова и снова я задавался вопросом, какие же древние тайны скрываются здесь, в вышине, бездну времени отделенные от замка внизу? Затем вдруг мои руки нашарили дверной проем с каменной дверью со странным рельефом. Попытавшись открыть ее, я обнаружил, что она закрыта; но, преодолев крайнюю усталость, вложив в рывок все остатки сил, смог заставить ее открыться. Сразу же после этого безмерный восторг охватил меня, ибо сквозь узорную железную решетку, к которой поднимался короткий пролет каменной лестницы, светила полная луна, которую прежде я видел только во снах и в тех смутных видениях, которые не осмеливаюсь назвать воспоминаниями.
Теперь уже не сомневаясь, что достиг верхушки башни, я бросился вверх по ступенькам; но вдруг луна скрылась за облаком, и в наступившей тьме я замедлил шаги. Было все еще темно, когда я наощупь добрался до решетки. Она оказалась незапертой, но я не решился отворять ее, боясь сорваться и упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. Затем луна появилась.
Наибольшее потрясение вы испытываете, когда видите что-то беспредельно неожиданное и до нелепости невероятное. Никогда прежде я не испытывал ужаса, сопоставимого с тем, который испытал, увидев в тот миг совершенно абсурдную картину. Сама по себе она была вполне заурядной и тем самым более ошеломительной, ибо увидел я вот что: вместо головокружительного вида с огромной высоты на верхушки деревьев вокруг меня, на том же уровне, на котором я стоял, простиралась ровная земная поверхность, над которой возвышались мраморные плиты и колонны, стоящие в тени древней каменной церкви, остатки шпиля которой призрачно поблескивали в лунном свете.






