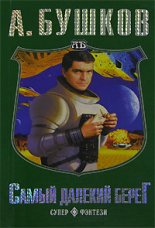Все оттенки черного Степанова Татьяна
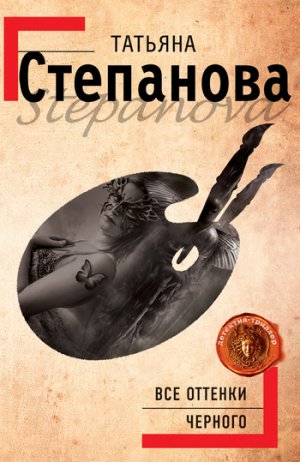
Шум послышался снова, левее сарая. Катя вздрогнула. А вдруг за соседским забором и вправду притаилась коварная и злая собака? Вот сейчас как залает басом…
– Пошел, пошел отсюда, фу, нельзя! – Она постаралась сказать это как можно решительнее. Скандалисту-псу, если таковой у них имеется по соседству, надо сразу показать, кто здесь хозяин.
Катя наклонилась к кустам, всматриваясь в заросли, дышащие августовским жаром, и… едва не села от неожиданности. Снизу из кустов, почти из самой травы на нее смотрело чье-то лицо. Бесцветные какие-то (то ли серые, то ли бледно-голубые) глаза, словно вылинявшие от зноя, изучали ее пристально и недобро.
Глаза казались огромными на этом худеньком бескровном лице, которое могло принадлежать кому угодно – старику, мумии: бледная-бледная кожа, коротко стриженные белесые волосы, бескровные губы. Кате стало не по себе, когда она вдруг поняла, что это бесполое и словно безвозрастное лицо принадлежит ребенку!
Присев на корточки, он сидел в траве с той стороны полуразвалившегося забора. Ему могло быть и десять, и двенадцать лет – а могло быть и меньше, и больше. На мальчике было надето что-то темное – вроде бы треники и черная футболка.
– Ты кто? Наш сосед? – Катя попыталась улыбнуться маленькому пришельцу. «Наверное, он просто альбинос, – подумалось ей. – Но какой-то все же странный мальчишка…» – Сосед, да? Ну, здравствуй. Давай знакомиться.
Увидев ее протянутую руку, ребенок попятился на четвереньках в кусты. В глазах его появилось напряженное выражение, словно он рассчитывал в уме расстояние, которое отделяло его от этой руки, перепачканной ржавчиной. Потом он все так же, на карачках, молниеносно исчез в чаще боярышника.
Катя прислушалась, но нигде не хрустнула больше ни одна ветка. Соседний участок, когда, приподнявшись на цыпочках, она заглянула за зеленую стену, был безлюден и тих.
Глава 4
КРАСНЫЙ ЛАК
Она красила ногти как ни в чем не бывало. И алый с перламутровым отблеском лак так и переливался на солнце.
А он стоял перед ней, как школьник перед классной доской с уравнением, которое для него – труднейший ребус.
Процесс окраски элегантно наманикюренных ногтей, казалось, захватил ее целиком и полностью. И это было в день похорон ее мужа. Гражданскую панихиду в офисе завода по производству стройматериалов назначили на два часа дня.
Никита Колосов часто потом вспоминал и свой вопрос, заданный этой женщине, и ее ответ. И всегда чувствовал при этих воспоминаниях горечь: привкус полыни был у слов, прозвучавших тогда в доме, в который им со следователем прокуратуры Карауловым в тот день приходить было не нужно.
Собственно, никакого продолжения расследования дела о самоубийстве Михаила Ачкасова так и не получилось. Судмедэксперт поставил в этом происшествии жирную точку. Приехавший из Москвы компаньон Ачкасова по бизнесу, отрекомендовавшийся также и его ближайшим другом, забрал тело из морга и договорился насчет похорон. Он действовал, по его словам, «исполняя волю безутешной вдовы». А на вопросы следователя он отвечать наотрез отказался.
Бедняжка-вдова – Елена Львовна Ачкасова – стала за эти дни в Старо-Павловске самой популярной личностью. Многие «первые лица города» в эти дни навещали ее, высказывали ей соболезнования, а заодно и… Вопрос «ПОЧЕМУ ОН ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ?» по-прежнему волновал всех. И языки мололи без устали.
С точки зрения процессуальных формальностей, «опрос» вдовы следователю прокуратуры был не нужен: дело не возбуждалось, все закончилось на уровне прокурорской проверки, и происшествие автоматически перешло в разряд несчастных случаев, от которых, увы, никто не застрахован. Однако на том, что разговор с вдовой все же должен состояться, причем незамедлительно, с редкой настойчивостью настаивал именно следователь.
Вечером, по возвращении из морга, когда Колосов уже собрался возвращаться в главк, Караулов вдруг отвел его в сторонку, цепко ухватил за рукав куртки, и…
– Что же это такое получается, Никита Михайлович? Так вот мы все это и оставим, да?
Колосов прикинул возраст Караулова – годика двадцать три, только-только пацан с институтской скамьи. Его однокашники сейчас в адвокатуру, в нотариат, в фирмы по продаже недвижимости косяками прут денежку зашибать. И этот, видишь ли, «яко недреманное око» тут в районе. На бюджетных хлебах – едва-едва только чтоб ноги не протянуть. Идейный, что ли, по молодости? Да нет, скорее просто мальчик без блата, без сильной руки. А может, и просто – банальнейший неудачник.
– Вам, – секунду он мучительно вспоминал имя-отчество «сосульки», как продолжал именовать про себя прокурорского, – э… Юрий… Юрий Алексеевич, вам что, собственно, от меня… Что ваш непосредственный начальник – прокурор по этому поводу сказал?
– Чтоб я не усложнял, раз экспертиза дала такое заключение… Чтобы текущими делами занимался, в общем… Переключился…
– Ну, и что же мешает переключиться?
– Но я… Никита Михайлович, ведь только час назад, там, в морге, вы были согласны со мной, точнее, абсолютно не согласны, что это дело всего лишь… – Караулов окончательно запутался. И покраснел с досады.
– Короче, Юрий Алексеевич, что ты от меня-то хочешь?
– Мы обязаны поговорить с вдовой Ачкасова! – «Сосулька» еще пуще зарделся то ли от колосовского полушутливого, полупренебрежительного тона, то ли от собственного упрямства.
– Смысл?
– Вам ведь тоже это интересно, Никита Михалыч!
– Интересно? – Колосов хмыкнул. – Вы считаете, что мне… интересно? Что?
– Что с некоторых пор такое творится в нашем городе. Произошло, произойдет – ну, не знаю! Я еще там, в парке у карусели, как на вас взглянул, сразу это понял.
Колосов усмехнулся. Прокурорский начинал его забавлять. Какой настырный мальчик! Прежде Колосов испытывал сильное недоверие и выказывал большую осторожность в общении с представителями этой конторы. На это имелись кой-какие причины. Но этот вчерашний студиозус…
– Ты за Полунина до сих пор переживаешь? – помолчав, спросил Колосов.
– Он был… Да вы знаете, какой он был человек!
– Он тебя на работу брал?
– Да, точнее… Я тут практику проходил в прокуратуре, он куратором моим был, а потом… Не мог он так вот ребенка своего, жену ни с того ни с сего расстрелять. Это же дикость просто. И потом себя тоже… И этот тоже, Ачкасов… Это же не случайность, не может все это быть случайностью! Не бывает такого в жизни!
Всего несколько часов назад, там, на поляне за каруселью, Колосов был железно уверен, что непременно встретится с вдовой самоубийцы. А теперь ему было как-то чудно: этот мальчишка с таким жаром уговаривает его сделать то, что он хотел и сам. Откуда такая апатия? Отчего наши чувства и намерения подвержены таким необъяснимым и мгновенным метаморфозам?
Метаморфоза чувств. Именно об этом он думал, наблюдая, как ОНА, сидя в гостиной своего дома, как ни в чем не бывало красит алым лаком ногти. Она даже не надела траура. На похороны своего мужа-самоубийцы Елена Львовна Ачкасова собиралась идти в элегантном сером костюме-букле. А может, она и совсем туда не собиралась?
Вопрос, заданный «безутешной вдове» следователем Карауловым, показался Колосову чуть ли не по-детски наивным:
– Елена Львовна, что все-таки произошло с вашим мужем? Почему он…
Колосов вспомнил впоследствии всю эту «картинку». Их приход в дом самоубийцы. Просторные, залитые солнцем комнаты новенького еврокоттеджа казались полупустыми не от недостатка мебели, а от тишины, в них царящей. Открыла входную дверь на их звонок с парадного какая-то молчаливая изможденная женщина в черном – видимо, домработница Ачкасовых. В холле-прихожей было полно траурных венков с лентами. Огромные букеты роз, гладиолусов, хризантем, лилий, гвоздик и георгинов лежали на ящике для обуви и на креслах.
Домработница проводила их к вдове. Елена Львовна, узнав, кто они такие, и терпеливо выслушав слова соболезнования, кивнула холодно и вежливо, а затем вернулась к прерванному занятию, за которым они ее и застали.
– Личным делом моего мужа было поступить так, как он поступил. О причинах же, толкнувших его на этот шаг, я ничего не знаю.
Можно было разворачиваться и уходить. Колосов прочел это в ее темных глазах: убирайтесь вон. Но Караулов по молодости лет, а может, и просто с досады, не пожелал так вот быстро сдаться и отступить.
– И вы так спокойно об этом говорите! – воскликнул он. – Ведь он – отец вашего ребенка! А вы можете заниматься маникюром, когда…
Елена Львовна Ачкасова как раз в эту минуту сделала особенно удачный штрих кисточкой на ногте большого пальца и поднесла руку к лицу, любуясь результатом. Ее ответ Колосов запомнил надолго.
– А что, было бы лучше, если бы я билась головой об стенку и причитала? – спросила она спокойно. – Это было бы фальшиво, молодой человек, простите, я не расслышала вашего имени-отчества. Это было бы пошло и недостойно наших с Михаилом отношений. Если бы он мог видеть меня сейчас, он бы…
В тот миг Колосов ожидал услышать от этой женщины, похожей на сфинкса, все, что угодно: «понял бы меня», «не осудил бы» и тому подобное. Но Ачкасова совершенно буднично закончила:
– Он бы не возражал.
Секунду они все молчали. А потом Елена Львовна поднялась с кресла.
– Извините, – сказала она, – сейчас придет машина. Хочется поскорее покончить со всем этим.
Колосов понял: под словечком «это» она подразумевала похороны мужа, панихиду на заводе.
У ворот коттеджа, когда они покидали его, уже стояла синяя «Вольво». За рулем был тот самый «друг и компаньон», который взял на себя все хлопоты по похоронам Ачкасова «от лица его безутешной вдовы». На взгляд начальника отдела убийств, это был самый обычный, ничем не примечательный мужик. Такой же, как и Ачкасов, рыхлый толстяк, типичный полнокровный сангвиник, как выразился судмедэксперт, пожилой, да ко всему еще и лысый, как коленка. Шикарная машина да отличный черный костюм казались его единственными достоинствами.
Владелец «Вольво» терпеливо ждал за рулем, даже и не пытаясь пройти в дом и повидать вдову. И в этом вежливо-стоическом равнодушии ощущалось нечто такое, что… Какими же были изначальные отношения между Ачкасовым, его женой и его другом-компаньоном, подумал тогда Колосов, если теперь они обернулись вот таким внешне полнейшим бесчувствием?
Глава 5
СОСЕДИ
Приятельницу Катя нашла у калитки. Нина разговаривала с молодым мужчиной, одетым по-дачному просто – в спортивный костюм. «Молния» его «олимпийки» была расстегнута, открывая загорелую грудь, с плеча свисало синее махровое полотенце. Глаза же незнакомца… Катя отметила, как Нина и этот явно собравшийся на речку парень смотрели друг на друга: она радостно и смущенно, а он со снисходительным интересом и… Взгляд его скользнул по располневшей Нининой фигуре. Складывалось впечатление, что он рассматривает женщину на седьмом месяце беременности как редкий экземпляр насекомого, прежде чем дотронуться до которого, еще сто раз надо подумать.
– Не представляешь, какая тут перед вашим приездом буря была, гроза. На станции провода оборвало, два дня весь поселок без света куковал… – Голос у Нининого знакомого был приятным; самое обычное приветствие «добрый день» он произносил при желании так многозначительно, так мягко играл низкими обертонами, что просто можно было растаять от этой его интимности и шарма.
– Костя, а ты давно здесь? – осведомилась Нина.
– С июня мы тут, все уже так успело надоесть.
– Мы? Значит, и… Лера с тобой тут? – Нина спросила это с неловкой запинкой.
– Угу, – парень нехотя кивнул, – куда ж я без нее? Точнее, она без меня?
– Но она… с ней получше или все как прежде?
– Как прежде. – Его лицо из насмешливого стало угрюмым. – Смотря как накатит. А ты, я вижу, Нина, тоже г-мм… несколько изменилась за это время. Сколько мы не виделись-то? Лет пять?
– Семь.
– Ну, ты еще больше похорошела.
Щеки Нины порозовели. А Кате почудилась в этом комплименте легкая тень издевки.
– А муж ревнивый и грозный, где же он? – Парень тут впервые за весь разговор полуобернулся в сторону Кати, которая стояла на садовой дорожке в нерешительности – то ли уйти в дом, оставив Нину продолжать беседу, то ли остаться.
– Борис работает. Он… он в командировке. Он приедет. На днях. Позже, словом, как только сможет. А мы… это вот моя подруга. Катюш, познакомься. Да вы же, наверное… Кость, да вы должны были встречаться! Катя, это же Костя Сорокин – разве не помнишь его? Нет? А я отлично помню, как вы у нас гостили, и еще Мещерский был с бабкой и дедом, и мы с тобой, Сережкой Мещерским и вот с Костей на заливные луга на тот берег отправились. Ну, не вспомнила, нет? У Кости еще собака была, дог такой огромный, черный! Неужели забыла? Господи, что за память у тебя!
Константин Сорокин и по Кате скользнул оценивающим взглядом. Нет, он явно ее не припоминал. Она же… В принципе, если напрячь извилины, можно припомнить все. Даже поход на неведомые заливные луга в компании двух мальчишек и черного зверовидного дога. Но стоит ли вспоминать человека, который всем своим видом показывает, что и знать тебя никогда не знал?
– Здравствуйте. – Катя отделалась вежливым приветствием.
– А Леру можно повидать? – спросила Нина.
– Отчего ж нет? Заходи. Лучше, правда, утром, настроение у нее поровнее всегда. – Сорокин, однако, особого радушия не проявил. – Ну, и как доктор Айболит, может, что посоветуешь?
– Я же не специалист в этой области.
– А специалисты эти тоже ни черта не понимают.
– Лере полезен свежий воздух, хорошо, что вы тут сейчас. Здесь такое приволье, так красиво. После Москвы, чадной, грязной, тут так легко дышится. – После раздраженного сорокинского «ни черта» Нина явно стремилась перевести разговор в иное русло. – А из нашей старой компании тут сейчас кто-нибудь появляется?