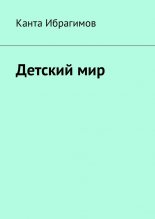Роальд и Флора Беломлинская Виктория

© Виктория Беломлинская, 2017
ISBN 978-5-4490-1468-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие-посвящение
Мама посвятила эту книгу своему отцу —
Израилю Марковичу Анцеловичу.
Он один из главных героев этой книги. Мама мечтала увидеть ее изданной, подарить ему. Но впервые книга вышла в Америке, в издательстве «Эрмитаж» в 1993-м, когда деда уже не было в живых.
Нам с мамой повезло – мы обе встретились с ним, как только родились, и покуда он жил на этой земле – он не переставал нас изумлять и восхищать. Я решила, что в этой книге – будет много его фотографий: и таким, каким его помнила мама, и таким, каким помнила я – седым, но по прежнему прекрасным.
Юлия Беломлинская, составитель и старшая дочь Виктории
Беломлинской.
Все фотографии – из домашнего архива семьи Беломлинских
Израиль Анцелович с дочерьми: Дальмирой и Викторией. Фотография сделана в день его ухода на фронт.
Возвращение к себе
Это было года за полтора до окончания войны. Еще до того, как Флора пошла в первый класс, до того, как ее положили в больницу для дистрофиков, до того, как она отморозила пальцы на руках и ногах, до того, как ее обрили наголо… Так что точно, они тогда только-только вернулись в Ленинград. Ну, разве что чуточку попозднее, мать уже успела немного успокоиться из-за квартиры. Правда, что она недолго по ней убивалась, но уж такой характер у Ады: другим и не снилось, какой она может скандал, какую истерику закатить по всякому пустяку – вот и тут ее больше всего волновало, что Залман – дурак; она, как с вокзала приехали, вошла, страдальческим взором окинула новое их жилье, села на диванные подушки, вместо отсутствующих стульев заботливо сложенных Залманом на полу, закрыла лицо руками и сквозь них простонала: «Какой дурак, господи! Ну, какой дурак! Это надо же…» И пошло и поехало, как она его честила, какие проклятия посылала на его голову, даже в собственной смерти винила, как будто она уже и вправду умерла. И как будто не она все эти годы дрожмя дрожала за его жизнь и каждую ночь говорила себе: «Пусть все, что угодно случится, только бы он остался жить!..» Залман, наверное, тоже так о них думал, и что ему было до того, в какой квартире жить – в такой, в сякой, когда главное – война к концу подходит, все живы пока, и он вырвался на какие-то считанные дни с фронта в Ленинград, то есть его командировали с заданием, но он за эти дни все провернул: и вызов им успел сделать, и вот с квартирой решил вопрос. В их довоенной квартире поселился один инженер с Кировского завода и совсем прочно обосновался; мебель вся уже инженерова стояла, от их мебели и следа не осталось; ее, по словам инженера, видно, кололи на дрова прямо на кухне, и немудрено: у кого это в блокаду нашлись бы силы вытащить из квартиры такой громадный дубовый буфет, в теперешние их комнаты его и не внести было бы, правда, стулья, тоже дубовые, еще дедовские, так-таки вытащили – Залман их потом в одном доме видел, даже попросил хозяина встать, перевернул стул и на всякий случай проверил, есть ли клеймо деда. Клеймо было на месте, то самое, каким он, краснодеревщик и обойщик-декоратор Двора Его Императорского величества, метил свои изделия, но какое все это могло иметь значение, смешно даже думать, теперь, когда Залман хорошо знал, что тут люди перенесли, в каком аду выжили. И его дети, слава богу, тоже живы, и жена, и скоро все это кончится, надо только, чтобы они вернулись и ждали его дома. Тогда, он твердо верил, все будет хорошо. Но если с ним все-таки что-нибудь случится – так тем более, в последнюю минуту он должен знать, что у них есть своя крыша над головой. А вот что делать с крышей – тут он немного растерялся: не гнать же человека с уже обжитого им места. Но инженер сам ему выход подсказал: разбомбленную квартиру, в которой он прежде жил, уже успели подлатать, и он мог бы в нее переехать, но тут ему до завода ближе и вообще, и он предложил Залману поменяться. Правда, она коммунальная, три смежных комнаты его, а в четвертой соседка, но зато самый центр: тут и Летний сад, и Марсово поле, и все такое… Мирная жизнь представлялась Залману каким-то сплошным гуляньем по садам и паркам, по друзьям и знакомым, и он очень обрадовался; до войны у него была машина, на которой он развозил по домам гостей, а теперь ее нет, и дети выросли, им полезно будет жить поближе ко всем этим памятникам старины. А что, люди не живут в коммунальных квартирах? Да еще в сто тысяч раз в худших условиях, в одной комнате по пять человек ютятся, а тут три комнаты, да в них и ставить-то нечего. Хорошо, что по ордеру выдали коечто, там стол, диван, кроватки две железные и шкаф с зеркалом, жаль только, что когда впопыхах, в последний день вез все это богатство со склада, зеркало по всей диагонали лопнуло, и Залман ужасно расстроился: конечно, теперь Ада будет переживать и бояться, что в доме разбитое зеркало. Что ее что-нибудь другое может огорчить – это ему и в ум не могло прийти, но разбитое зеркало – скверная примета, говорят к покойнику, хотя, впрочем, все это глупости…
Потом они лет пятнадцать жили с этим разбитым зеркалом и всегда думали, что это плохая примета, и боялись, что кто-нибудь умрет, но сменить зеркало так и не собрались, и никто, слава богу, не умер, хотя примета есть примета… А в те первые минуты его обезображенная поверхность как-то особенно зловеще отразила все убожество залмановских благоприобретений.
Непоправимое зло заключали сами комнаты: первую, вытянутую длинным угрюмым коридором, надо было пересечь по диагонали для того, чтобы попасть в следующую, квадратную, но ее тоже приходится пересекать из угла в угол, и за тонкой перегородкой к ней лепится третья – маленький гробик, его видно Залман определил быть детской, потому что сам укрепил под низким, растрескавшимся потолком единственный, сохранившийся из довоенной жизни предмет, умильно возвращенный инженером – парящего амурчика.
С одной стороны рука, часть крылышка и кусок какого-то бронзовато-прозрачного одеяния натурально гипсового вестника любви отбились, но другой половиной своего существа этот инвалид войны был готов еще самоотверженно послужить людям, исступленно простирая в вытянутой детской ручонке непомерную тяжесть электрической лампочки. Первой комнате не хватило абсолютно никакой мебели, не говоря уже о том, что сразу же стало очевидно, бессмысленно эту пустоту отапливать, и ей суждено было на долгие времена остаться неким чистилищем перед входом…
Но самое страшное являла собой кухня. Ее коммунальная заброшенность как бы нашла последнее свое утверждение в навекивечные разлитой на полу огромной цементной луже – сюда и жахнула бомба, говорят, она провалилась до самого нижнего этажа и так и не взорвалась, но как можно было залатать следы ее падения более безобразным способом, для Ады навсегда осталось излюбленным риторическим вопросом.
Уборная имела особенности, из которых одна была великолепно устойчива, а другую необходимо было устранить, но удалось это сделать не раньше, чем по возвращении Залмана. С одной стороны, ничем не оправданное возвышение, на которое надо взойти, чтобы достигнуть унитаза, обещало какое-то неземное, царское блаженство, но с другой стороны, очевидность отсутствия самого унитаза призвана была обратить эти посулы в прах. Почему-то и Флору и Роальда все время мучила мысль, что содержимое их горшков, выливаемое в раскуроченную дыру посреди возвышения, должно обрушиваться жильцам нижнего этажа прямо на головы, и это приводило их в ужас перед необходимостью естественных отправлений.
Но словно не желая бить наповал, судьба смягчила картину возвращения семейства Залмана Рикинглаза в будущее без прошлого, предоставив Аде возможность некоторое время чувствовать себя полновластной хозяйкой среди этих излишне обильных символов войны и мира.
И когда громкий плач Флоры («Мамочка, не надо, ой, не ругай папочку…») и вполне мужское сдержанное дрожание подбородка Роальда вывело ее из мистического состояния общения с отсутствующим мужем, она оборвала себя на фразе: «Ну, почему, почему ты такой идиот, почему ты никогда ни о ком не думаешь?!» – и с необъяснимой в ее болезненном щуплом теле энергией принялась налаживать быт.
…Пройдут годы, и все в семье забудут радоваться тому, что одна печка обогревает обе комнаты, большую и маленькую, паровое отопление сделает ее вообще не нужной; и эти примуса, керосинки – каким ужасом покажется готовка на них спустя две недели после того, как на кухне установят газовую плиту, но для Роальда и Флоры нежной памятью хрупкого несказанного детского счастья вечно будут живы те вечера, когда Аде наконец удавалось разжечь сырые дрова; еще немного они покряхтят в печи за уже прикрытой дверцей, постонут, как бы прощаясь с мукой своей мертвой жизни, протяжно гулко взвоет в дымоходе, как будто: у-ух, утащу-у! – и защелкает, затрещит, застрекочет; вдруг как радостно каждый раз, дружно рванет пламя, и уже можно, присев на сучковатое полено, не отрываясь, глядеть в щелку на магическое, никогда не скучное действо огня. Так в глазок волшебной трубочки, калейдоскопа, купленного Адой за десятку на рынке, смотри до одури, до кружения в голове, но всетаки надоедает, а на огонь никогда-никогда бы не надоело…
…Тут, словно отступая перед живым огнем, медленно, мучительно замирает электричество. Ада с тоской взирает на лампочку: что ж, опять сидеть без света, а дети радуются и с нетерпением ждут темноты. Еще бы! Сейчас Ада распахнет настежь печную дверцу, внесет в комнату керосинку – с ней все-таки посветлее, а экономить дрова, керосин, – нет, она вообще никогда ничего не могла экономить, не иметь – другое дело, но пока есть – живи, пользуйся и… можно читать!
Они рассаживаются на полешках. Ада, кутаясь в дырявый платок, по-царски устраивается на диванных подушках, берет в руки «Отверженные», минуту-другую спорит с Роальдом о том, начинать главу с начала или продолжать с того места, на котором уснула прошлый раз Флора, и чтение начинается.
«Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения», – читает Ада. Она читает очень хорошо, совсем не так, как Роальд, он просто бубнит, а Ада читает с выражением, с чувством, она никогда ничего не пропускает, но и дети ее никогда не прерывают чтения нетерпеливыми вопросами. Их исступленное воображение помогает им преодолевать невнятность тяжелого порой многословия, вырывая из его пут живую плоть любимых и ненавидимых героев.
И мрак их комнаты, слабо нарушенный светом из печки, мгновенно превращается в тьму наполненного призраками леса, по которому пугливо мечется одинокий несчастный ребенок; еще, еще страница – и печка их уже не та добрая печка, а зловещий очаг, к которому не смеет приблизиться Козетта, и Флора, внезапно побледнев, хотя только что жар из печки так украсил ее румянцем, плотнее сжав коленки, отодвигается от огня. Она мучительно дрожит от холода, обиды и страха, и две соленые струйки уже свободно бегут из растопыренных глаз, даже не искажая лица гримасой плача… И Ада и Флора плачут за чтением просторно, не давясь слезами, но странное дело, Флора, плачет еще только предчувствуя беду, а Ада как раз тогда, когда к ее бедной девочке, конечно же к ее Флоре, внезапно приходит спасение, и незнакомец протягивает отвратительной трактирщице монету в двадцать су… Но хуже всего дело обстоит с Роальдом. Нет, не потому, что он мужчина, но то, что он сейчас чувствует – эта тяжесть сдавливает грудь, совсем лишает дыхания, эта боль, эта любовь, эта мера сострадания и ненависти – все это просто не может быть выражено слезами! О, Жан Вольжан, скорее неси Козетте куклу! Ада торопится, ведь детям пора спать, они должны уснуть счастливыми… Вот оно, наконец: «0на больше не плакала, не кричала – казалось, она не осмеливалась даже дышать. Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли истуканами»… – и Флора не выдерживает больше: она заливается истерическим смехом.
– «Истуканами!» Мамочка, ой, не могу! Вот здорово! «Истуканами!» – хлопает она в ладоши, трясет головой и слезы разлетаются с ее прозрачной переносицы в разные стороны…
В конце концов это место в романе зачитали до дыр, но что могло сделать не новыми, остудить боль, тревогу и радость, рассеянные на тех страницах?! Время, одно только время…
Но вдруг Ада, – нет, Флоре и Роальду никогда этого не понять – только что была с ними, там, и вдруг она уже здесь, в тускло освещенной керосинкой и затухающим огнем в печи комнате, уже раздраженная, что топили с открытой дверцей, и тепло не накопилось, и час уже поздний, – вдруг она крикливо-назойливо: «Спать, спать-спать-спать, ну, быстренько, нечего волыниться, Флора, Роальд, оглохли что ли, ну, быстро-быстро на горшок и спать!» – твердит, противная, до чего же она противная…
Утром Ада встает тяжело. Было бы можно, так и вообще не вставала бы, нет у нее сил, нет желания жить этот день и еще один, и другой, и следующий… Но ничего не поделаешь – надо жить, надо будить детей, кормить, Роальду что-то там про уроки сказать. Флоре – чтоб Рошу слушалась, помогла бы ему комнаты убрать; да вот еще, чтоб с карточками осторожно, когда за хлебом пойдут, и, надо – ох, вечное «надо», самой отправляться в артель. Если до выхода из дома у нее останется лишняя минутка, она обязательно звонит Леле.
– Лелечка, – здравствуй, дорогая! Ай, что вы говорите, милая, ну что у меня может быть хорошего? Характер хороший – вот и все! Ха-ха-ха! Конечно, гречневая каша, но что делать, вы мне можете не поверить, но я ни одной ночи ни на секунду не смыкаю глаз!.. Ей богу, клянусь здоровьем детей…
Ада самозабвенно клянется и не замечает, как восковой лоб Роальда опускается на самые глаза, полные презрительной злобности. Флора, бездейственно замершая над тарелкой остывшего пшена, тут же повторяет гримасу брата, хотя ее нежное личико совсем не приспособлено для выражения сколько-нибудь сильных чувств, да она и не знает еще, к чему бы они могли относиться. Но в это время Ада кладет трубку и сразу же исступленнонадрывно оглушает флору:
– Ешь! Ешь, я кому говорю! Что ты морду воротишь?! Скажи спасибо, что это есть! Другие и этого не имеют! Темные глаза Флоры вмиг становятся дымчато-прозрачными от набежавшей в них влаги, и соль, и горечь детской беззащитности крупно срывается в бездонные россыпи каши.
– Не встанешь из-за стола, пока не съешь! – кричит Ада. – В могилу меня вогнать хотите, в гроб раньше времени. Наплачетесь тогда, наплачетесь!.. – уже сама давясь подступившими рыданиями, испуская хриплое астматическое дыхание, она все-таки напяливает то, что некогда давным-давно имело все основания называться беличьей шубкой, и, глотая вперемешку слезы, кашель, угрозы и мольбы, хлопает входной дверью…
Роальд помогает Флоре залить кашу, сброшенную в уборную, водой, и за это Флора с готовностью делит с ним труды по уборке квартиры. Швабра на длинной палке слишком тяжела для детей, они давно уже изобрели свой метод борьбы с крошками и прочим мусором, ползая на корточках, а то и на коленках по полу, старательно мусоля во рту указательный палец и наклеивая на него всякую грязинку, и только встретившись под столом, они прерывают на время работу – это излюбленное место для самой тайной сокровенной беседы. «Лелечка, дорогая!» – передразнивает мать Роальд, он ничуть не искажает, но гримасничая, подчеркивает только что слышанные интонации: «Ешь! Ешь! Я кому говорю?! Врунья! Врунья! – стучит Роша кулаком по полу. – Притвора несчастная!». Уже готовая было рассмеяться тому, как Роша передразнивает маму, Флора спохватывается, таращит на брата глаза и говорит:
– Ага, а знаешь, как она орет?! Я прямо дрожу вся! Я не могу, я так ненавижу ее тогда!..
Но Ада, бедная Ада, она тоже не может. Не может больше ни одного дня. Четыре года, господи, этой ночью она подсчитала, тысячу четыреста шестьдесят дней и ночей и сколько еще, неизвестно, одна, и ни минуты покоя, все время в страхе, и сердце разрывается в клочья, и эти дети – они худые и синие, зеленые, как покойники, можно подумать, что она их никогда не кормит; а чем она может их кормить – только тем, что есть, у других дети едят не разбираются, разве человек, у которого нет ребенка, может понять, что такое, когда ему на ноги надеть нечего, Флора, бедняжечка, на улицу не может выйти после двух, когда Роша в школу уходит – у них на двоих одни валенки… У Лели нет детей, у нее другие интересы в голове, поразительно, в такое время – любовника завести! Хотя, с другой стороны, можно понять: всю блокаду прожить в Ленинграде – тоже не фунт изюма… Вдвоем им все-таки легче было… Кто знает, может быть Никита, действительно, только благодаря ей выжил. Он бакинец, Адин земляк, с детства дружили, когда-то она его с Лелей познакомила. До войны он от всех скрывал, что у него эпилепсия. Разве он мог бы один все это вынести? А Леля на кого похожа? Ноги, как спички. Смешно, что грудь у нее как была огромная, так и осталась – никуда не делась… Никите было где душу отогреть. Нельзя людей осуждать, слава богу, когда друзья есть: вот ведь Никита ее в свою артель устроил. Ада ловко орудует челноком, ходы у него простые, туда-сюда, нитку пропустишь, петлю накинешь… Кому они только эти сети нужны, кто теперь рыбу ловит? Наверное, женщины ловят – вот кому нелегко приходится, тоже ведь дети у них… Хорошо, у кого детей нет. Разве Леля поймет, что она может ночь не спать, плакать о том, что у Флоры всю войну ни одной куклы не было, она, наверное, даже играть-то в них не умеет… Нет, Леле этого не понять, с ней так, потрепаться можно, она эгоистка, для себя одной живет; делать ей нечего, в такое время еще и кошку завела – тут голову ломаешь, чем детей накормить, а она с кошкой носится…
– Лелечка, вы с ума сошли! – сказала Ада, когда та в один прекрасный день принесла ее детям крошечного облезлого котенка.
– Мамочка! Ну, мамуленька! Миленькая, ну, родная моя! – уже почти плача, кричала Флора, а Роальд смотрел на нее с такой мольбой, и Леля, подперев в соломинку отощавшими цыплячьими ручками свою пышную грудь, говорила:
– Что вы, Адочка, кошки сейчас на вес золота в Ленинграде. Многие мечтают иметь. Нет, я вам серьезно говорю: я лучше сама не доем, но кошку накормлю! Поверьте мне, мы с Никитой…
– Идите к себе, дети. Забирайте его и нечего… – Ада предусмотрительно отправляет детей в другую комнату: не к чему их присутствие при разговоре взрослых. Но там, у себя, никто не может помешать им замереть и слушать, напряженно ловить каждое слово, понимать и не понимать, одобрять и порицать, пожимать плечами, строить гримасы, беззвучно смеяться, словом, быть полноправными участниками текущей через тонкую перегородку беседы.
– Да что вы говорите, Лелечка!
– Представьте себе. Вы-то, слава богу, знаете, какая я чистюля. Я просто, Адочка, не могу иначе, что бы то ни было, но я должна помыться и постирать – ведь знаете, я все время думала: вдруг упаду, вдруг меня ранит, а у меня белье несвежее! И каждый день я с бидончиком, с чайником, мне же не донести много! Но каждый день я все-таки умудрялась по большое декольте вымыться…
– Боже мой, боже мой, – вздыхает Ада.
– Но поверьте мне, при этом и я и Никита выжили только потому, что ели кошек. Причем это было счастье, мы же не могли их сами ловить, обдирать, но когда нам удавалось купить кошку – это было счастье…
– Какой ужас! Нет, вы шутите, Лелечка!.. Нет, она шутит, тетя Леля шутит, этого не бывает, не может быть, чтобы кошку тушили, жарили, делали из нее котлеты!
Но так, таким голосом не шутят, и мама не смеется, и им совсем не смешно.
Флора крепко вжимает шерстистое дрожащее тельце котенка в ямку под ребрами. Роальд говорит: Пусти, ты задушишь его!» – и тянет котенка за лапки к себе. Тут-то он и должен был бы подать голос, звучно выразить свое неудовольствие, но, выпустя мягкие еще коготки, то ли в зевке, то ли в безнадежном протесте, он мучительно раззявил роток, бледненько-розовый, как сама нежность, и… не издал ни звука. Потом можно было сколько тебе вздумается складывать его пополам, тянуть из-под кровати за хвост, любя, заставлять страдать как всякое существо, на которое выхлестывается чья-то излишняя неудержимая любовь – но звуков страдания, вслух выраженного неудовольствия никто в семье от него не слышал.
Флора играла с ним, как с куклой, и даже лучше, чем с куклой. Он же живой, податливый, если его положишь на расстеленные тряпочки, он лапки на животе сложит, Флора аккуратно ему хвостик между задних лапок подожмет, запеленает, как ребеночка, и носит его, баюкает, а он и вправду согреется и уснет. Но даже слабого сонного мурлыканья от него не услышишь. «Что за чудеса?» – удивлялись все трое, а потом решили, что котенок немой. Что он и глух к тому же, не было случая увериться – дети его с рук не спускали, сколько ни сердилась на это Ада; весь день Флора с ним носится, а как только Роша придет из школы – с семи часов до самого сна они отбивают его друг у друга. Иногда до слез дело доходит, и Ада должна их мирить.
– Отдай, – говорит, – Флоренька, Гераську Роше, он же завтра с утра уроки должен готовить, потом в школу пойдет, ты еще наиграешься…
Его немота подсказала детям имя, может быть, не слишком удобное для кошки, но глухонемой дворник, большим сердцем полюбивший собачонку, в воображении детей слился со всем животным миром, и в честь этого единения немой котенок получил имя Герасим. Ада не согласна была с детьми в двух пунктах: вопервых, она все-таки не верила в его глухоту и уверяла, что когда они его не тискают и она зовет его не их дурацким именем, а просто «кис-кис-кис», он хоть и молча, но вполне сознательно идет на зов; во-вторых, Ада особенно на этом настаивала, имя Герасим ему не подходит, поскольку он есть не кот, а кошка. Но с чего Ада могла это взять, детям было абсолютно не ясно: если всякая кошка – кошка, но, однако, существуют в мире и Васьки, и Мурки, то не иначе как по произволу людей, и хотя Роша знал о тайнах человеческой плоти несколько больше Флоры, однако Ада умудрилась провести между детьми ту непереступаемую черту стыдливости, что не нарушалась даже в тайных беседах под столом… Тем более ему немыслимо было переносить свои знания на все живое, смутно чувствовалось, что это грозит опасностью самых неожиданных открытий и, бессознательно страшась, он прочным бездумием закрывал себе путь к ним. Флору же не обременяли никакие лишние знания, но с первым вздохом природа назначила вполне определенные претензии ее материнскому началу и, если через многие годы, в самый момент рождения, увидя, что произвела на свет девочку, она осенится горестной мыслью, что все только что принятое, было напрасным усилием – это будет не более чем откликом того, давно забытого детского упрямства…
Время текло, все новыми и новыми салютами затмевая в памяти приближение конца зимы, но один случай не даст сбиться, перепутать сроки – тогда, именно в ту зиму перестало меркнуть и умирать электричество. И если в тот вечер Ада и внесла в комнату керосинку, так это уж точно не для света, а должно быть, она пораньше протопила, и печь уже успела остыть. Ада теперь больше бывала дома, ее ленинградская астма, верно, вместе с ней вернулась в родной город, приступы совсем замучили ее и ей разрешили работать надомницей. Не ярко, но все-таки горит лампочка над самодельным, из вощеной бумаги, абажуром. Ада, зябко кутаясь в платок, простирает синевато-бледные постаревшие раньше времени руки над неровным и дрожащим языком огня в керосинке, а рядом припушившйся Герасим только что вылакал из блюдечка последние капли молока и теперь смотрит на хозяйку протяжно и задумчиво…
Флора стоит на столе, всей головой всунувшись в черный раструб громкоговорителя – только так, и не потому, что ей кто-нибудь мешает, а только воспарив над обыденностью, приобщается она к таинству очередной радиоинсценировки… Роальд поглощен совсем не мужским делом: натужно сопя и шмыгая носом, он вяжет крючком нескончаемую косичку, но это так, для виду, на самом деле именно сейчас он решает одну из самых кардинальных проблем своей будущей жизни. То, зловеще сжимая челюсти, он скрипит зубами и особенно громко тянет носом, то вяло опустив уголки губ, в один только взгляд вкладывает все свое презрение к неодолимой грубости, обступающей его за пределами отчего дома: он никогда не научится складывать пять пальцев в фигу и, поднеся ее к носу недруга, говорить: «На-кось, выкуси!» Он не полезет в драку из-за булочки, выхваченной из рук под громкий крик всего класса: «0бманули дурака на четыре кулака, всем по ириске, дураку – огрызки!» Нет, он просто научится не бледнеть и уж конечно же не краснеть, когда ему будет грозить опасность, на все оскорбления отвечать взглядом, одним только убийственно презрительным взглядом…
И среди громкозвучной тишины, в которую замкнулись ее дети, Ада тянет монотонно-ласковое:
– Киса, кисынька, ну что… ну что ты молчишь все? Ну, скажи: мяу, мяу-мяу… Ну, смотри, как я говорю: мяу-мя-я-у.
Котенок просительно смотрит на Аду, доверчиво раскрывает розовый роток и будто силится… но не может.
– Ну что, глупенький? Мя-яу, смотри, как я говорю: мяумяу. Роальд, если еще раз шмыгнешь носом, получишь по кумполу. Мяу, кисик, мяу-мяу…
И вдруг Герасим встал, выгнул дугой спину, воинственно задрал кверху усы, глянул на Аду звериным глазом и… издал хриплое натужное «мяу».
Что тут поднялось! Флора скатилась со стола, а вместе с ней ссыпался пулеметной очередью целый ворох карандашей, и сорвалась под стол фотография Залмана. Роша ринулся, запутался в нитках, нитки за стул – и стул рухнул; но самое страшное: Ада задела платком керосинку, платок сорвался с плеч, она дернула его и керосинка полетела на бок. А лженемого котенка уже и след простыл: то ли испугавшись своей выходки – явного саморазоблачения, то ли проснулся в нем вместе с голосом пугливый нрав зверей, но он еще до всего этого переполоха, а только как мяукнул, так тут же пулей сиганул под диван. А все хохотали, и Ада, поднимая керосинку, притворно ругалась: «Вот паршивец, чуть платок, чуть весь дом из-за него не сожгла, у-у, кухгер тан зац!» – сказала она по-армянски, что означало самое прекрасное у нее настроение, флора смотрела на мать с таким восторгом, с таким обожанием, как на самую настоящую волшебницу: «Мамочка, мусенька, ты же научила его!» А Роша, ползая на коленках и шаря под диваном, выдумывал бог весть что:
– Я знаю, – говорил он, – что шпион, точно, немецкий шпион, он нарочно притворился глухонемым, чтоб все подслушивать…
– Э-э-э, что подслушивать, что ты болтаешь? Просто время такое: и кошки ослабли, и котята родятся слабыми… – вдруг горестно сказала Ада и пошла на кухню. Она принесла остатки молока и вылила их в блюдечко. Словно почуя нечто большее, чем пустые восторги по поводу обретенного им дара речи, котенок тут же вылез из-под дивана…
Но если котенок не немой, то это имя, оно и в самом деле такое громоздкое, вовсе неудобное, к тому же, может быть, Ада действительно права, надо согласиться с тем, что он кошка, – это даже интереснее: был у них кот Герасим, а теперь пусть будет…
– Пусть будет кошка Му-Му, – сказала Флора. – Нет, дети, – Ада видно почувствовала, что сегодня легко может брать рубеж за рубежом, – чего выдумывать, нечего мудрить. Мурка она – и все тут!..
Это было её природным именем, потому что Мурка тут же подняла мордочку на Аду и тихо благодарно мяукнула…
Удивительный, согретый нежным согласием вечер! И ничто на свете не могло его омрачить. Даже то, что перед самым сном Ада сказала:
– Вот, пожалуйста, Флоре на утро молока нет. Когда животное в доме, его надо кормить, а если нечем кормить, нечего и держать.
Наступила весна… Она открыла перед семейством Залмана Рикинглаза совершенно неожиданные перспективы их новой жизни. Новые вставали проблемы и новые светили радости. Одно всегда вытекает из другого: что поделаешь, если нет на свете такого угрюмства, которое по весне не было бы опровергнуто простым желанием распахнуть окно – ах, ну их, все эти заботы, в конце концов хоть гулять, хоть воздухом дышать может каждый… Но как весной видны заплаты, как выпирает эта жуткая бедность весной! Интересно: война одна на всех, а вот бедность, скитания, все эти ужасы – это кому как достанется. Лелина соседка, к примеру, Прасковья Семеновна, всю войну управдомихой была. Так подумать только, явилась эта Пашка к Лелечке на день рождения в шелковой ночной рубашке, а на плечах чернобурка, и говорит;
– Ариадна Вагановна, тут сидеть особенно ничего интересного. Пойдемте ко мне лучше, я вам шедевральную вещицу покажу – настоящую картину из Эрмитажа Третьяковской галереи…
Залман перед войной в командировку в Ригу ездил. Детям костюмчики привез, ей сумку, туфли, боже мой, что за человек, ничего не дал взять, выкидывал из чемодана, кричал: «Спасай детей!» А ведь в эвакуации можно было бы на продукты обменять, никакие деньги ничего не стоили, только вещи… Что теперь говорить, пропало и ладно, все равно дети выросли. Теперь что по ордеру дадут, то и будут носить…
По ордеру выдали две пары ботинок – это значило, что теперь дети Залмана Рикинглаза, воюющего уже где-то на Висле, могут в своем родном городе полноправными хозяевами вступить на территорию одного из многочисленных дворов дома номер 27/29 по Моховой улице…
Но как раз их-то двор последний, третий или четвертый по счету, смотря откуда считать, но как ни крути, задний, вовсе мало подходил для гулянья. В нем, если выразиться точнее, даже сидя дома, дышать воздухом как бы не полагалось: в нем полагалось расположиться огромной, всеобъемлющей, безудержно-безграничной помойке. Вот тебе и весна, вот и распахивай окошко навстречу сладковато-приторной вони и огромным, жирным, иссиня-черным мухам. И все-таки пооткрывались одно за другим окна, и было нечто, чем вознаграждалась способность человека сжиться и с этой вонью и с этими мухами: выложена на подоконник подушка, из другого окна покрепче высунулась соседка и, пожалуйста, сиди, беседуй, жизнь наблюдай… Тот прошел, этот вышел, там ссорятся, здесь смеются…
– Вчера, слыхала, нет, у этой, ну… с пятого этажа, вон в том окне, примус как вспыхнет! Она – орать!
– Не сожглась?
– Да нет. А видала, мужик без двух ног вернулся – что за мужик?..
– Да, гляди, еще твой как вернется…
– Уж хоть как бы вернулся…
– А к этой-то, из двенадцатой квартиры, на побывку приехал, а она его не пускала – вроде изменял он ей!
– Так он же по трубе лез! Ой, смехота была!
– А сегодня, гляди-ко, целуются…
– Это у них что ли музыка? Точно, они и целуются…
Ада тоже высунулась в окно. Она еще не знает своих соседей, но уже здоровается с одной интеллигентной соседкой справа и с одной этажом ниже. Ей бы тоже хотелось поговорить с ними, рассказать, что Залман пишет, про их мужей расспросить… Но неудобно как-то, мало еще знакома. Она просто посидит, посмотрит, послушает, как мальчик поет…
Кажется, это единственный ребенок, кроме Роши и Флоры, в их дворе. Но он что-то никогда не выходит на улицу. Даже в школу, кажется, не ходит; а вроде он Роше ровесник, тоже лет десять ему, а может, больше…
Поет он замечательно, прямо жаворонок! Песни, верно, по радио разучивает, все такие гражданские песни поет: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает…» – так прочувственно, прямо за душу берет. Или это: «Раскинулось море широко…» Конечно, как Утесов поет, так никто не споет, но все ж таки ребенок, и голосок у него такой чистый, трогательный. С самого тепла, как он уселся на подоконник, так, кажется, и не сходит с него, и поет, поет, кончит одну песню, другую затянет, и все привыкли – внимания не обращают. Но Ада толк в песне понимает; боже мой, как она пела когда-то! Шутка сказать, ее первый муж, Владимир Иванович, он же ее прямо со сцены в Ленинград увез. Когда это было? НЭП еще был. Владимир Иванович пожилой, солидный был. А она из Баку с опереткой удрала. Дура, конечно, ей такую карьеру прочили! В консерватории, когда прослушали ее, сказали: «Подождите, подрастите, а через годик возьмем – голос замечательный, но надо беречь его…» А она, сумасшедшая, вдруг балетом увлеклась. И пела, нещадно много пела! В Баку нельзя не петь – из каждого окна музыка льется! У них во дворе еврейская семья жила – два инструмента имели: все три дочери учились. Она дружила с самой младшей, с Гутой. Какие они концерты задавали – вся улица сбегалась под их окна. Голос лился свободно, вольно, казалось, ему конца и края не будет!
…Кусочек прошлого приятно обволок Аду и, еще не до конца вынырнув из теплых воспоминаний, она увидела свой новый двор привычным и новых соседок – старыми знакомыми. Горькосладко улыбнувшись, словно намекая на что-то в своем прошлом, она сказала интеллигентной соседке справа:
– Хорошо поет мальчик…
– Да, поет… – ответила та равнодушно, – а скоро и сыграет… в ящик сыграет: мать говорит, до осени не доживет…
– Вера Васильевна, подумайте, – раздался внизу голос другой соседки, – блокаду пережил, а теперь помрет…
– Так сердце ведь… А с вами-то что? – участливо, в меру своих возможностей, спросила еще не отвыкшая наблюдать смерть Вера Васильевна.
Но Ада не могла ей ответить: опершись о подоконник, она испускала хриплое прерывистое дыхание, лицо ее посинело, под подбородком набухло, вздувалось и опадало; бронхи сжались, с трудом рвущийся сквозь них воздух выдавливал глаза из орбит…
А над двором переливчато звенел голос мальчика: «Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров – закаляйся!..» Где-то в середине лета Ада вдруг услышала тишину во дворе:
из окна напротив больше не неслась песня и, как ни странно, почувствовала облегчение…
Время! Оно течет то быстрее, то медленнее, и сколько всего уносит с собой его разнобыстрое течениеНо если бы кто-нибудь сказал Аде, что десять лет назад она совершила ошибку, а потом еще раз повторила ее через три года, ошибку, которую не может исправить время, напротив, только усугубляет – она не поверила бы. В самом деле, откуда она могла знать, какой заведомой несправедливостью ляжет на плечи ее детей милая безобидная фантазия назвать их Роальдом и Флорой. Какой непробиваемой стеной одиночества окружат их чуждые имена, отделят от всего детского мира, какие извлекут из самых глубин еще неустроенных детских душ напрасные и смутные силы сопротивления и гордой неприступности… Большеглазый, большеносый Роальд всем, буквально всем похож на Аду. Он унаследовал от нее даже пропорции – невысокий росточек и крупную массивную голову. Смуглость и иссиня-черные локоны он подобрал вовсе странно, ну, волосы Залмана, а цвет кожи, это, пожалуй… нет, трудно сказать… Ада-то сама шатенка и такая белокожая, какими бывают только рыжие. Ее отец любил повторять: «Мы такие, потому что мы из Карабаха…» А впрочем, тетя Марго, черна лицом, как горное ущелье – может быть, это от нее и досталась мальчику смуглость… Но маленьким он был просто чудесный, такой хорошенький, прохожие на улицах останавливались. И всегда спрашивали, не испанский ли это ребенок… Потом нос его начал расти – ну и что: мальчик чуть покраше черта, уже красавец. Кстати, ей ее нос ничуть не мешал. Правда, она, слава Богу, умела держаться…
Наверное, много значит – уметь держаться. Но при чем тут это, если ты приходишь в первый класс ташкентской школы и тебя зовут Роальдом, а в классе кроме тебя есть еще мальчик по имени Адольф. Пусть кто-нибудь вообразит себе, что такое – быть Адольфом. О чем только думали родители этого несчастного Адика? О чем думали супруги Рикинглаз, давая сыну имя Роальд, хорошо известно. Он родился в 34-м году, когда исследователи полюса были в неменьшем почете, чем почти тридцать лет спустя первые космонавты. В 34-м году исполнилось шесть лет со дня гибели норвежского путешественника Роальда Амундсена. Не пять и не десять, а именно шесть. И именно в его честь был назван Роша – неизвестно только, что бы делали Ада и Залман, не родись у них в тот год сын, как выразили бы они тогда свою признательность этому мужественному человеку… Издевательство над несчастным Адольфом было, конечно, особенно страшным, но рикошетом оно ранило и Роальда, и его имя стало для него ужасом, поднявшим из нутра первое в жизни желание увернуться. Роша твердо решил при поступлении в новую школу назваться Мишей. Может быть, это и в самом деле спасло бы его ну хотя бы от самого естественного: «Эй, Рожа! – оклика, на который нельзя не откликнуться, но откликаться ужасно. Но странное дело, мистическая власть имени над человеком не допустила обмана – мальчик, не отдавая еще себе отчета в том, почему не может, хотел, но не мог назваться чужим именем. И никогда и нигде потом, хотя мечтал об этом постоянно. Казалось, обман станет тотчас очевидным – ведь он – Роальд, и это не может быть незаметно постороннему взгляду. Маленькая, нарисованная одной только линией, такой неровной, особенно в ножках, изломанной и нежной линией нарисованная Флора, любопытно глядящая на всех раскосыми миндаленками глаз, пострадала, конечно же из-за брата. Раз он Роальд, так, господи, разве же не красиво – Роальд и Флора?! Она могла оказаться Татьяной, Людмилой, Ольгой, но кто сказал, что надо обязательно носить русское имя, если живешь в России, или армянское, если ты армянка? Разве в Армении все носят армянские имена? Да там каждый третий мужчина или Альберт или Эдуард, а женщины – сплошные Джульетты! А сама она – Ариадна! Почему, откуда, с какой звезды упало это имя, волны какого моря докатили его, какое эхо занесло его в горы Карабаха? Впрочем, она родилась в Баку. А имя ее ей всегда нравилось. И когда она познакомилась с Залманом, ей страшно понравилась его фамилия. Что-то такое в ней есть. Когда кто-нибудь удивлялся ее необычности, Ада всегда говорила: «А-а, у нас в семье все фантазеры!» – так будто и фамилия Рикинглаз могла быть плодом их личной фантазии. И все-таки. Ада, почему, когда речь зашла о кошке, ты подумала о том, на какое имя ей будет удобнее откликаться, и почему ты не подумала об этом, давая имена своим детям?..
Обвязав шею счастливицы Мурки веревочкой, они робко, настороженно держась друг за дружку, переступали пределы помойного двора, наперед зная, как труден будет их путь к общей игре. В конце концов, Мурке придется отвыкнуть от барственной привычки дышать свежим воздухом. Неизвестно, правда, так ли, уж много удовольствия получала она от этих неестественных для кошки прогулок на поводке. Однако пока дети не уверились в своем равночленстве всех пяти дворов, пока Люська Большая, толстая, грудастая девочка-подросток, главная хозяйка двора, не явила им своего покровительства, словом, почти до середины лета Мурка сопровождала их в одиноких размеренных прогулках, олицетворяя собой некое общее понятие домашнего животного на поводке. И не только потому, что могла бессовестно удрать, но так выгуливая ее, им легче было за нарочитым вниманием к ее персоне, скрыть яростное любопытство, выказать свою независимость; легче было удержать себя от первого и, может быть, рокового шага в сторону знакомства.
В одну из этих одиноких прогулок и произошло их столкновение с графиней. Собственно, графине скорее всего и не снилось, что она «графиня»: но воображение детей наградило ее этим высоким титулом, и даже потом, когда из дворовых слухов они узнали, что хоть и неизвестно, кем она была до революции, но до войны – определенно маникюршей, прозвище «графиня» осталось, только теперь вместо романтического восторга они вкладывали в него всю меру классовой вражды.
Вообще-то они были вежливые дети. Ада не просто растила их, но и воспитывала. Роальд вынимал руки из карманов, здороваясь со взрослыми, а Флора склоняла стебелек, на котором покачивалась ее головка; они знали, что надо говорить не «здрасьте», а «здравствуйте», что почти в два раза дольше получается. Слова: «извините, пожалуйста», «спасибо большое» обязательно сопровождали вопрос: сколько сейчас времени, задаваемый чаще от скуки, чем от необходимости знать, который час… Они никогда не могли бы нагрубить взрослым и, должно быть, взрослые догадывались об этом и еще издали, еще до знакомства начинали любить их. Почему? Разве слегка изогнувши корпус, отведя назад руку, бросить мяч в воздух так высоко, что он на мгновение превращается в черную точку, не труднее, чем научиться говорить: «спасибо большое», «извините», «будьте добры»?! Конечно, труднее, но взрослые чаще ценят слова больше поступков… Придет время и для Роальда и Флоры счастье оказаться в одной команде с Вадькой Никитиным, играя в лапту, или под покровительством Люськи Большой обдирать колени в темных, загаженных подвалах дома, даже независимо от того, выпало им быть казаками или разбойниками, – будет неоценимо большой удачей, чем услышать похвалу незнакомой тети: «Ах, какие вежливые, какие воспитанные дети!»
Но это потом. А пока ежеминутно урезонивая Мурку, они совершали свои осторожные прогулки в садик. Естественно, если уж выгуливать кошку, так на травку, в садик. Все эти двенадцать палочек, разбиваемых ударом ноги по маленькой, устроенной на кирпиче качалке, все эти штандарты, битки, прятки, тройки и прочие тайные магниты их воображения оставались где-то сбоку, в первом, забулыженном дворе – играть в садике почему-то было не принято, и Роша, Флора и Мурка как бы получили его в полное и безраздельное пользование. Травы в нем, правда, было не густо, не было даже скамеек, стояла одна только наспех сколоченная лавка, но зато был фонтан. Конечно, он не работал, то есть и фонтана-то самого тоже не было, был всего лишь грязный, но определенно мраморный бассейн, в котором когда-то бил фонтан.
Роша с Флорой, утомившись уговаривать Мурку гулять, как люди гуляют, подбирали ее на руки и садились на лавочку. Чтобы заглушить тоскливое чувство одиночества, они особенно оживленно, перебивая друг друга, придумывали разные истории, какие могли бы произойти с ними, будь она прекрасной дамой, а он – бесстрашным рыцарем. Им нравилось думать, что они в старом заброшенном саду, у развалин забытого всеми фонтана, и кружева, перчатки, шляпы с перьями, шпаги, кареты были не последними атрибутами этих фантазий. Должно быть поэтому в один прекрасный день смешная размалеванная старуха, очень прямо, но твердо сидевшая на их лавочке, сразу же, ничего сама об этом не зная, приняла участие в их тихой игре. Заметив ее еще издали, они скроили друг другу гримасы неудовольствия, но разглядев, безоговорочно приняли. Седые волосы старухи были уложены на висках в плоечки, а на затылке подобраны в кукиш, ее испещренное морщинами лицо было так густо напудрено, что казалось совершенно неестественно белым, а щеки покрывал столь же неестественный румянец. Мама тоже, иногда выцарапав из тюбика немного помады, размазывала ее по щекам, но у нее это получалось совсем незаметно, однако дети знали, что щеки можно румянить, но чтоб так – так могла выглядеть только… графиня! Одета она была в прекрасные одежды: ее худые ноги облегали высокие шнурованные ботинки с тонким носом и изогнутым каблучком, на руках у нее были черные ажурные перчатки; и она каким-то особенным жестом все время оправляла кремовые кружева на груди, извлекая из их пены огромную молочно-белую в золоте брошь. Таща за собой упирающуюся Мурку, Роальд и Флора взахлеб придумывали:
– Тогда, – говорил Роальд, – она была молода и прекрасна. Старый граф часто уезжал на охоту и графиня, скучая, выходила в сад…
– А попугай у нее был? – спрашивала Флора.
– Отстань! Не перебивай! Не было у нее попугая. Хотя, ладно, был: верные слуги несли за ней золотую клетку с попугаем…
– Дети, – сказала «графиня» и поманила их пальцем.
– Здравствуйте, – в один голос, наперед зная, что их сейчас ждет, они вежливо поздоровались.
– Вы что, новые жильцы что ли? Что-то в первый раз вижу…
– Да, мы новые. Но м ы и до войны жили в Ленинграде.
Теперь она должны была сказать: «Ах, какие вы хорошие, какие воспитанные!» Но старуха спросила:
– Так вы что же, в каком дворе живете?
– В последнем…
– А-а… А что вы здесь гуляете? Гуляли бы в своем дворе.
Вот так, так! Это было неожиданно. Но взрослым нельзя грубить, и Роальд, плотно сжав носки ботинок и ни в коем случае не кладя руку в карман, обстоятельно объяснил:
– Мама говорит, что в том дворе нельзя гулять, там помойка. Она велела нам в садик ходить.
– Ах, мама! А где ваша мама? – Она сейчас на работе.
– Так, так… А вы в какой же квартире живете?
– В восемьдесят девятой.
– Это по четырнадцатой лестнице?
– Да. А почему вы спрашиваете?
– Потому, мальчик, что я зайду к вашей маме. Мне с ней поговорить надо…
И старуха встала. Но внезапное предчувствие беды охватило детей так сильно, как только дети и старики могут угадывать неотвратимое.
– Но ведь нам же мама сама велела в садик идти! Почему вы… – Нет, девочка, что ты, глупости какие! Я совсем не за тем. Я только зайду спросить, не продаст ли мама вашу кошку…
Если бы она закричала: «Нет, паршивцы, вы не смеете гулять в моем саду!», затопала бы на них ногами, отодрала бы за уши – все это только в страшном сне могло бы присниться, и все-таки не было таким потрясающим кошмаром! Беспрестанно дергающая за веревку Мурка в течение всего разговора как бы вообще не была в поле зрения зловещей старухи. Прозрачные, обозначенные только черной подводкой глаза и не глядели на нее. И вообще, купить кошку – их кошку! Нет, это невозможно! Это была угроза больше той, перед которой можно отступить, заплакать, проявить слабость. И сдерживая охватившую их дрожь, дети вступили в борьбу. Флора подхватила Мурку на руки, а Роальд, весь напрягшийся, даже приподнявшийся на цыпочки, будто подросший мгновенно, сказал:
– Эта кошка не продается. Пожалуйста, не ходите к нам! Мама не продаст…
– Продаст, продаст. Еще как продаст! Сейчас время голодное. А вас кормить надо – вон какие тощие. Дам ей пару килограмм пшена и, как миленькая продаст…
И старуха уже шла от скамейки, на ходу договаривая: «А надо будет, и маслица дам…» Ужас! Кошмар! Пшено! Маслице! Что делать? «Когда животное в доме, его надо кормить, а если нечем кормить, так незачем и держать!» – вот они эти слова, вот залог неотвратимого предательства Ады! Все кружилось у них в головах. Бешено бились сердца! В четыре руки держали они Мурку, не в силах оторваться от нее. Слезы уже текли по лицу Флоры и, глотая их, она клялась:
– Я никогда не буду есть эту кашу! Я умру лучше! Роша-а! Я ни-ког-да-а-а-…
– Она не продаст. Она не продаст! – твердил Роальд. – Если она это сделает, мы убежим! Вот! Возьмем Мурку и убежим!
– А она без нас…
– А мы, давай, будем прятать ее…
– Нет, она не продаст, Роша. Пойдем домой, может, она пришла уже!
Так бестолково строя всякие планы, каждую минуту твердя: «Она не продаст!», потому что только это вселяло в них силы, Флора и Роальд, уже не решаясь идти дворами, не отрывая рук от прямо-таки озверевшей кошки, на заплетающихся ногах двинулись в черноту длинной арки, соединяющей их двор с садиком. Прежде они боялись ходить этим путем, но сейчас так враждебен показался им весь мир, что пустая тьма извивающейся арки уже не могла их устрашить. А перед глазами плыло лицо матери и,… странное дело, это лицо было только добрым, оно обещало защиту, но сомнения грызли душу и боролись с призраком доброты…
Нет, Ады еще не было дома. Им было ведено гулять до ее возвращения, а когда она придет – точно неизвестно. Они не могли больше ничего: ни гулять, ни стремиться в другие пределы, ни стоять на месте, ни разговаривать друг с другом. Кошке вконец надоело сидеть на руках у Флоры и, внюхиваясь в сладковатый запах помойки, она отчаянно мяукала и царапалась.
– Ну, чего, чего ты, дура какая-то, – последними словами честила ее Флора, – сиди, говорят тебе, не понимаешь что ли?
А Роальд, уставясь в одно ему ведомое, беззвучно шевелил губами, сжимая кулаки, ссутулившись, подогнув коленки, выхаживал взад-вперед; и если бы мог увидеть его сейчас Залман, он поразился бы тому, как похож на него его непохожий сын.
Наконец-то Ада, уставшая, раздраженная – это можно было увидеть еще издали, – с трудом таща сумку, полную пряжи для сетей, показалась в проеме между дворами. И тут все, что было пережито детьми, взорвалось, ринулось навстречу ей потоком слез, бессвязных криков, мольбы и ужаса.
– Мамочка! Ты не продашь?
– Милая мамочка, не надо, мы не будем больше!..
– Скажи, ну, скажи, что нет!
– Что-что-что? Что такое? Что вы сделали? – испуганно и еще более раздраженно зачтокала Ада, – сумку возьми, Роальд, не видишь что ли? О, боже мой, что случилось, что? Говорите толком…
– Мамочка! – и торопливо, перебивая друг друга взахлеб, они начали, но с другого конца, далеко от сути. – Она такая противная, вот ты увидишь, она такая противная, такая страшная…
Ада задыхалась, останавливалась на каждом этаже, и все-таки они добрались до верха, и к этому времени она поняла, в чем дело. Флора и Роальд тоже выдохлись – что-то похожее на апатию было в их наступившей теперь немоте – так преступник, долго отпиравшийся от своей вины, вдруг признается во всем, и вдруг – полное безразличие к приговору… Ада молча открыла дверь. Устало вошла она в квартиру. Думая о чем-то своем, молча опустилась на табуретку. Глядела куда-то в одну точку и что-то думала. Мурка наконец-то вырвалась от Флоры и девочка, вяло опустив руки, стояла возле матери. И вдруг Ада притянула ее к себе, уткнулась головой в ее маленькую теплоту и заплакала. И слышно было, как плача, она шепчет: – Нет, дети, я не продам вашу кошку, никогда не продам, милые мои, я не продам…
Виктория Беломлинская и ее мама Ганна Агаронова
Перевернутый мир
Ада, милая Ада, ты помнишь Астрахань? Ну хоть как-нибудь? Хоть смутно? Пусть стерлись в памяти названия улиц да многих имен уже не вспомнить, но лица-то – лица так и стоят перед глазами, да еще эти толпы беженцев на пристани, на вокзальной площади – то ли бедный, то ли шалый табор раскинулся, расточая под открытое небо свой страх, свою скорбь, на земной пыли разложив одеяльца детские, ночные горшки и скудную снедь… Их бездомному множеству какой-то особый трагизм придавала бывшая элегантность одежд – почему-то в большинстве из Польши были беженцы – и рьяная готовность все обменять на все: на хлеб, на ночлег под крышей, на билет куда угодно, только бы отсюда, на помощь врача, на лекарство… Платья, шубы, кастрюли, одеяла, пледы, кольца, браслеты, ночные сорочки…
У Ады ничего не было, и все-таки она умудрилась особняком, сторонкой обойти распластанную под ногами судьбу, двух страшных вещей избежав: дезкамеру, где мужчины и женщины, не стесняясь своей наготы, смывали вшей, и ночлега под открытым небом. В дезкамеру тянулась длинная очередь, медленно, словно специально отпуская людям время потерять стыд – зато каждый попавший в барак получал со своей пропахшей хлоркой скомканной одеждой разрешение на проживание в городе или выезд из него. Заняв очередь, Ада долго кружила вокруг барака, пока не поняла, в какую дверь ей надо протиснуться – в ту именно, откуда выходили помятые, распаренные люди, зажав в руке заветную справку. Когда выпускалась очередная партия, Ада, еще не зная, что будет дальше, нырнула против течения. В ту же секунду поняла, что спасена.
– Тэбэ что нада? Всэ оттуда ыдут, а тэбэ здес нада?! Особэнный, да?! – из-за стола выкатил на нее горячие угли глаз маленький седой армянин.
– Ее узумем кес арчмем… – на полузабытом языке начала Ада и не ошиблась…
– Ээ! зачем только тебя по свету носит?! – ворчал он, выписывая ей справку. – Не могла дома жить, армянского мужа иметь?! Плохо тебе было, да?! Скажи спасибо, что я еще к армянской женщине уважение имею…
– Шноракалем кес, шноракалем кес!.. – раз десять сказала ему Ада, пряча справку в сумочку. Потом, крепко сжав ручки детей, шла она от дома к дому, стучалась, звонила, за всю жизнь так жалостно не молила, как тогда, а получив отказ, шла дальше… Все, кто мог, кто хотел, уже пустили к себе, сами теперь ютились кое-как. В одном доме о два крыльца Аде сказали, что у них полно, а вот у Матрены Харитоновны с месяц как мать померла: «Стучитесь к ней, может пустит…»
Ада с порога учуяла монашечью опрятность и одинокую хозяйскую заботливость. Однако уговорить не смогла.
– Евреев не пущу, – сказала ей пожилая женщина, вся подштопанная, подлатанная, на все пуговки застегнутая, с мягким добрым лицом и жестким голосом.
Аде безумно захотелось остаться здесь и она клялась и божилась, что не еврейка. Но ничего не помогло.
И словно в награду за все невысказанное через столько-то домов, через ту, а потом другую улицу, где-то там, на другом конце города, когда совсем стемнело уже, Ада нашла приют.
И той же ночью ей стало жутко. Хозяйке, странной какой-то, суматошной и безразличной к предложенным деньгам, принадлежали по длинному коммунальному коридору две смежные комнатенки. Она положила Аду с детьми спать на полу в проходной; дети не успели головы до подушек донести, как тут же уснули, а Ада, замученная всем, что было в этом дне и чернело по краям его – и позади и намного вперед – лежала без сна. Последнее письмо Залмана не давало покоя ей: «Адусенька, родная моя, – писал он, – может так случиться, что долго от меня не будет писем. Будь умницей и не тревожься. И главное, береги себя и детей…» Вот это – «и главное…» – выдавало Залмана с головой. Он лучше ее знает, что главное, а что не главное… Спрашивается, как же она может теперь… Только Ада подошла к тому, что было главным для нее сейчас, когда дети мирно сопели по обе стороны ей в шею, как страшное, облитое лунным светом видение появилось в дверном проеме. Распустив по плечам седые космы, в длинной до полу белой рубахе, стояла на пороге Александра Николаевна. Ее большие, чуть выкаченные глаза неподвижно сияли бесцветными бельмами, а из окостеневшего рта, постепенно нарастая, отлетала безумная угроза:
– Где? Я вас спрашиваю: где, где мой топор? Я их всех зарублю! Где, где топор? Я их всех зарублю!..
Ада хотела крикнуть, но не смогла: онемела, похолодела вся. Сколько секунд или минут – потом не вспомнить было – она ничего не могла: ни голоса подать, ни шелохнуться. Наконец пружина страха вскинула ее, Ада согнулась, разбросала руки – одну на Роальда, другую на Флору – и не своим голосом прохрипела: «Что с вами, вы что, Александра Николаевна, что вы?» Та, словно ударившись о посторонний звук, отшатнулась, какая-то судорога, пронзив ее, вышла уже со спины, расслабленной и нестрашной сразу; потом под ней тяжело заскрипела кровать, и скоро раздался громкий храп с всхлипом и бульканьем. Ада же все лежала, не шевелясь, от напряжения ныли руки и ноги, но никак не могла унять озноба, лежала, вслушиваясь и подгоняя часы до утра. Утром соседка успокаивала Аду: «Да не бойтесь вы, Шурка же тронутая, а топор где ей найти? Мы же его завсегда прячем…»
Сама же Александра Николаевна ни про что утром не помнила. Зато, кокетливо приподнимая седую прядь над виском, она без конца показывала Аде какой-то шрам и произносила особым голосом: «Вы видите – это? Он рэ-э-вновал меня! Он стрэ-э-лял в меня!» Конечно, никто в нее не стрелял; но операцию делали: опухоль что ли вырезали, да не помогло ей почти. Было у нее множество странностей – «заскоков», как говорили соседи, а память удерживала только всякие бредни. Она просила Аду называть ее Шурочкой, без конца намекала на что-то роковое-любовное, кокетничала и никак не могла запомнить короткое Адино имя. Наконец, как-то раздражившись, Ада брякнула: «Ариадной меня зовут, Ариадна Вагановна»! И Шурочка мгновенно запомнила: правда, на свой лад.
– Ариадна Вагоновна, ну как спалось вам? – как ни в чем не бывало возвышенно спрашивала она, устроив Аде очередную бессонную ночь.
Но Ада жалела ее. Хроническая болезнь Шурочки воспитала в соседях закономерную черствость, лишь отчасти перемежавшуюся состраданием. Они не запрещали детям развлекаться на Шурочкин счет, когда та выходила во двор загонять своих кур. Широко раскинув руки, подпрыгивая, изображая что-то легкое и воздушное, носилась Шурочка по двору, выкрикивая:
– Ко мне! Ко мне, мои птицы! Летите! Летите ко мне под крыло, пташечки!
Наконец в ее расхлестанные руки и в самом деле чудом залетала растрепанная от беготни курица. Шурочка, припрыгивая, пританцовывая, бежала к сарайчику, сажала ее на шест, но никогда не закрывала дверей. Та, естественно, тут же выскакивала. Так могло бы продолжаться вечно. Вся ребятня сбегалась обычно смотреть на этот концерт. Хохотали до упаду, скрючившись, подхватив животы, тут же передразнивая жесты, и всем этим концертом заправлял, дирижировал один особо рьяный до веселья мальчик лет одиннадцати – казалось, ему никогда не хватит времени вдоволь насмеяться, натешиться Шурочкиным актерством. Но Ада сразу приметила: именно он первым, став вдруг помужицки серьезным, внезапно обрывал вечернее представление, цыкал на младших и бережно, одну за другой загонял перепуганных, уставших кур на ночлег. Они и жили-то и неслись его заботами… И наступал тихий, дурными предчувствиями напоенный астраханский вечер. В конце длинного коридора при тусклом свете крошечной засиженной мухами лампочки мальчик что-то еще строгал и сколачивал невообразимое и длинное; пьяный инвалид, прыгая на костыле, жалобно разговаривал со своей туфлей, никак не попадая в нее:
– Пойдем, слышь, опять Дусечка работать посылает, слышь, пойдем, сторожить надо…
Дусечка злобно тьфукала на него: «Тьфу, скотина, ополоумел совсем, ровно Шурка стал…» Кто-то варил калмыцкий чай и угощал им Флору – Аде казалось: из одного упрямства, из желания досадить ей Флора, только что навзрыд рыдавшая над каждой ложкой «гоголя-моголя», теперь с видимым удовольствием прихлебывала мутно-кофейную жидкость с разлитыми по поверхности кружочками топленого сала. Ада сбивала гоголь-моголь в комнате и в комнате кормила им детей, чтобы другие не увидели – этим сокровищем нельзя делиться и нельзя вызывать у других голодную зависть, но разве дети что-нибудь понимают: Флоре нравится сидеть в душной кухне среди мерного гула соседских пересудов и кастрюльного пара… Ада же смотреть не может на этот чай: от одного вида с души воротит… Мать мальчика в большом котле на пять ртов «затируху» из отрубей варит, другая соседка с трудом ломает толстые черные макароны – кто-то в городе дал им прозвание «но пассаран!» и теперь все их так называют, взад-вперед ходит Шурочка; какая-то вялая сегодня, неразговорчивая, только все что-то ищет, заглядывает в углы, и Аде жутко становится от мысли: «А что если…» – но вдруг все выходит из берегов: крик, вопли! Флора роняет чашку из рук и с испугу делает вид, что ревет от ожога, «затируха» из перевернутого котла шипит и взрывается на плите. «Убила! Убила! Вяжите ее!», – схватившись за голову кричит Дуся, но вязать некого: опустив сковородку на ее голову, вяло и не больно вовсе, а только напугав неожиданностью, Шурочка тут же качнулась и прямым несгибаемым телом стукнулась об пол.
Шурочку в больницу забрали. Ада только научилась спокойно спать, как откуда ни возьмись объявилась ее племянница. Пришла, покрутила остреньким носиком и сказала: «Каждый может тетиным слабоумием воспользоваться. Тут у нее не запирается ничего, что хочешь бери! И вообще: чем за такие гроши постояльцев держать, лучше совсем не надо… Передачи, небось, я должна носить, я и распоряжусь! Освободите-ка комнату!»
Ада обиделась, но все-таки попыталась денег добавить, да лишь насилу выговорила недели две сроку. И тут, как назло, скрутил радикулит. По утрам еле сгибалась на матраце, вскрикивала, пугала детей, видя их испуганные лица, сердилась и прогоняла во двор, кое-как переворачивалась, на четвереньках доползала до стола и, хватаясь за его ножки, наконец распрямлялась… О том, чтобы ходить искать квартиру, речи быть не могло, елееле до кухни дотянется… Потом еще хуже стало – вообще встать не смогла… Лежала, уставясь в потолок, и тихо плакала. Отпущенные на произвол судьбы дети (Аде казалось, теперь навсегда беспризорные, ничьи дети) – Роальд и Флора – могли гоняться по двору сколько вздумается, но страх жал их поближе к матери…
Как-то потом, много лет спустя. Ада думала, что та астраханская жизнь, ни на что не похожая, более всего была похожа на жизнь. Спаянная тесным двором, убогая издавна, она странно насыщалась всеобщим бедствием. Удобренная чувством чужой боли, она давала урожай там, где прежде могла быть только сухая земля равнодушия. Никогда и нигде более не видела Ада, чтобы так чутко следили люди за чужой бедой: «Этой есть письмо, а этой уже с месяц не было…» – и вдруг оказывалось: ничего, что она вроде как не русская, что от нее толкотня лишняя на кухне, что она «ставит себя»… И еще та, которой тоже давно писем не было, как-то держалась, крепилась душой, не давая тем самым и ей, Аде, расхлестать свою душу. Или наоборот. Но отмеченные одной болью, они были чуть-чуть ближе друг к дружке, чем другие… Потом в иной, благополучной жизни, Ада все чаще натыкалась на людскую остервенелость и сама наполнялась пустой злобой, но что поделаешь: беспричинной доброта не живет на свете, а беду нарочно никто звать не будет… Пришли женщины, стояли над ней, скорбно головами качали:
– Помрешь скоро, ой, помрешь… – сказала одна, обстоятельно и печально, – гляди-ка, серость какая по лицу пошла…
– Да уж и то, – взохнула другая, – только и живешь, пока ноги носят…
– Да нет, – Ада старалась улыбнуться им, – ерунда, никто не умирал от этого… Только вот не помогает мне ничего…
– Бабку Ольгу бы ей… от всех болезней лечение знала… кабы не померла она…
– А может, Мотю позвать?
– Пойдет ли она? А может, и пойдет?! Сама-то она, знаешь, обо всем представление имела: и всякую травку знала, и заговор, и молитву особую… лекарствиями никогда не пользовала… У одной ребеночек как народился, так в голос кричать – ни один врач не знал, отчего. А он синюшный весь от крику, вертится весь, изгибается. Родители из себя ученых строят и в амбицию: мы, де, в заговор не верим! Ну а крестная ихняя взяла младенчика и к бабке Ольге… Та как взглянула, так разом и опознала: у него, говорит, родовой волос под кожу пошел. И все! Тут же круто отруби замешала, и ребеночка в это тестечко обернула. Он, говорит должон сутки в них, в отрубях, быть, а опосля омойте его… И надо же?! Ребеночек еще кричит, родители его на крестную с кулаками, но она характер выдержала! А к ночи он и приумолк – волосто у него выходить начал. Они к бабке Ольге. Пришли с подарками – так она от них ничего не взяла, только что крестная от себя поднесла: кружевную шалечку – ту взяла, помнишь, Дусь, в ней и хоронили ее, в шалечке…
– Да, бабку-то жаль… Счас бы в самый раз… А может, и впрямь Мотю позвать… Она хоть и в аптеке работает, но к матери всегда с уважением была. И тоже богомольная…
Вспоминая потом о своих мытарствах, Ада говорила Залману: «Понимаешь, только простые люди могут так: прийти к больному и вместо того, чтобы подбодрить его, ничего. мол, поправишься, все пройдет, взять и так вот ляпнуть: «Помрешь скоро!» Понимаешь, у простых так принято…
А тогда, слушая, как они судят-рядят, Ада и не заметила прокравшуюся сквозь отчаяние тоненькую надежду на что-то чудесноеМальчика послали за Мотей.
– Скажи ей, – настаивала мать мальчика, – офицерская жена у Шурки-чокнутой с детьми стоит и теперь скрутило ее…
Конечно, Ада не ожидала, что увидит сейчас ту самую Матрену Харитоновну, что твердила ей сухо, как орехи щелкала: «Евреев не пущу!» и когда ведомая мальчиком («Сюда, тетенька, здесь порожек, не споткнитесь, не споткнитесь вы!») та самая, полноватая, опрятная, с естественным лицом, появилась она на пороге, Ада сразу же вспомнила ее жесткий голос и, напрягшись, мгновенно скопив злость в глазах, хотела крикнуть: «Вон отсюда! Не надо мне!» – рванулась вперед, но страшная боль выстрелила снизу вверх, и Ада не успела ничего сказать.
– Лежи уж ты, – махнула на нее Мотя.
Ей подставили стул, она огляделась, долгим взглядом уставилась на притихших Роальда и Флору, подозвала Флору к себе, провела по ее волосам рукой и спросила:
Так где же твой отец, умница?
На фронте… – Флора оцепенела почему-то.
– Это на каком же фронте он? Не знаешь?
Ни на каком… – совсем глупо ответила Флора и вдруг заплакала.
– Что вы пристали?! Что вам надо от нас? – грубо и невпопад взорвалась Ада.
– Мне, между прочим, ничего от вас не надо, – голос Моти не выразил ни обиды, ни удивления. – Спросила просто…
– Так уж второй месяц как писем им нет, Матрена Харитоновна, – суетливо вступилась соседка.
– А ты не плачь, умница. Утри слезы-то. Вон у вас и без того уже сыро здесь. Что ж с мамой твоей? Тут встал Роальд и твердо, решительно намереваясь никому не уступить право слова, сказал:
– Нашу маму скрутило. У нее серость пошла по лицу. Теперь она скоро умрет, если вы не завернете ее в тестечко… – голос его задрожал, подбородок запрыгал, но он не успел зареветь, только остался в полном недоумении, потому что все вдруг стали смеяться, и Матрена Харитоновна, раскачиваясь на стуле, поддерживала руками живот, и Дуся, трясясь большим телом, и даже мама вперемешку с кашлем и стоном, и громче всех Флора, хотя она-то сама не понимала, чего смеются, ведь Роальд все верно сказал, но вдруг стало так весело, что нельзя было не принять в этом веселье участия… Потом Мотя сказала:
– Ну, вот что, нежное ты мороженое, хворь у тебя плевая, ты зря разнюнилась… Только стряхнуть тебя надо, а у меня сил не станет… Вот если эта стряхнет – и она указала на Дусю.
Через минуту на глазах у изумленных детей здоровая Дуся взгромоздилась на стол, а Мотя, ловко перевернув на живот, подтянула Аду к столу, приподняла и всучила ее ноги Дусе. И вмиг – Ада только успела коротко пронзительно закричать – та как рванет ее на себя, как встряхнет со всей силы, будто хотела из неживого мешка вытряхнуть лишнюю душу! И растерялась тут же. Сама красная от натуги стала, а Аду еще держит вниз головой.
– Ой, ой, – хрипит Ада. – Пусти! Пусти меня, дура! – вырывается, выкручивается, руками вниз тянется, а та как столб стоит. Тут Мотя приняла ее – раз! – и с головы на ноги перевернула. Пока Ада выкручивалась, она и не заметила, что боли-то, молниеносной, лишающей сознания или даже монотонно-тупой – никакой боли нет! А встала на ноги, в первую секунду тоже ничего не поняла, зато потом присела, согнулась, прошлась – ну, слава богу, ничего, надо же, ничего не болит, как рукой сняло!
– Рукой! Рукой – это мать моя умела снять, она бы эдак тебя погладила бы, да пошептала бы – и дело с концом! А я так: попростому, по-народному… Хорошо, что жива осталась, скажи! А то кровь-то в голову – уж я и сама испугалась… А зато смотри теперь, какая красавица!
Ада, разве ты могла забыть это?! Флора, Роальд – они еще крошки были, где им помнить! Они, конечно, забыли все, все до капельки. Флоре осенью сорок второго три года было, а Роше шестой пошел – все равно не помнит ничего, как он насмешил тогда всех, господи… Но тебе, Ада, довелось, пусть даже на одно мгновение, увидеть мир перевернутым – выпало такое счастье увидеть его оттуда, откуда не увидишь нарочно – но все, что в нем есть прекрасного, оттуда только и разглядишь, и разглядев, навсегда, на всякий другой случай унесешь в суетную жизнь каплю святой веры в чудесное…
Мотя взяла их жить к себе. Это было внезапным избавлением от неразрешимой заботы и вместе с тем все, что делала Матрена Харитоновна, дышало такой естественной, непреложной добротой, что Аде и в ум не пришло задуматься, чем объяснить столь странную перемену в ее отношении… В доме Матрены Харитоновны простота и даже чистая бедность ловко сочетались с ощущением напоказ не выставляемого достатка – это была строгость, допускающая вместе с тем и некоторую меру пышности: вот на некрашеных, но всегда добела отмытых досках, застиранные до бесцветности, аккуратно латаные половики, а вот на стене, над кроватью бабы Ольги настоящий ковер – уж Ада что-нибудь понимает в его неброской кра|се и бесспорной ценности; вот две кровати: никелированная, украшенная атласными бантами и бумажными цветами бабы Ольгина – на ней теперь Ада с Роальдом спят, бережно разбирая по вечерам высокую гору подушек, кружевных накидок и покрывала ручного плетения, а вот дубовая кровать с высокими спинками, крытая одним только темно-бордовым верблюжьим одеялом – на ней Матрена Харитоновна спит, под теплый бок себе укладывая Флору; у стены отскребанный сосновый стол, а над ним в серебряном окладе икона – среди белесых трещин темнеет лик, разрезая пространство чертой небывало прямого носа, в опущенных усах тая крошечную улыбку ущербного рта, но сквозь набухшие подглазья глядя на мир с открытой грустью… Что-то неподдельное, строго следующее своей действительной сути и в каждой вещи было, и в самой хозяйке их.
Они одним котлом зажили. Иногда Матрене Харитоновне за дефицитное лекарство подношения делали, и она, то золотистую воблу принесет – и тогда вечером столько радости: тетя Мотя и Роальду, и даже Флореньке даст по разу стукнуть воблу о край плиты, еще покажет как ее удобнее за хвост держать, а потом сама поколотит-поколотит и снимет размякшую нежную шкурку – самое вкусное, тонкие маслянистые полосочки со спинки отрывает и детям дает, – то вдруг ей кусок колотого сахара подарили, не очень блыпой, но все ж таки – теперь его вовсе не было – так она с ним такую штуку выдумала: подвесила на ниточку под абажур, стол на середину выдвинули, уселись кружком чай пить, сахар на ниточке раскачали и – кому лизнуть достанется. Дети визжат, игре радуются: «Тебе! теперь – тебе!» – кричат и того не замечают, что все почему-то, им, то Роше, то Флоре, достается лизнуть… По вечерам тетя Мотя с мамой чулки| штопает или на спицах носки вяжет и Аду учит…
Только одного как-то бессознательно боялась Ада – старательно обходила стороной всякий разговор о Залмане. То есть обойти было невозможно, но Ада старалась не упоминать его имени, так – «наш папка», да и все. Вообще и Матрена Харитоновна из каких-то Аде не известных чувств не выспрашивала, даже будто сама отстранялась от упоминаний о нем, но однажды заглянула через спину в разложенные Адой карты, вгляделась, и вдруг как сметет их в кучу. Ада-то карты раскинет, а значения их толком не знает – так посмотрит-посмотрит и соберет. А тут показалось ей, что Матрена Харитоновна что-то плохое увидела. И правда, та вдруг говорит:
– Покажи мне его, у тебя же, небось, есть его карточка…
Ада хотела было сразу показать, но тут нехорошая мысль мелькнула: Залман такой ужасный, такой невозможный еврей, – не надо лучше…
А та пристала: «Покажи, я помолюсь за него, только я знать его хочу…». Ада схитрить решила: глупо, конечно, но ей хотелось, чтобы Мотя помолилась за Залмана. И она решила: покажу ей ту карточку, где он с детьми, ведь Мотя как к родным к ним, от них, может, и Залману перепадет ее любви…
Но Мотя посмотрела на карточку, покачала головой и вернула ее Аде:
– Не больно-то… – сказала она не понятно про что. – Может, у тебя другая есть?
Правда, Ада и сама не любила эту карточку. На ней Залман снялся с детьми в день, когда войну объявили. Он на дежурстве в ТАССе был. Пришел с ночи. Все уже знали, что война началась, он-то прежде других узнал. И почему-то, уставший, выжатый весь, первое, что сделал – взял детей и пошел с ними в фотографию. Раньше никто из них никогда в фотографиях не снимался – Залман сам мастер этого дела. А тут придумал… Ада на эту карточку смотреть не любит: двумя руками Залман обнял Роальда и флору, они склонили к нему головки, и все трое такие получились нестерпимо грустные, и дети тоже, будто заразились его тоской… Залман еще в гражданской одежде был, через час он военный стал… Нет, нехорошее у него здесь лицо, как у больной птицы… Такая карточка может быть только последней…