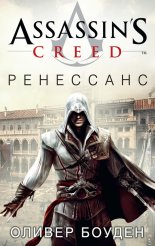Памяти моей исток Беденок Александра

– Мы сейчас пойдём и как дадим им в нос! Ишь вы, свини поганые, обижать нашу Нину! Ноги повырываем и собакам отдадим!
Эта воинственность, заложенная в ней самой и к тому же постоянно поддерживаемая отцом, осталась у неё до старости. Иногда бойцовские качества приносили пользу, но чаще всего они приводили к ненужным скандалам и потере женственности.
К маленькой Аксюте она привыкала постепенно и долго. У старшей сестры появилась не любовь к младшей, а чувство собственности. Когда девчушка похорошела, стала ковылять по двору, что-то лепетать, у неё уже был верный сторож – Нина, старшая сестра: если кто попробует тронуть малышку – даст палкой по голове. Так пострадала квочка, клюнувшая Аксюту в колено, защищая своих детей. Бабушка Поля еле успокоила разъярённую Ныну, чуть не убившую несчастную курицу.
Барышней она никогда не была. Ей больше подходило название «сорванец в юбке»: дралась с мальчишками, ровесниками, а иногда и постарше, и неизменно побеждала. Приходили с разборками родители, приносили для убедительности разорванные рубахи.
Лишь к 16 годам появилось чувство стыдливости от своего внешнего вида, желание красиво одеться и кокетливо повести плечиками. Разница в возрасте с сестрой была небольшой, всего два года. Поэтому мазило и пудру родители стали покупать дочерям одновременно, одежду на выход тоже.
На базар в Армавир отец любил ездить один, без Дуни. Умел купить самое нужное, всегда угождая своим девчатам. Мазило в жестяных баночках водилось далеко не у всех, и охотниц помазаться надурняк находилось много. У Аксюты были свои подружки, у Нины свои. Младшая отличалась бережливостью, если не сказать скупостью: слегка подцепив пальчиком пахучую мазь, давала каждой на ладошку – не хватит намазаться, можно вдоволь нанюхаться. Нина, будучи натурой широкой и нежадной, подставляла каждой товарке баночку, и те, не стесняясь, ковыряли поглубже, чтоб намазаться до синевы. Зная безмерную щедрость старшей сестры, Аксюта прятала свою баночку в пшеницу. Сколько бы Нина ни просила, ответ был один – мазило кончилось.
Улучив момент, когда Аксюта допалывала в огороде свои рядки кукурузы (она была медлительна в работе), Нина нашла схрон, раздала своим девчатам по комочку, оставив один для маскировки. На дно пустой баночки, закатываясь от смеха, положили коровий помёт, аккуратно замазав сверху тонким слоем крема. Баночку сунули в пшеницу на том же месте.
Дня через два явились любительницы чужого мазила, стояли в ожидании, пока хозяйка шарила рукой в закроме с зерном. Благостно улыбаясь, Аксюта сняла зелёненькую крышечку – и пальчиком коп! Глаза округлились, рот в изумлении открылся, и из него вырвался звук, похожий на глубокий вдох, лицо посерело, как подкошенная, страдалица упала на землю. Девчата с перепугу— врассыпную! На шум вбежала Нина, стала поднимать несчастную с пола, уговаривая:
– Ну чё ж ты так убиваешься? Ну прости меня. Скоро папанька поедет в Армавир, купит ещё, и я всё отдам тебе.
С трудом привела сестрицу в чувство, просила не говорить родителям. Отходчивая Аксюта ни отцу ни матери не жаловалась, никогда не ябедничала на старшую, несмотря на её проделки и неблаговидные поступки. И знала ведь, что Нинкины обещания – битьё кнутом по воде.
У Писаренков имелся свой гужевой транспорт: в бричку впрягали красавца жеребца; огромный, каурой масти, с гривой, чуть посветлее, распадающейся на обе стороны стройной шеи. ПастИ его нужно было подальше от колхозного табуна, ибо покалечит всех кобылиц. В единоличных хозяйствах водились овцы, коровы, лошади, пастухами были в основном дети. Они собирались гурьбой, день проходил весело и быстро. Нина же днями пропадала одна возле этого проклятого жеребца. Не дай бог, учует кобылу, запряженную или в частном стаде неподалеку – бежит, как скаженный, раздувая ноздри. Отогнать его могли только мужики. Часто, не справившись с остервенелой животиной, Нина приходила домой в слезах. Иван, не разобравшись, отпускал дочери тумаков, потом бежал сам на поиски Буяна. А он, стервец, набегавшись вволю, чуя мужскую руку, шёл под ним размеренно и смирно: и что на меня наговаривают, смотри, хозяин, какой я спокойный и послушный. Дочь при таком исходе дела не могла доказать свою правоту.
Назавтра та же работа: подсадит отец Нину на Буяна, стеганёт его кнутом, и прёт он по буграм до тех пор, пока не устанет. Остановившись, издаст два-три призывных ржания, покрутит головой, нюхая воздух, и начнёт спокойно щипать травку, время от времени высоко поднимая голову, как бы осматривая округу: что там интересное происходит, может, рвануть куда в поисках подружки в охоте?
А то начнёт валяться по траве, благостно фыркая, эдакий тритон с блестящими коваными копытами, на которого страшно смотреть. (Тритон в понятии Нины было загадочное чудище весом в три тонны). Она отходила подальше, глядя на умиротворённое животное, испытывая смешанное чувство любования, страха и ненависти. Ненависти за то, что сверстницы её бегают друг к дружке, примеряют наряды, рассказывают про ухажёров, а она почти до захода солнца пасёт ненасытного жеребца; лицо её загорело так, что никакое мазило не сделает его белым; на ногах от жёсткой травы цыпки, станешь мыть, собираясь на улицу, щиплет потрескавшуюся кожу до слёз.
Баба Поля сочувственно советовала:
– Ты, Нына, облей ножки мочой, сначала будет больно, потерпи, а потом нычого, заживёт скорее.
Кто не испытал такого лечения, тот представить себе не может, сколько терпения требуется, чтобы вынести пронзительно щемящую боль. Но бабушкины рецепты действительно помогали.
Проблема с ретивым жеребцом разрешилась неожиданно: трагично для родителей и радостно для измученной пастушки. Началась коллективизация, и вольнолюбивое гордое животное пришлось «добровольно» сдать в колхоз. Красавец конь томился в затхлой конюшне, тосковал, вяло, без аппетита жевал пересохшее жёсткое сено, бока опускались от недоедания и бездействия. Он тихо ржал, призывая хозяина: помоги, ты же так гордился мною, вспомни, как гарцевали по хутору всем на зависть, как ты, никому не кланяясь, запрягал меня в телегу, и мы уже к полудню подъезжали к шумному городу. Ты шёл по своим делам, а на меня глазели, открыв рты, чужие люди, странные какие-то, будто сроду не видели лошадей. Как радостно было нам к вечеру вернуться домой, в тихие благостные места со свежим ветром и пахучей травою. Где ты, Иван, с любовью чистивший скребком мою кожу и чесавший мою гриву? От тебя так уютно пахло хлебом, иногда немного брагой.
Овёс и сено дома казались вкуснее, и приятно было слушать, когда хозяин, убирая лошадь, разговаривал с ней вполголоса с ласковой укоризной. В тёплые вечера после дальней поездки Иван купал своего любимца. Привязав к столбу, около которого зелёным ковром разросся шпарыш, приносил ведро с водой и, позвякав дужкой, чтоб не испугать животное, выливал на спину Буяна, от холки до хвоста. Это было знакомое бодрое, приятное ощущение прохлады. Приносил ещё воды и плескал ему бока, грудь, ноги, плотно проводил мозолистой ладонью по шерсти, отжимая воду.
Иногда, словно расслышав тайные мысли коня, Иван приходил на конюшню, долгожданный хозяин. Нежно гладил Буяна, шептал что-то сокровенное на ухо, успокаивал. Охапка сена, принесённая Иваном, отличалась особенными, незабываемыми запахами сада: мяты, эспарцета и таволги.
В редкие выходные дни Ивану удавалось прийти проведать коня днём, тогда он просил старшего конюха, чтобы тот разрешил промять жеребца.
Нагнув шею в дверях и осторожно переступив порог, Буян с радостью тянул в себя пряный воздух. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось всё глубже и свободнее, во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать и бежать. Но почему-то такое состояние длилось совсем недолго, конь стал тяжело дышать и хрипеть. Иван, почувствовав усталость жеребца, не стал гнать его. Буян остановился, опустил голову и принялся усердно щипать траву мягкими, подвижными губами.
Возвращались шагом, с понуканием и подхлёстыванием, пробовал конь даже прихрамывать – есть такая хитрость у лошадей, если ни не хотят идти. Только что не скажет хозяину: «Забери меня домой, буду служить тебе верно и долго».
Но вот и конюшня, старая, неухоженная, со спёртым запахом мочи и навоза. Иван скрепя сердце заводит жеребца в стойло, тот пошаливает, стараясь ухватить хозяина за воротник, жарко дышит в ухо, утробно и коротко ржёт, не хочет расставаться.
Стойло Буяна было крайним, иногда сквозь отворённую дверь он видел других лошадей, ходивших и бегавших по воле, и тогда он призывно ржал, как бы прося помощи и жалуясь на своё одиночество.
Но дверь сразу закрывали, и опять скучно и одиноко тянулось время.
Через неделю, когда Иван явился на конюшню, старший конюх выразил недовольство:
– Не ходи больше к жеребцу, лютует он после тебя. Начал метаться, как бешеный, по станку, оторвался и попёр по проходу. Пришлось выгнать на улицу, втроём загнали в баз, заарканили и привязали к столбу. Всю ночь под дождём мок, пока не успокоился. Так что не обессудь, Писаренко.
В голодный 33-й год исхудавшего от бескормья жеребца забили на мясо.
Нине надолго запала в душу маета с непокорным животным. Но по ночам, перед тем как заболеть, снился один и тот же сон. На Буяне, судорожно вцепившись в гриву, сидит босоногая девчонка; конь летит, не касаясь земли копытами, а где-то впереди глубокий ров. Упадут они вместе с конём в бездну или перепрыгнут? А впереди ровный цветущий луг с запахом белой полыни и чабреца.
Сон прерывается на самом тревожном месте: упали или перелетели? Нина старается уснуть и досмотреть сон со счастливым концом: конь спокойно пасётся, а девочка лежит в душистой мягкой траве; над ней, словно привязанные на невидимой ниточке, зависли жаворонки, захлёбываясь в весеннем пении; ветерок елозит травинкой по щеке; солнце, ласковое, не пекучее, гладит приятным теплом рУки и босые ноги. Наверное, это не сон, а скорее, воображение. Но пусть оно продлится долго, до позднего утра.
До слуха доносится всхлипывание Аксюты и ругань матери:
– Ну ты же, дочка, знаешь Нинкину натуру, надо было в сундук спрятать, под замок. Сколько раз, сатана брехливая, обещала не брать чужого, тебе уже пора знать, что она у нас, как в той присказке: дэ ж ты бачив, шоб сучка блины пекла, вона их кистом пойисть.
Притаилась, плутовка, под одеялом, делает вид, что спит. Красивый сон кончился, наступил обычный серый день, с упрёками и одним и тем же вопросом – у тебя совесть есть или её собаки съели?
Отец привёз обеим дочкам кустарные туфли с базара, начищенные ваксой до блеска, на небольших каблучках, с застёжками-перемычками. Переняв от своего отца способность сапожничать и разбираться в сортах и качестве кожи, Иван понимал, что товар плохой, перепаленный, но где взять хороший, магазины в ту пору были пустыми.
– НосИте аккуратно, – сказал он дочерям, – старайтесь, чтоб вода не попала, можно только по сухому ходить.
Нина в тот же вечер появилась среди девчат и хлопцев в новых удобных туфельках. Заиграла гармошка – и ноги сами пустились в пляс. Отбивала гопака самозабвенно, до третьего пота. И вдруг почувствовала, что обувка стала просторной, а потом и вовсе расхлябанной. Незаметно отошла в сторонку, но при тусклом лунном свете нельзя было понять, что сталось с новой обувью.
Домой с гулянок принято было возвращаться тихо, на цыпочках, не зажигая лампы. Туфли, ставшие на два размера больше, завернула в тряпицу и сунула под подушку. И только утром, когда в хате никого не стало, Нина развернула тряпку, на которой лежали тусклые, запылённые, полопавшиеся по швам туфли, если их можно было так назвать. Разбитые старые лапти.
Аксюта свою обнову берегла: сходит к девчатам в гости и, обходя все кочки и неровности дороги, спокойно вернётся домой и поставит чёрных блестящих голубков под кровать.
Нина терпела неделю, заглядываясь на сестрины туфли с завистью и неудержимым желанием хотя бы примерить их. Может быть, её туфли покрепче или из другой кожи?
Когда мамина дочка, тихая и послушная, уснула, отвернувшись к стене, Нина, как тать в нощи, умыкнула обувку и на цыпочках выскользнула во двор. У младшей сестры нога была меньше на один размер. Нина с трудом обулась, ступни прямо влипли внутри, невозможно даже пальцами пошевелить. Но ничего, идти можно. А потанцевать надо совсем немного и не слишком топая ногами.
Потанцевала. И принесла домой ещё одни разбитые лапти.
Хотя давно пора вставать, лежит кошечка, стащившая чужое сало, укрывшись с головой одеялом, слышит, ругают какую-то сучку, съевшую тесто для блинов. А послушная дура плачет, видно, блинов не досталось. Ну, держись, Нинка, не впервой тебе отбиваться и выходить сухой из воды. Выдержим и на этот раз!
Вспоминается случай годичной давности, когда сестра и брат, подлые души, выдали Нину из-за своей трусости.
Перед рождеством напекла мать колбас. Детей убеждали, что пока есть нельзя, бог покарает, а через два дня, когда наступит святой праздник, ешьте сколько угодно. Колбасы, остывая, стояли в сковородках на столе. Но разве можно вынести эти дразнящие вкусные запахи? Мать за порог – а Нинка к столу. Выдрала серединочки в двух сковородках, распределив равномерно колбасные спиральки. Как так и было. Честно разделила на троих, пригрозив меньшим: расскажете – прибью. Ещё не остывшие горячие толстенькие кусочки умяли в один момент и сидели притихшие, ожидая кары с неба, но больше всего боялись наказания отца. Поглядывали на тонкую длинную лозину, зацепленную за гвоздь на балке. Пока что она висела без применения, но за такой грех могла употребиться по назначению.
Мать сразу обнаружила пустые кружочки в сковородках; молча посмотрела на перепуганных детей и вышла. Лучше бы она поругала их, не так страшно было бы.
Через время спокойно вошёл в хату отец.
– А мы сейчас узнаем, кто нашкодил, как поганый кот.
Вырезал из хворостины три одинаковые палочки. Раздал онемевшим детям.
– Кто брал колбасу, у того палочка вырастет.
И уселся у окна, дожидаясь результата.
Нина подтянула на коленях старую фуфайку ближе ко рту и тихонько откусила верхушку палочки. Она последней подала отцу свой огрызок.
– Дочка, а чё ж она у тебя такая маленькая стала?
– Папанька, – высунулся на край печки малец. – А мы видели, как Нинка грызла палочку.
– Нина, может, скажешь что-нибудь?
– Откусила, чтоб не выросла.
Отец молча стал снимать с гвоздя лозину.
– А колбасу ели все? Или только Нина?
Дети молчали.
– Так. Слазьте с печки и полощите рот от скоромного. Попросите прощения у Николая Угодника.
В святом углу висела почерневшая от времени икона, рассохшаяся, уже без оклада и стекла. Но лицо Святителя было красивым и добрым, дети привыкли к нему и были уверены, что он простит их.
Иван, усевшись на лавку у порога, умилённо, сдерживая улыбку, наблюдал, как его чада по очереди подходили к иконе, крестились и что-то шептали себе под нос.
– Ладно, раз простил вас Чудотворец, то прощаю и я. Но в последний раз.
Детишки вмиг оживились и по одному стали залезать на печь. Пока каялись, ноги замёрзли: от земляного пола тянуло холодом и шерстяные носки, без обувки, не спасали.
Как-то мать послала Нину на чердак за луком. Дети там никогда не бывали, потому что и домовой, и Баба Яга, и рогатые черти – все обитали в этом месте. Вечером, заходя по тёмным сеням в хату, дети с опаской поглядывали на ляду чердака, едва видневшуюся от тусклого света, вырывавшегося в открытую дверь. Старались скорее закрыть за собою дверь, чтобы освободиться от гнетущего страха, давящего почему-то ниже затылка на плечи.
Нина на какой-то момент растерялась: разве можно добровольно лезть к чёрту на рога или получить по спине метлою? Домового не так страшно, потому что он хозяин и хаты, и двора, даже коров и лошадей охраняет. Без него (если он покинет подворье) всё прахом пойдёт – сгорит или смоется водою, да мало ли что может случиться. Но мамка так спокойно попросила Нину, что все опасения как бы улетучились и на смену им пришло любопытство, окончательно победившее сомнение и страх.
По приставленной лестнице Нина поднялась к потолку, головой приподняла крышку, которая, открываясь, запела тонко и дружелюбно. Кругом пусто и немного жутко; где-то вверху гудит ветер да поскрипывает старый фронтон с крохотным окошком. «Да ничего страшного тут нет», – подбадривает себя Нина. А вот и знакомый кожух домового, снял, наверное, на лето. Вспомнила Нина, как «хозяин» в длинном тулупе до пят, в вывернутой наизнанку шапке (чтоб не сглазили), с суковатой палкой медленно прошёл по двору, не поворачивая головы к окну, из которого, сгрудившись, смотрели дети; но за спиной стояла мать, успокаивала всех и почему-то закрывала рот ладошкой, чтоб не заплакать, что ли.
А через какое-то время в хату зашёл отец, и дети наперебой стали рас сказывать ему, как они видели домового.
– Это он уже на работу вышел, сторожить двор, если кто из вас придёт домой поздно, не пустит: он хозяин и любит порядок во всём.
– Папань, а почему он хромает?
– Наверное, в войну поранило. Немцы тут проходили, а наши по ним из пушек палили. Дом уберёг, а сам, бедолага, пострадал.
Вечером, когда меньшие дети уже спали, Нина видела, как мать хлопотала около таза с водой, промывая натёртую ногу отцу, что-то приложила и завернула ступню байковым лоскутом. Ещё тогда мелькнула догадка, что домовой слишком уж похож на отца.
Под самой крышей, на продольной балке что-то висело в старой наволочке, завязанной узлом. Пощупала руками – твёрдое, с бугристыми неровностями, понюхала – о, колбаска! Наверное, припрятала мать, чтобы разговеться на пасху.
– Нинка, сатанюка, – раздался внизу недовольный голос. – Тебя только за смертью посылать. Давай скорее лук, мне на зажарку нужен.
– Так я ищу, во что положить.
– А чё искать, набери в подол.
До самого вечера всё думала, строила планы, как же полакомиться вкуснятинкой и чтоб никто не догадался. Придумала-таки. Коты – вот кто может добраться до колбас. И никаких свидетелей, которые съедят и тут же выдадут тебя.
Быстро, как кошка, преодолев лестницу, оказалась на чердаке. Ляду предусмотрительно закрыла за собой. Наволочка ветхая, легко протыкается пальчиком, образуя дырочки, надо их ещё подрать ногтями. Два-три небольших клочка полетели вниз, для убедительности. Мясо в колбасках суховатое, отламываешь кусочки, а они – шпок-шпок! А вкус – не передать!
Спустилась с лестницы – и скорей к ведру с водой. Пахнет ведь! Побежала в сад, там на вишнях чуть завязавшиеся зелёные шарики, кинула штук пять в рот, пожевала. Вот и порядок в танковых частях!
За день до пасхи мать сетовала:
– Ну, проклятые коты, везде достанут. Хоть не всё сожрали – и то хорошо.
Иван, оторвавшись от заплатки на штанах, исподлобья посмотрел на жену:
– А не рукатые коты?
– Да нет, не похоже.
Летом на чердаке подвешенным к балке оказалось вишнёвое варенье, завязанное по горлышку белой тряпицей. Нет, сказала себе Нинка, тут номер не пройдёт: коты такое не едят. Представив себе, как Мурка лапкой достаёт из баночки варенье и аппетитно облизывается, Нина долго смеялась, заинтриговав Аксюту.
– Ну расскажи, чего ты смеёшься, – приставала младшая сестра.
– Ты не видела случаем, как собака смеётся?
– Не-е…
– А я видела.
И давай, оскалив зубы, показывать, как смеются собаки. Хохотали вместе. Ну и Нинка, придумает же. А Нинка на выдумки была горазда.
– Хочешь, Аксюта, чтобы лицо у тебя было белым и гладким, как яичко?
Для младшей это был больной вопрос, потому что в отличие от Нины она родилась (бог знает, в кого пошла) темнокожей и с чёрными волосами. Когда-то баба Поля рассказывала, что в роду у них была красавица молдаванка. Вот и разделил бог наследство между сёстрами: одной смоляные густые волосы, другой – вспыльчивый характер, умение врать и способность танцевать до упаду.
– Так вот, делай, что я тебе буду говорить.
И Аксюта с готовностью стала выполнять все команды.
Наказав сидеть у окна, не оборачиваясь, Нина вышла в другую комнату, нашла два одинаковых блюдца, в одном из которых закоптила дно над лампой, другое оставила чистым. Закопчённое дала в руки доверчивой сестрице, себе оставила чистое. «Смотри на меня и делай, как я», – скомандовала Нина. Помазав двумя пальчиками дно, потёрла сначала подбородок, опять поелозив дно, тёрла нос, щёки, лоб. Аксюта (чего не сделаешь для красоты?» послушно повторяла все движения.
– А теперь, – серьёзно продолжала приказывать любительница посмеяться, – повернись в угол и стой, не двигаясь, считай про себя до десяти. – Готово! Теперь посмотри на себя в зеркало.
Сама шмыгнула в открытую дверь, давясь от смеха.
– Дурочка! – кричала красавица с «отбелённым» лицом, в сердцах поддев ногой пустое ведро. Воды в доме не оказалось, и разъярённая чернавка металась по двору, размазывая сажу по лицу.
– Да что ж ты поддаёшься на её удочку, они же с отцом одним миром мазаны, им бы только ржать, как кобылам, – не то уговаривала, не то упрекала мать.
Ждать следующей выдумки приходилось недолго, снова и снова тихая доверчивая Аксюта, как слепая курица, попадалась на уловки неуёмной развесёлой отцовой дочки, которой всё прощалось. Так и шли они по жизни, очень разные, непохожие друг на дружку ни внешне, ни внутренне. Роднёй их считали только те, кто знал об этом. У Аксюты до старости косища была толщиной в руку. С возрастом густые длинные волосы стали обузой: мыть голову, когда ещё не было шампуней, приходилось хозяйственным мылом с резким неприятным запахом; высушить такую копну – тоже проблема. Тяжёлый тугой узел волос тянул голову назад, мешал работать. Стриженых женщин в ту пору на селе не было. Если кто-то помоложе, осмелев, отрезал или подрезал волосы, таких неизменно и со злорадством называли стрижеными морьками, скублеными овечками или тифозными.
Чтобы не попасть под обстрел языкатых баб, Аксюта стала вырезать на затылке волосы пучками – и голове легко, и незаметно.
Нину бог обидел при распределении растительности, надо полагать, всё досталось младшей. Свои редкие тусклые волосы непонятного цвета она называла пацёрками, мышиными хвостиками или паклями. Самохарактеристика была свидетельством того, что обладательница «трёх волосин, как у зайца на усах», совсем не расстраивалась по этому поводу, и, казалось, разговор о её «шевелюре» даже поднимал ей настроение. Умение посмеяться над собой передалось ей от отца, далёкого от самомнения и бахвальства.
Довоенное замужество сестёр не удалось. Причины распада брака были разными. Ребёнок от первого мужа у Нины умер, Петра забрали в армию, со свекровью она не ужилась. Домой уходила с руганью и дракой. Поссорившись со свекрухой из-за того, что часто бывала у родителей, Нина держала оборону, закрывшись в хате на крючок. Свекровь лютовала – дескать, не пускают в собственный дом – и призвала на помощь родственника, двоюродного брата Петра. Вместе они орали, толкали дверь, потом решили проникнуть внутрь через окно. Створки, нажав с улицы, удалось открыть, и свекровь опрометчиво сунула голову в амбразуру и получила раскрытыми ножницами под нос, раскроив верхнюю губу до самого некуда. Пока суетились со сквозным ранением, Нина не спеша покинула поле боя и больше сюда не вернулась. Муж демобилизовался только через три года, потому что из армии попал на финскую войну. Но теперь их уже ничто не связывало, они стали чужими друг другу, к тому же мать писала сыну нелицеприятные письма, охаивая сноху как только могла. Да и как же иначе относиться к бывшей родственнице, из-за которой доживала свой век с заячьей губой?
Аксюта вышла замуж за спокойного трудолюбивого парня с другого хутора; вошла в дом мужа как в родную семью. Когда началась война, Василий ушёл по призыву, оставив дома жену с полуторагодовалой дочкой. Вскоре на мужа пришла похоронка, но ставшая родной в семье сноха ещё несколько лет оставалась жить у свёкра на Синюхе. Но навсегда, как известно, невестки не остаются в доме мужа, если его самого там нет. Вернулась к родителям только перед окончанием войны с дочерью и новой романтичной, почти литературной фамилией – Ларюшкина. Нина тоже родила дочку, годом раньше младшей сестры, но оставалась по известной причине на фамилии родителей. Так появилось общее в жизни непохожих друг на друга сестёр: обе без мужей и обе с дочками.
После войны они поочерёдно выйдут замуж за инвалидов. Аксютин муж стал инвалидом в мирное время, по состоянию здоровья; у Нины – инвалид войны, сошедший с поезда на незнакомом полустанке. Но эти одинаковости станут такими же разными, как сами сёстры.
Первое, что нужно в семье, особенно для мужика, – это умение готовить еду, ибо какая ж любовь, если желудок пустой. У сестёр эта способность проявилась вне всякой логики. Аксюта, мамина дочка, вся такая правильная и послушная, готовила скверно, как говорится, на собак вылей, и те не станут есть. Хлеб у неё выходил приплюснутый, непропечённый, «глывкый», как у нас говорят, и через день – хоть об дорогу бей. Выросшая на пышном духмяном хлебе, сама не смогла перенять способности матери, известной в колхозе пекарьки.
Нина же никогда не вникала в тайны кулинарии, а вот поди ж ты, умела готовить не хуже матери, а в чём-то даже превзошла её. Иначе, как даром божьим, это не назовёшь. Уж если борщ, то за уши не оттянешь. О хлебе и говорить нечего. Если Нинка пекла хлеб, то к ней не подходи. Она суетилась, нервничала, накрывала тесто, за неимением специальных скатёрок, самыми нужными в быту вещами: платком, наволочкой, куском новой материи – лишь бы удалась выпечка. Сколько вещей было испорчено, потому что от теста, как ни отдирай, всё равно останутся следы, а при стирке образуются мелкие катышки, ткань делается шершавой и непригодной к употреблению. Зато неудачного хлеба никогда не бывало.
Не раз приходила Нина к Аксюте домой, показывала, рассказывала, та же относилась к своему неумению спокойно: ничего, голодные будут – поедят. И так во всякой стряпне: жидкий невкусный борщ, в котором одна картошина за другой бегает, пересоленный суп, подгоревшая каша; если пирожки, то только с комковатой, плохо растолчённой картошкой.
Николаев Николай, муж Аксюты, заботливый отец (от него родились две девочки) и добытчик денег (работал в колхозе бухгалтером), совмещал в себе два разных человека. Выпив лишнюю рюмку, становился невыносимым: придирался к жене, ревнуя её к каждому столбу, вспоминал все неудачи по дому, устраивал драку. А она, бесхребетная по жизни, позволяла мужику, горбатому, на костылях, избивать себя. Впутавшись в длинные волосы, он валил её наземь, тыкал костылями куда попало.
Нина, узнав по цыганскому радио, что Аксюта не вышла на работу из-за разрисованного мужем лица, прибежала к ней домой, пока воитель был на службе.
– Да ничего страшного и не было, – успокаивала младшая взбудораженную сестру.
– Он выпивший, конечно, поганый, а что с ним, калекой, сделаешь?
– Так этот поганый и тебя калекой сделает…
– Да нашло на него что-то, это ж бывает в каждой семье. И у вас бывает.
– У нас так бывает, что Я ему фингал поставлю, а не он мне.
– Ну, как у кого получается…
В день выборов (в те далёкие времена такое мероприятие отмечали как праздник) Аксюта с мужем пришли к Жердевым. Мужики, как всегда, хватили лишку. Митька сидел, растянув рот в пьяной улыбке, а Николаев начал «давать концерт». Он напирал на жену, требовал признания какой-то выдуманной им вины, размахивал костылями.
– Коля, успокойся, пойдём домой, – уговаривала Аксюта.
И тут, не вытерпев буйства разходившегося калеки, Нина пошла в разнос.
– Ах ты камбул проклятый (Николаев ко всему ещё был и одноглазым), да сколько же ты будешь издеваться над нею?! Я сейчас долбану тебя так, что будешь лететь со своими костылями до самого порога!
– Нина, не надо, не ругайся, – вступилась за несчастного мужа Аксюта. – Мы сейчас домой пойдём. Выходи, Коля, потихоньку.
И Коля, почуяв жареное, бодренько так покостылял из хаты.
В гости к Жердевым они больше не приходили. Опасно. От этой сумасшедшей Нинки всего можно ожидать.
Жердя (так звали на хуторе Нинкиного примака) тоже не был подарком. Выпивал, по хозяйству ничего делать не умел; постоянно находясь на чабарне, нырял к одиноким бабам. Однажды на выходные домой не явился. Чабаны сказали, что Митька сошёлся с женщиной на Октябрьском, хвалился, будто ему там лучше, чем у Нинки.
«И на кого же он меня поменял, кацап хромой», – вертелось в голове у Нины. Вскоре сорока на хвосте принесла, что бабу ту зовут Дашка и работает она на свинарнике. Нина пошла посмотреть на разлучницу, была там недолго, и, вернувшись к себе на хутор, всем показывала клок тёмных волос. Долго носила реликвию в кармане фуфайки, пока не появился дома блудный муж.
Ни о чём не спрашивая, Нина стала хлопотать у печки, поставила на стол борщ, полкурицы и молоко – всё то, что обожал её Митька. Потом как бы между прочим спросила:
– У твоей зазнобы волосы какого цвета?
– Да вроде чёрные, а тебе что?
– Вот такие?
И развернув кусок газеты, показала свалявшийся тёмный комок. Митька от изумления открыл рот.
– Как ты думаешь, откуда эта волосня, с головы или …? – продолжала допрос улыбчивая жена.
– Во дура, да баба тут при чём? Это ты у меня должна была рассмотреть, где какие.
Наступило перемирие, но не надолго, до первой пьянки.
– Хоть поганенький, да свой, – думала и говорила Нина в оправдание, – и никто мне забор не обссыкает и в окно не заглядывает». Бабы ее поддерживали: это правда.
В канун рождества брат Николай с женой Нюсей приехали к старикам погостить и, если надо, помочь. К вечеру Колька незаметно, вроде до ветра, вышел из хаты и пропал.
Невестка нервничала, выходила на улицу, спрашивала свекровь, где он может быть. Глухо. Пошла к Нине, которая всегда была утешением для обиженных и брошенных Колькой молодиц.
– Давай сходим на МТФ, наверное, они там с папанькой квасят, – предложила золовка.
Кузьмич работал на скотарнике сторожем. Пришли. Калитки, вделанные в большие двустворчатые двери, с обеих сторон сарая оказались закрытыми изнутри. До сторожа не достучаться, потому что моечная, где обитал ночной страж, расположена посередине сарая и выступала от основной постройки метра на два от глухой стены. Небольшое окошко присобачили под самой крышей – не дотянуться, не постучать. Нашли в углу небольшую кучку оставшегося от пристройки саманА. Положили один на другой, получилась довольно высокая подставка. Первой залезла Нюся и через минуту, давясь от смеха, почти свалилась с самодельной тумбы.
– Что там такое? – допытывалась Нина.
– А вот ты сама посмотри.
Нина, приложив руки скобками около лица, уставилась в окошко. И перед ней открылась очень занимательная картинка. В железной ёмкости, в которой подогревали воду для мытья фляг, сидел голый дед, а молодуха, как бы не ровесница его старшей дочери, старательно тёрла спину, ласково похлопывая свободной рукой по плечам и шее.
Насмеявшись от души, решили действовать дальше. Умиротворённый выкупанный дед стал надевать верхнюю одежду. Наверное, собирается провожать подружку домой. Наблюдая из-за угла, увидели вышедшую парочку; направлялись в сторону Зари, небольшого хуторка с односторонней улицей, который располагался примерно в полутора километрах от МТФ.
Немного погодя, зашли в коровник, дверь в моечную была незапертой. Огляделись, что бы такое сотворить. Топчан застелен ватным цветным одеялом, колхозной собственностью. Его-то и увели развесёлые родственницы. Трофей оставили у Нины, положив под матрац на Шуриной кровати.
Утром явился на работу заведующий фермой, и доярки тут же с радостью преподнесли начальству новость.
– Кузьмич, шо ж ты за сторож, если у тебя из-под задницы одеяло спёрли?
– Ей-богу, Николай Васильевич, не знаю. Ходил по коровнику, присматривал за стельными первитками. Вернулся – нету. Шоб тому руки отсохли, кто это сделал.
– Так ты что же, не закрываешь на ночь дверцы?
– Закрываю, а как же! Може, забув?
– Ну, не обижайся, Иван Кузьмич, нам такие забывчивые сторожа не нужны.
Поплёлся уволенный работник домой. По пути зашёл к дочери. Уселся на ту самую кровать, где внизу была подстелена пропажа, нервно курил, поглядывая на суетившуюся Нину: что-то уж дюже некогда ей, наверное, чует кошка, чьё сало съела.
– Дочка, а ты случаем не подшутила надо мной с этим одеялом?
– Каким ещё одеялом? – честно глядя в глаза отцу, удивилась ни в чём не виноватая Нина. – Вы что думаете, я способна украсть у собственного отца?
– Да я так просто спросил.
– Вам бы давно надо сидеть дома, а вы всё по скотарникам лазите. Последний кусок хлеба доедаете?
– Да так-то оно так, конечно. Но всё ж таки…
Нина так и не решилась на совместного ребёнка, живя с Жердей: а вдруг выродится такой же носатый недомерок, как папа. Каких только определений не получал непутёвый Митька, а вот жила с ним; трижды он уходил к другим бабам, но, пожив несколько месяцев, возвращался, иногда не без помощи самой Нины, совсем недавно так усердно гнавшей беспечного курского соловья в шею: чтоб тобой и не воняло тут. Но проходило время, и на Нинку нападала такая тоска, что совладать с собой она была не в силах. Разыскивала блудного мужа, и после разговора по душам дня через два-три он как ни в чём не бывало сидел за столом, уплетая вкуснейший Нинкин борщ – на стороне он такого не ел.
К Шуре, неродной дочери, он относился с уважением, а со временем и заботой.
– Шурка, ты девка умная, смотри и запоминай: ты так жить не должна, как мы с матерью.
После десятилетки Шура уехала работать в шахтёрский город – Донецк. Мать не находила себе места, понимая, что дочь живёт там на минимальной оплате; уехала в старом школьном пальтишке и в холодных резиновых сапожках. Получив деньги, заработанные дочерью летом на колхозном току, прибавив половину своих, отослала ей на покупку нового пальто. А вскоре, не выдержав долгой разлуки, приехала сама с двумя набитыми наволочками, связанными и перекинутыми через плечо – один оклунок сзади, другой спереди. Лакомились домашней колбасой, сметаной, похожей на масло, и всякими напечёнными цвыбыками (что-то вроде хвороста).
– Ой, да что же это я разожралась, – беспокоилась Нина, – так всё и съем, что привезла.
Осмотревшись, трезво оценила ситуацию: так и будешь жить на квартире впроголодь? Возвращайся, найдёшь работу поближе к дому, чтоб на выходные можно было приехать и взять что надо из продуктов.
Шура давно уже думала об этом, совет матери только укрепил мысль об отъезде, и через два месяца она прикатила домой.
Старшая дочь Аксюты от первого брака, Маша, служила в семье рабочей лошадкой: Маруська, иди за травой кроликам; огород зарастает, пора уже второй раз прополоть; скоро корова придёт из стада, мешок зелёнки надо накосить – и так бесконечно. Ни ласки, ни душевного разговора, ни заботы девочка эта не знала. После замужества, родив первого мальчика, она поняла, что попала ещё в одну кабалу; муж грубый, устраивал скандалы и драки. Забрав ребёнка, вернулась домой.
– Мам, я там больше не могу жить.
– Да не, голубка, вышла замуж – живи, – таков был приговор не отчима, а родной матери
К старости все противоречия сестёр сошли на нет, как говорят. Они открывали друг друга заново. Жизнь потекла одинаково: нездоровье по возрасту, постоянные тревоги о взрослых детях, умиление и радость при редких встречах с внуками. Никогда на душе не было так тепло и благостно, как при разговорах о них.
– О цэ так, – наигранно возмущалась Нина поведением пятилетнего внука. – Баба и наварит к приезду гостей, баба и сказки выдумывает, баба и сумки собирает, чтобы они там, в своём городе, не голодными были. А как спать, так к деду под бок лезет.
– На узкой кровати Митька всю ночь ворочается, а терпит, не уходит от малОго на другое место. Утром проснулись, а я, пока дед в магазин ходил, и говорю:
– Будешь, Серёжка, с дедом спать, у тебя вырастет такой же нос, как у него. Хочешь быть похожим на деда?
– Нет! – заорал в растерянности бедолага, – не вырастет, потому что дед не из нашего муравейника!
– Надо же такое сказать, – удивлялась Нина, – когда-то, наверное, слышал, что дед у нас пришлый и что Шура неродная ему дочка.
Перестали они жаловаться на своих мужиков: Аксюта потому, что уже несколько лет жила одна, Нина потому, что её Митька давно уже отошёл от пьянки и бурной жизни на чабарнях; всему своё время – мудрствовал он. Время проходило в неспешных мирных беседах, в воспоминаниях молодости.
– Ну и оторвилой же ты, Нинка, была, а теперь посмотрела бы на себя с того времени и не узнала бы: грузная седая баба, еле ноги передвигает…
– А ты, смотрю, такой и осталась, как в молодости – сгорбленная, ножки калачиком поставлены и переваливаешься, как утка.
Почувствовав, что дальше рассказывать друг о друге опасно (того и гляди поругаются), добродушно посмеялись и по-умному сменили тему.
Доживая последние дни, в полузабытьи, звала Нина не дочь, не мужа, а сестру: «Аксюта, подойди. Аксюта, ну что тебя так долго не было…»
Время стёрло их разные одинаковости, окончательно примирило, и ушли они поочерёдно в мир иной как никогда родными и самыми близкими друг другу.
Жердевы
Отчиму моему посвящается
Отчим появился в нашей неполной семье случайно. Шёл послевоенный 1946 год. Отлежав в госпитале во Владикавказе до полного выздоровления, возвращался Матвей домой, в Среднюю полосу России. Но дома как такового у него не было давно. Родители рано умерли, с пяти лет он рос в семье старшего брата. Жена брата, Нюша, была доброй, мягкой женщиной, но ей, с двумя детьми, со всем хозяйством, не хватало времени на воспитание деверя: рос он сам по себе, как трава в поле. У Матюхи была одна обязанность – пасти гусей. Там, на пруду, на взгорьях, в скошенных полях – полная свобода. Чуть ли не с десяти лет научились пить сивуху, играли в карты на гуся: закусывать же надо чем-то. Кое-как опаливали проигранную птичку в костре, выдёргивали самые крупные перья, а потом, положив сверху охапку мокрой травы, засыпАли жаром. Печёный гусь! Такого вкусного мяса Матюхе не приходилось есть больше нигде.
Поезд шёл, останавливаясь не только на больших станциях, но и на полустанках. В окно старший сержант увидел смешное название – Овечка. Вышли из вагона, шутили, смеялись: почему не Овца или, скажем, Баран? А вот Овечка – и всё тут. И вдруг подумалось, может, и живут здесь весёлые, не отягощённые жизненными заботами люди, раз они дали такое необычное имя тому месту, где они поселились, не задумываясь о красоте и правильности этого слова.
Услышав пронзительный свисток паровоза, неожиданно для самого себя вбежал в вагон, схватил с верхней полки вылинявший вещмешок с немудрёными пожитками – и вышел. Поезд отошёл, и не было ни сожаления, ни тоски: солдата никто нигде не ждал.
Война застала его в армии, на учебном корабле в Ленинграде. Потом долгая осада города. Корабль, разбитый немецкими бомбами, затонул, а старший матрос Жердев Матвей Антонович оказался в морской пехоте в звании сержанта. Со своей частью дошёл до Одера. Переправа была страшной – под взрывами снарядов и свистом пуль. До берега добирались вброд, по пояс в ледяной воде. На жёсткой обледенелой земле невозможно было поднять голову, лежали, не чувствуя холода, часа три. Потом вдруг стало как-то тихо и совсем не страшно. Веки начали наливаться свинцовой тяжестью – спать, как хорошо спать…
Очнулся в госпитале. Контузия. На одно ухо оглох полностью. Обе ноги забинтованы. Обморожение.
Долгий, казалось, бесконечный путь во Владикавказский госпиталь. Левую ногу спасли, на правой ампутировали пальцы до середины стопы, натянули кожу и зашили. Осталась культя.
Погрустнел солдат: красавцем он не был по своему роду – маленького роста (невысокого – это бы куда ни шло!), нос – на семерых рос, а одному достался, а тут ещё война прибавила изюминок – глухой и хромой. Кому такой нужен?
Медсестра в перевязочной, несмотря на адский, без единой минуты отдыха труд, находила в себе силы сказать каждому что-либо весёлое, доброе.
– Не горюй, солдат, ещё не одна баба по тебе сохнуть будет, а с такой ногой не то что бегать – танцевать можно.
И ведь она попала в точку: до войны умел танцевать Матюха как никто – отчаянно, до побледнения и очень по-своему. В этом деле он был солистом.
А ты, случаем, не одинокая?
Нет, милок, есть у меня мужик, все части тела на месте, а вот характер война начисто испортила, взрывной, как порох, а если что не по нутру, то и залепить может.
– А я бы тебя не бил…
Медленно проплыл последний вагон поезда, открыв ближайшую картину села со смешным названием Овечка: два ряда улиц, уходящих прямо от вокзала до виднеющегося в конце пригорка. Припадая на правую ногу, с костылём в руке, вошёл в первую же улицу. Аккуратные хатки с палисадниками, дурманящий запах первоцветов, тёплый ветерок и много, много солнца. Совсем иной мир, не такой, как на далёкой его родине – Курской области. Хуже или лучше, не пытался оценивать. Просто всё другое.
Дорогу стала переходить молодуха с пустым ведром. Остановилась – чтоб тебе, солдат, не пусто было.
Вы до кого идёте? – поинтересовалась она.
Дык я так, сам по себе.
О, да ты из кацапщины к нам забрёл. Если не до кого идти тебе, то пойдём покормлю, небось голодный.
Покорно пошёл следом. А что делать бездомному израненному псу: кто поманит, за тем и пойду.
Накормив борщом, дала понять, что можно остаться, на пока, по крайней мере. Разговор как-то не клеился. Сказала, что с мужем разбежались ещё до войны, выпивоха был хороший. Сын больше у бабушки живёт, потому как она, мать, целыми днями в поле на работе.
Спал Матвей в маленькой кухоньке во дворе. Рано утром скрипнула калитка, появилась озабоченная хозяйка, надо полагать, ночевала у матери. На голове повязана косынка, скрывающая весь лоб до самых бровей, лицо густо намазано мазилом – пахучей самодельной мазью, которую делали торговки для защиты от солнца. Быть загорелой на селе считалось некрасивым, вот и ходили по полю бабы в белых, с голубоватым оттенком масках, делающих всех одинаково неприглядными и пугающими.
– Ты без меня тут что можешь сделай во дворе, пока я вернусь, – громко говорила женщина, обращаясь к поночёвщику, который, приоткрыв дверь, тут же почему-то захлопнул её (баб боится, что ли, этот солдат?) – Дверь перекосилась в сенцах, плохо закрывается, – продолжала она. – Топор, тяпки, лопаты – всё тупое, как у хозяина зубы. Да тут много чего надо. Точило на завалинке лежит.
И ушла. – Во, опростоволосился, дурень, – корил себя Матвей, – я ж её не признал такую намазанную.