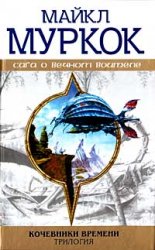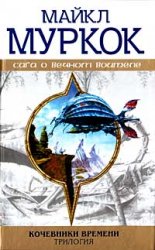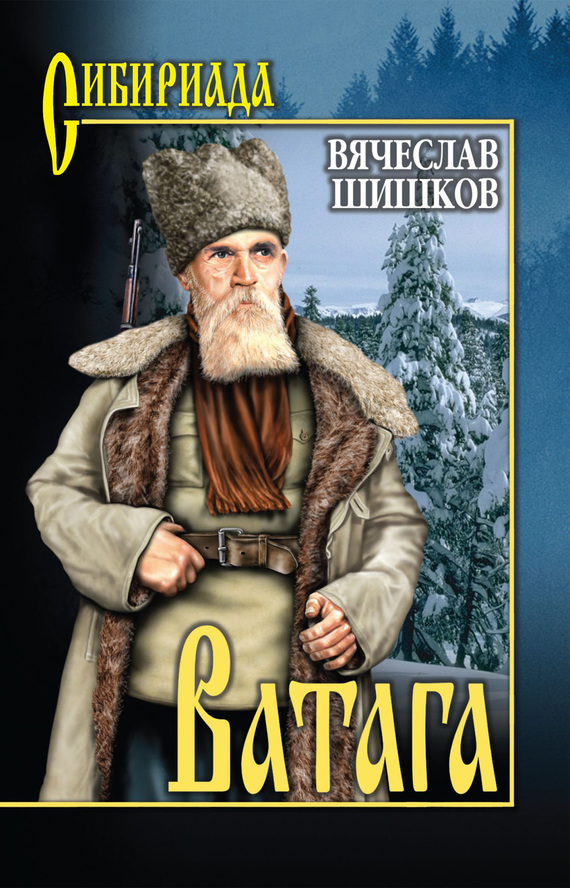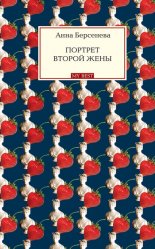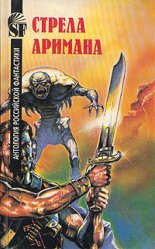Стеклянный дом Устинов Сергей
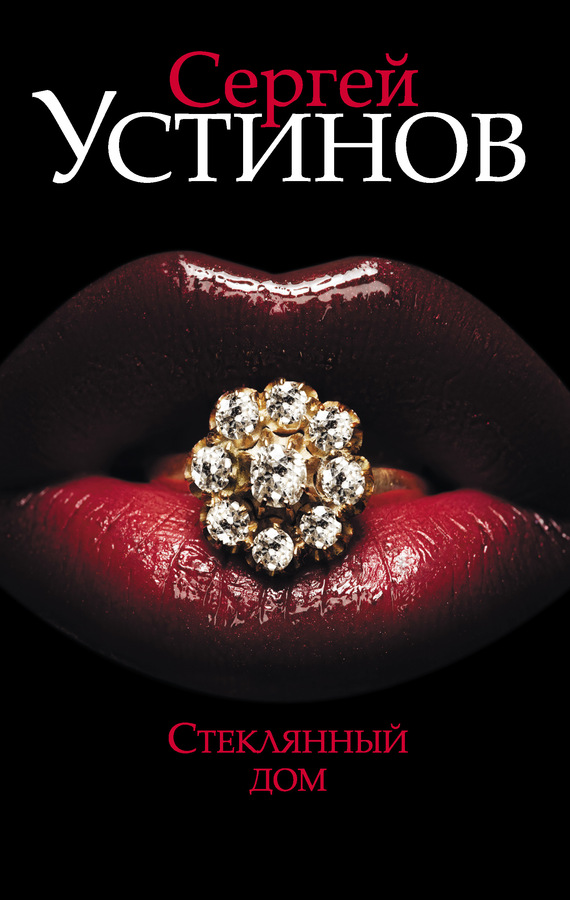
— Вот и давай код, — обрадованный достигнутым наконец взаимопониманием подбодрил он. — А потом заодно, где ключи от конторы и как отключить сигнализацию.
Все это время я судорожно дергал пальцами связанной ноги, крутил за спиной ладонью, с нарастающим отчаянием понимая, что занимаюсь абсолютно безнадежным делом. Без помощи правой, свободной ноги мне не обойтись, а пустить ее в ход на глазах у Фиклина нет никакой возможности.
Или все-таки есть?
— Ну? — дубинка в руке моего мучителя с угрозой взлетела вверх.
— Тридцать семь... четыре поворота диска влево... — начал я как бы заученной скороговоркой, — пятьдесят три... два поворота вправо... восемьдесят четыре... три поворота влево...
— Стоп, стоп! Я так не запомню, — нетерпеливо прервал он меня и зашарил по карманам явно в поисках чего-нибудь пишущего.
Сердце мое дернулось и, показалось, вот-вот остановится, трепыхаясь в рваном ритме: найдет — не найдет, найдет — не найдет?
Фиклин не нашел и сделал именно то, о чем я втайне молился всем богам на свете: повернулся к висящему на стуле пиджаку.
Это был мой шанс.
Мои две-три секунды, которые я должен использовать, ибо другого времени больше не будет. И я их использовал.
Я их, можно сказать, использовал с таким положительным результатом для своего здоровья, с каким до того не проводил ни один месячный отпуск. Подтянув правую ногу, я уперся носком в задник левой кроссовки и несколькими рывками умудрился почти стащить ее. Но только почти. Потому что Фиклин, найдя авторучку и записную книжку, уже поворачивался обратно.
Приблизившись ко мне, он потребовал:
— Давай еще раз!
Я замер и мгновенно покрылся липким потом.
Цифры, которые я бормотал в прошлый раз, не имели никакого отношения к истинным, я придумывал их на ходу и сейчас вдруг понял, что не помню, чего врал. А вдруг ему что-то запало в память, и сейчас он уличит меня в этом, насторожится? Значит, больше времени у меня нет: сейчас или никогда.
— Ти-ди-сят о-сеть... — просипел я.
Зажав «слеппер» под мышкой, с блокнотом в одной руке и сверкающим «паркером» в другой он сделал еще шаг по направлению ко мне, пытаясь разобрать мое бормотанье. В ту же секунду я, уже не скрываясь, последним отчаянным движением сорвал с левой ноги кроссовку, выдернул освобожденную руку из-за спины и попытался схватить Фиклина за горло. Но промахнулся.
То ли противник был настороже, то ли пальцы онемели от неподвижности, а может, и то, и другое. Брокер успел дернуться, и я смог ухватить его лишь за ворот рубашки. Затрещала ткань, со звоном полетели в разные стороны пуговицы, а Фиклин, страшно выкатив глаза, вдруг вцепился мне в руку зубами. У меня не оставалось иного выхода, кроме как рвануть его на себя и что есть силы треснуть головой о стенку. Это подействовало на него успокаивающе: он обмяк и поехал вниз.
Хорошо отдавая себе отчет, что в любое мгновение либо брокер может прийти в себя, либо его дружки могут прийти к нему, я лихорадочно взялся за свое дальнейшее освобождение. Надо признаться, это было не так-то легко. Только с третьего раза мне удалось подтянуться на ослабевшей дрожащей руке к балке, чтобы в таком положении попытаться зубами разорвать скотч. Если вам никогда не приходилось грызть отвратительную липкую ленту, цепляющуюся к губам и языку, вы не поймете моих ощущений. Дважды я срывался и подтягивался вновь, прежде чем удалось покончить с этой малоприятной процедурой и оказаться на полу с трясущимися от напряжения и страха коленями. Но времени отдыхать не было — Фиклин у стенки начал слабо шевелиться и кряхтеть, как сонный младенец.
Оглядевшись по сторонам, я обнаружил то, что искал, на столе за паяльной лампой. Слава Богу, мои пленители не унесли с собой рулон скотча, и я тут же не преминул им воспользоваться. Сил у меня оставалось немного, но на щуплого Фиклина хватило. «Салазки» я ему делать не стал, просто обмотал липкой лентой ноги и руки за спиной и, оторвав небольшой кусок, на всякий случай залепил рот.
После этого, соблюдая максимальную осторожность, двинулся на разведку.
За дверью мне открылся длинный узкий коридор, уныло освещенный дистрофичной лампочкой ватт на пятнадцать. Пройдя по нему налево, я обнаружил, судя по мощному внутреннему засову, выход наружу. Искушение отодвинуть щеколду и дать отсюда деру, пока цел, было велико. Но я его преодолел.
Во-первых, я не имел ни малейшего понятия, где нахожусь, а уходить в ночь наобум, оставляя в тылу превосходящего по силам противника, было по меньшей мере неразумно.
Во-вторых, хотя по сравнению со спасением собственной шкуры это и следовало признать делом факультативным, меня теперь гораздо сильнее, чем раньше, интересовал вопрос, почему безобидный на первый взгляд брокер пускается во все тяжкие с целью овладения какой-то дурацкой пленкой.
Наконец, в-третьих...
В противоположном конце коридора имелась еще одна дверь. Она не была плотно прикрыта, сквозь щель в коридор выпадал свет и доносились звуки человеческих голосов. Не вызывало сомнений, что там обретается парочка, которой я обязан всем хорошим, что имею на протяжении еще не закончившейся ночи. Умом я понимал, что лучше мне сегодня больше не пытаться возобновить с ними знакомство. Но то умом...
Короче, в-третьих, меня неудержимо тянуло заглянуть в щелку хоть одним глазком. Как говорят в таких случаях, битому неймется.
Я на цыпочках подобрался ближе, но, к сожалению, из-за суженного обзора в первый момент смог увидеть лишь все те же немудрящие аксессуары, свидетельствующие о том, что мы находимся в какой-то третьеразрядной, может быть, даже заброшенной сейчас механической мастерской: в поле моего зрения попали край верстака, оборудованного электросверлом, и резак с воздетой кверху мощной рукояткой. Звуковой ряд следовало признать более информативным: судя по репликам, за пределами моей видимости шла игра в «очко».
— Карточку! — требовал давешний фальшивый баритон. — Еще!
— Подавишься, — мрачно прогнозировал басок.
— Мне хорош, — вступил неожиданно для меня третий голос, совершенно бесцветный. — Мечи себе.
— Туз-тузевич... А вот и валетик, хулиган малолетний... Десятка, мать ее! Перебор...
— Девятнадцать.
— Ваши не пляшут. Двадцать. — На этот раз бесцветный прежде голос окрасился довольной ноткой. — Ну что, хох-ляндия, идешь на все? Или мандраж купил?
— Не дави на психику, — пробасили в ответ. — Иду за полбанка.
Уж если кому из здесь присутствующих и можно было похвастаться, что он «купил мандраж», так это мне. Хорошо понимая, что рискую всем, я медленно, буквально по миллиметру принялся расширять щель между дверью и притолокой до тех пор, пока глазам не открылась большая часть помещения.
Не в пример соседней, эта комната была невелика, каких-нибудь десять квадратных метров. За столом действительно сидели трое, но хорошо была видна только спина одного из них: широкая, обтянутая курткой защитного цвета, с потемневшими от пота подмышками. Про двух остальных сказать ничего определенного, кроме того, что габаритами они уступают басовитому, было трудно. Медленно, стараясь ни скрипом, ни шорохом не выдать своего присутствия, я покинул наблюдательный пункт и двинулся в обратном направлении.
Наличие третьего персонажа еще больше осложняло ситуацию. Хотя, если вдуматься, двое их там, трое или пятеро — по большому счету, мне было безразлично. Даже со вновь обретенным «слеппером» я не одолею противника, еще, кстати, неизвестно, чем вооруженного. Лихо я буду выглядеть со своей дубинкой, если у них, например, имеется что-нибудь огнестрельное. Ну что ж, раз на моей стороне нет ни численного, ни физического превосходства, остается...
Что же, черт возьми, остается?
Вернувшись обратно в комнату со стеллажами, я мельком кинул взгляд на кулем лежащего в углу Фиклина, с удовлетворением отметив, что тот уже пришел в себя и теперь при виде меня бешено вращает зрачками. Я тихонько посоветовал ему не бузить, а вести себя скромно и ждать, пока до него дойдет очередь. В ответ он выпучился еще больше и даже что-то жалобно промычал, но я не обратил на это внимания, ибо меня сейчас интересовал совершенно другой объект.
Взяв в руки паяльную лампу, я убедился, что емкость для бензина полна: видать, подпаливать меня, как поросенка, собирались по полной программе. Недолгие поиски на стеллажах, а главное, под ними вскоре увенчались успехом, и я обнаружил грязное жестяное ведро, применяемое, вероятно, для уборки. Освободив его от остатков мусора, я вывинтил пробку из паяльной лампы и слил бензин в ведро. После чего обшарил висящий на стуле пиджак Фиклина и снова нашел то, что хотел: зажигалку. Это был прекрасный серебряный «ронсон-варафлейм» с золотой насечкой на корпусе, великолепная, безотказная штучка. Я несколько раз пощелкал ею, пока не отрегулировал струю пламени на максимальную мощность. Широкопрофильный брокер наблюдал за мной совершенно обезумевшими глазами. Но ему-то как раз пока волноваться не стоило.
Сунув в карман куртки моток скотча, взяв «ронсон» в правую руку, а левой подхватив ведро, снова стараясь ступать мягко и неслышно, я вышел в коридор, как на тропу войны.
До двери в комнату картежников оставалось всего несколько шагов, а я все еще не был абсолютно полон решимости, все еще колебался. Мой инстинкт самосохранения загнанным зверьком метался в этом узком, плохо освещенном коридоре, дрожал, упирался всеми лапами, неудержимо тянул к оставшемуся за спиной выходу на улицу. И, черт его знает, может, я бы и повернул назад — уж слишком отчаянный фокус мне предстояло выкинуть.
Но тут судьба распорядилась иначе, практически лишив меня свободы выбора: дверь распахнулась и прямо передо мной на пороге вырос тот самый здоровенный детина в защитной куртке, по всей видимости, вышедший посмотреть, как там у нас с Фиклиным идут дела, а может, просто до ветру. Вероятно, его изумление было вполне сравнимо с моим испугом, но я, наверное, благодаря напряжению, в котором находился, оказался все-таки чуть более готов к неожиданностям. Моя шея все еще очень хорошо помнила крепость его бицепсов, и я не сомневался, что в ближнем бою мне ничего не светит. Обе руки у меня были заняты, поэтому я прыгнул вперед, стараясь нанести ему удар ногой в грудь. Однако малый оказался тоже не промах, успел поставить блок ладонями и едва не ухватил мою стопу в клещи. В результате, как на тренировке, у нас обоих не получилось, а получилось, как в банальной ресторанной драке: мы оба, чуть не в обнимку, влетели в распахнутую дверь с шумом и грохотом, усугубляемым лязгом полетевшего вместе с нами ведра. При нашем столь экзальтированном появлении оставшиеся двое вскочили на ноги, и всю партию смело можно было бы считать проигранной в пух и прах, если бы я выпустил из руки зажигалку.
Но я ее не выпустил.
Правда, от первоначального плана остались одни охвостья (предполагалось, что я красивым ударом ноги распахну дверь, швырну на пол ведро и одновременно чиркну зажигалкой — как говорится, все в бензине, один я в белой рубашке). Вместо этого в бензине оказалась вся компания, включая меня, причем я в самый решительный момент отнюдь не возвышался на пороге с грозно горящим фитилем в карающей деснице, а наоборот, стоял на карачках посреди комнаты в довольно невыгодной и уязвимой позиции. Единственным моим преимуществом было то, что я не выпустил из руки зажигалку — но это же составляло и главную опасность. Кругом, не только на полу, но и на моей одежде, был бензин, и от малейшей искры мы все имели шанс запылать одним большим факелом.
Чиркнув кремнем, я мог овладеть ситуацией. А мог и взлететь на воздух. На размышления оставалось так мало времени, что это и размышлениями назвать было грешно. Скорее, речь шла об инстинктах. Эти инстинкты сказали мне, что если я немедленно чего-нибудь не предприму, то моя жизнь в любом случае не будет стоить ломаного гроша. Я нажал на клавишу и тонкое жало огня с шипением вырвалось наружу.
Все замерли. Но первым, обнаружив, что немедленное аутодафе откладывается, шевельнулся я. Конечно, мне следовало бы подняться во весь рост, расправить грудь и зычно гаркнуть на эту шайку, сразу дав понять, кто здесь главный. Как в хорошем американском кино. Но вместо этого я смог лишь совсем не по-геройски отползти на локтях и коленках к выходу и только там с трудом поднялся на дрожащие ноги. Впрочем, шайка, похоже, и при таком развитии событий сумела определить, кто хозяин положения: ни один не посмел шелохнуться. Если спросить меня сейчас, что за лица у них были в тот момент, ответить не смогу. Я видел только три пары направленных на меня глаз. Но и этого было достаточно. Начиналось самое интересное.
Много лет назад я поклялся не убивать больше людей и с тех пор сделал из этого правила всего одно исключение. Но они, конечно, этого ведать не могли. А я должен был сделать так, чтоб им и в голову такое прийти не могло. Вытащив приготовленный скотч, я через всю комнату кинул его в руки своему потливому знакомцу, который так и сидел задницей в луже бензина, и грозно прорычал:
— Встать!
Он помедлил всего секунду, но я-то знал, что, когда блефуешь, самое опасное — упустить инициативу. И резко поднес руку с горящим фитилем к залитому бензином полу. Убивать мне никого не приходилось уже давно, но вот так с тем или иным оружием блефовать — случалось. Профессия такая. И каждый раз мысль о том, что будет, если блеф не пройдет, я, как злую собаку, загоняю в дальний угол сознания, подпирая дверь поленом и хорошо понимая всю непрочность этой шаткой конструкции.
Но и на этот раз пронесло. Здоровяк вскочил на ноги с готовностью, свидетельствующей о том, что Станиславский на его месте сказал бы: «Верю!» После чего, развивая успех и недвусмысленно угрожая близостью горящей зажигалки к разлитой по полу жидкости, я отдал ряд простых и понятных приказаний, в результате исполнения которых вся троица очень скоро оказалась крепко замотанной липкой лентой по рукам и ногам.
Первых двух связывал под моим контролем и руководством битюг в защитной куртке, у которого запах пота не смог перешибить даже бензиновый аромат, а уж его я стреножил лично, предварительно вырубив с помощью у него же отобранного баллончика нервно-паралитического газа. Так что, по крайней мере, в этом отношении можно было считать, что мы квиты. Подумав, я на всякий случай дал нюхнуть этой гадости и остальным, не без некоторого, сознаюсь, злорадства успокоив, что, по моим сведениям, эта дрянь надолго не вырубает.
Обшарив после этого их карманы, я выгреб кое-какие документы, удостоверяющие их личности. Судя по бумагам, все трое являлись, так сказать, красными командирами: соответственно майором, капитаном и прапорщиком спецназа внутренних войск. Понятно, ребятки таким образом «халтурят». Что ж, в наше трудное время каждый продает, что имеет... Кроме баллончика личный обыск обнаружил при них также один боевой пистолет «ТТ» с семью патронами, один газовый «браунинг», два выкидных ножа и резиновый шланг, залитый изнутри свинцом, — сильная штука в рукопашной. Вместе со всем этим арсеналом я перебрался обратно к Фиклину и для начала отлепил скотч, закрывающий ему рот. Его немедленно вырвало.
— Гне негем дышать! У геня гаймогит! — завопил он, едва утихли спазмы.
— А геморроя нет? — язвительно поинтересовался я в расчете на отрицательный ответ немедленно заявить: «Сейчас будет!» Я не собирался с ним церемониться и вполне сознательно сразу взял агрессивный тон, но совершенно неожиданно услышал:
— Есдь! Есдь гемогой! Я пожилой чеговег! И очень бог-ной! Я мог умегеть!
— Для цивилизации потеря была бы не слишком велика, — заметил я. — К тому же, еще не все потеряно.
Глаза у него от страха чуть не вывалились из орбит:
— Шго вы игеете в гиду? — жалобно проныл он, а я, отметив, что со мной снова перешли на «вы», безжалостно сообщил:
— То, что у тебя единственный шанс выжить — это оказаться мне полезным. Хоть в чем-нибудь.
Весьма торжественно и грозно заявив это, я сам призадумался: а чем, собственно, этот мешок с дерьмом может мне быть полезен? И пришел к выводу, что, пожалуй, в нынешней ситуации, ничего, кроме, разве что, удовлетворения моего любопытства он мне дать не способен. Ноги после всех недавних упражнений не слишком хорошо держали меня, поэтому я не без удовольствия опустился на стул рядом с распростертым на полу Фиклиным и сказал:
— Давай теперь рассказывай, зачем тебе так нужна эта пленка?
— Моя жена мне изменила... — заныл он.
С удовлетворением отметив, что он, кажется, наконец продышался и перестал гундосить, я устало прервал его:
— Ну, хватит, Отелло, про жену я уже слышал. Очень спать хочется, поэтому быстро кончай эту канитель. Или говори все, как есть, или я сейчас кое-куда звякну, приедут из РУОПа, и будешь рассказывать про жену им. За похищение людей, знаешь ли, прямо отдельная статья в кодексе.
Но то ли моя угроза не возымела надлежащего действия, то ли широкопрофильный брокер еще не вполне оправился от шока, пережитого в связи с неожиданными переменами в своем положении, и к нему не вернулась способность трезво оценивать обстановку, но он, глядя на меня бегающими глазами, опять завел свое:
— Он мой партнер, а она... будучи законной секретаршей... то есть, конечно, супругой... но на зарплате... в курсе всех дел... коммерческая тайна...
Тогда я решил изменить тактику. Взял со стола паяльную лампу, тряхнув ее, определил, что бензин на дне остался, и принялся, уперев неподвижный взгляд в лицо Фиклину, методично накачивать помпу. Это, кажется, подействовало. Глаза у него расширились, перестали бегать и следили теперь за каждым моим движением с нарастающим ужасом.
Но мне, честно говоря, это все вдруг наскучило, следовало констатировать, что ночь почти прошла самым бессмысленным образом. Манипуляции с лампой были, разумеется, таким же блефом, как и обещание вызвать милицию: без крайней необходимости ввязывать в свои дела официальные органы частному сыщику ни к чему. Я и впрямь чувствовал себя разбитым, причем не только в физическом плане, да и кураж, еще несколько минут назад подвигавший меня на немыслимые подвиги, подостыл. К тому же, пораздумав, я пришел к выводу, что все тайны объясняются, как обычно, проще простого: наверняка речь идет об элементарном шантаже. В этом свете пленка действительно может стоить дорогого — во всяком случае, для любителя майских устриц, ради которого мне пришлось ползать по мокрым загаженным крышам. Правда, когда я, чтобы не терять больше времени на наводящие вопросы, прямым текстом поделился с Фиклиным этими соображениями, он только жалобно застонал:
— Какой шантаж? Господь с вами! Я порядочный бизнесмен, и никогда с такими делами...
Вероятно, лицо у меня сделалось достаточно выразительное, потому что он, оглянувшись на стенку в соседнюю комнату, пролепетал смущенно:
— Эти ребятки... Ну, вы же понимаете... У меня с ними договор о защите, так сказать, интересов. Крыша, одним словом... — Брокер умолк, косясь, как лошадь, на паяльную лампу в моих руках.
Крыша крышей, подумал я, а перед тем, как начать у меня выпытывать, где пленка, ты их из комнаты выставил. Похоже, за всем этим и впрямь что-то серьезное. Но, слава Богу, имеющее ко мне отношение только с одной точки зрения: в этой несомненно грязной истории меня использовали втемную. А я этого не люблю. Я люблю быть в курсе.
Устрашающе качнув пару раз помпой, я строго спросил:
— Имя?
— Чье? — с готовностью дернулся он.
— Того, кого ты собираешься шантажировать.
— Не собираюсь я никого шантажировать! — снова заныл он. — Да если б вы этого человека знали, вы бы поняли, что лучше кобру какую-нибудь гремучую шантажировать, чем его! Я про троих точно знаю, которых он заказал, двоих в подъезде расстреляли, одного с машиной взорвали, а на самом-то деле их еще больше! Он сам сидел, уголовник натуральный. Ему душу живую погубить, что мне водички попить, а вы говорите — шантажировать! Я жизнь свою спасать собираюсь! Жизнь!
Я потребовал подробностей, и Фиклин, слегка даже подвывая то ли от страха, то ли от жалости к самому себе, стал рассказывать. Излагал он путано, с какими-то ненужными подробностями, перескакивая с пятого на десятое, вперемежку с соплями и всхлипываниями. Что-то там у него в процессе реализации его широких брокерских интересов вышло с одним из партнеров, какая-то недопоставка каких-то «фольксвагенов» почему-то бразильской сборки, где он, Фиклин, был совершенно не виноват, но наехали, как водится, на крайнего, и у него, у крайнего то есть, начались проблемы, поставили на деньги, включили счетчик. Короче, давняя и, кстати, не слишком периодичная, так, раз в месяц, не чаще, интрижка его жены, той еще лярвы, шлюхи чертовой, слабой на передок дуры с тем самым типом, который хуже кобры, но большой, между прочим, ходок по этому делу, оказалась очень кстати. У него, у ходока, у кобры гремучей, жена восточная женщина, ревнивая до черта, а все его, кобрины успехи, оказывается, через нее, через восточную жену, у нее брат двоюродный — грузинский вор в законе, оттуда все дела и бабки, и крыша, между прочим, а у них уже случались скандалы с супружницей на этой почве, и ему, гремучему, такой компромат был бы сейчас очень не в жилу, а потому пленочка заветная есть — его, крайнего брокера, страховой полис и последняя надежда.
Терпеливо дослушав его излияния, я вздохнул и повторил твердо, добавив в тон угрозы:
— Имя!
— Ну что вам имя, что вам имя? — рыдающим голосом вопросил Фиклин. И вдруг скривив в страшной гримасе рот заорал, почти в истерике забился: — Сами хотите, да? Пленочкой попользоваться? Сами?
Видимо, все-таки нервы оказались у меня последними событиями подорваны. В другой раз подобное дурацкое оскорбление вызвало бы на самый худой конец разве что усмешку. А тут накатившая ненависть к этому червю помутила ни с того ни с сего свет в глазах, зубы сжались, и я, почти не помня себя, с перекошенным лицом замахнулся на брокера тяжелой паяльной лампой.
— Не-ет, — заверещал он, — нет, нет, не бейте, скажу! Блумов его фамилия! Борька Блумов, гад поганый!
По морщинистым фиклинским щекам текли теперь натуральные слезы. Он больше не бился в припадке, он просто плакал по-бабьи и тихо причитал:
— Ну что вам, легче, что ли, от его имени? Легче, что ли?
Я и впрямь мгновенно остыл, вся злость на Фиклина прошла. Ничего ему отвечать в мои планы не входило, но от того, что я при столь необычных обстоятельствах нежданно-негаданно узнал кое-какие небезынтересные подробности о жизни одной из Саввовых внучек Маргариты Блумовой (в девичестве Габуния) и, что еще существеннее, ее супруга автомобильного магната Бориса Блумова, в семейных кругах именуемого Бобсом, мне действительно стало легче. Я уже больше не считал, что ночь прошла совсем даром.
12. Место покойне
Женьку и Котика должны были отпевать в церкви при Крестовском кладбище, на котором потом и похоронить.
Домой я дополз только под утро, вследствие чего проснулся в одиннадцатом часу и следующие минут сорок пытался привести себя в порядок. На похоронах, вполне возможно, предстояло встретиться со многими, так сказать, фигурантами по интересующему меня делу, и хотелось иметь вид по возможности свежий и респектабельный. Но тщетно: даже после всех водных и одеколонных процедур, глянув на себя в зеркало, я пришел к малоутешительному выводу, что свежести во мне не больше, чем в свежем покойнике.
Когда я спустился в контору, Прокопчик как раз заканчивал вставлять новое оконное стекло взамен расколотого, с помощью которого меня вчера, словно последнего баклана, заманили в ловушку. С такой же легкостью вставить себе новую физиономию я не мог и поэтому в ответ на полный сочувствия взгляд помощника постарался компенсировать это обстоятельство победной реляцией:
— Зато теперь из трех основных подозреваемых у меня, кажется, определился главный!
— А это что? — Тима кивнул подбородком на начинающую уже покрываться корочкой ссадину над левым глазом. — Г-головокрушение от успехов?
Достав из сейфа сакраментальную кассету, я передал ее Прокопчику, поручив сделать с нее копию, после чего пойти в банк, арендовать ячейку депозитария и положить оригинал туда. В буквальном смысле, от греха подальше.
Подумав, я отдал ему и не менее сакраментальный магнитный ключ от арефьевских сокровищ. С той же целью.
Потом я еще некоторое время посидел за столом, бессмысленно перекладывая с места на место разные бумажки, вполне отдавая себе отчет, что просто оттягиваю момент, когда все равно придется встать и отправиться для участия во всех этих тягостных похоронных процедурах. Странно, но мне, повидавшему на своем веку столько мертвых людей, в том числе лишенных жизни самыми кровавыми и зверскими способами, всегда неуютно бывает рядом с покойником в гробу, особенно если речь идет о ком-то из родных или друзей. Зализанный, напомаженный, он кажется мне подложенной куклой, лишь отдаленно похожей на некогда близкого человека.
Но делать нечего, часы показывали половину двенадцатого, пора было двигаться. Однако уже на улице обстоятельства снова чуть не отвернули меня в сторону.
Гараж, где обычно ночует мой «опель-кадет», расположен в ряду таких же, как он, облезлых и ржавых железных коробок на задах трансформаторной будки, между мусорным контейнером и бойлерной — местечке глухом и безлюдном даже днем. Тем более удивительным было увидеть там живую душу, не имеющую к гаражам никакого отношения: навстречу мне, прижимаясь к задней стенке будки, ковылял Вениамин Козелкин из сотой квартиры.
Походка у него была, словно у помойного кота, осторожно пробирающегося по враждебному двору. А когда он приблизился, впечатление лишь усилилось: вид у Вини оказался совсем неважный, какой-то ободранный и даже истерзанный. Больше всего он походил сейчас на только что выпущенного из кутузки бомжа. Рожа у него представляла собой один большой синяк, перламутрово переливающийся всеми цветами от лилового до иссиня-черного. Один глаз совсем заплыл, а другой, багровый от множества мелких лопнувших сосудиков, испуганным кроликом выглядывал в щелку между опухшей бровью и вздувшейся, словно при флюсе, щекой.
При моем приближении жалкая косая ухмылка перекосила ему разбитые губы, и я увидел, что по крайней мере двух или трех передних зубов во рту у Вини не хватает. Следовало, видимо, констатировать, что финансовые проблемы Козелкина перешли в качественно иную стадию: кто-то из кредиторов от угроз перешел к их реализации. Так что возникшее было желание во исполнение просьбы Гарахова немедленно наехать на нашего доморощенного пирамидостроителя слегка поутихло, начав сменяться чувством отчасти жалостным, отчасти гадливым.
Но оказалось, на него и наезжать не было особой необходимости. Когда между нами осталось не больше трех-четырех шагов, он остановился и, тяжело привалившись к кирпичной стенке, заныл:
— Все знаю, все знаю, Гарахов предупредил... Квартиру продал уже, купил другую... Тут, рядом, на Масловке... однушку... Шитов переулок, дом пять, квартира шестнадцать... завтра выезжаю, сейчас иду в домоуправление выписываться. Получу окончательно деньги и сразу... и сразу...
Его, похоже, заело, как треснувшую пластинку. Что «сразу» он так и не досказал, только махнул рукой. Вообще-то мой небедный практический опыт подсказывал, что если я хочу выполнить гараховское поручение, надо, не теряя времени, брать Виню за шкирку, волочить его, пока теплый, к нему в квартиру, из которой он завтра съедет — ищи потом ветра в поле, и трясти, как грушу, до тех пор, покуда не отдаст несчастным бабулькам несчастные восемь сотен баксов. В конце концов, можно ведь не ехать в церковь к отпеванию, а на кладбище я все равно успею. Сделав грозное лицо, я уже открыл рот, и тут... Козелкинская физиономия перекривилась, поехала куда-то в разные стороны, а багровый подбитый глаз затуманился натуральной слезой. Короче, мне вдруг стало просто по-человечески жалко этого идиота.
Ладно, решил я, лежачего не бьют, никуда он не денется, найду его в крайнем случае и на Масловке, пусть живет, ему ж даже врезать сейчас больше некуда, не человек, а сплошная ссадина. Поэтому, пообещав ему на прощанье что-то суровым голосом, я отпустил Виню идти дальше своей дорогой, а сам пошел своей.
В тот момент я и представить себе не мог, какую ошибку совершаю. Скольких крайне неприятных событий удалось бы избежать, не поддайся я столь не вовремя накатившему приступу гуманизма. Впрочем, вполне возможно, и не удалось бы. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но одно теперь уже можно сказать наверняка: свой шанс сильно спрямить ту извилистую и полную разных мелких и крупных неприятностей дорогу, на которую мне только-только предстояло ступить, я упустил.
К церкви я подъехал уже в первом часу, но, как выяснилось, не опоздал: вместо траурной процедуры в храме Божьем разворачивался скандал.
— Не положено! — скрипучим казенным голосом возглашал довольно молодой на вид батюшка, аккуратным овальным личиком и круглыми очечками в тонкой металлической оправе смахивающий на Джона Леннона. Вокруг него с растерянным выражением стояли несколько человек, среди которых я узнал Льва Сергеевича Пирумова, а также еще кое-какие знакомые лица, главным образом, из Стеклянного дома.
— Не положено, — канцелярской крысой скрипел на одной ноте батюшка, помахивая при этом в воздухе какой-то бумажкой. И вдруг без всякого интонационного перехода продолжал велеречиво-наставительной скороговоркой: — Ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя, а живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем, потому что живем или умираем, мы всегда Господни, принадлежим Господу.
Единым духом закончив цитату и осенив себя крестным знамением, пастырь точно таким же удивительнейшим образом, практически не переводя дыхания, вернулся на грешную канцелярскую землю:
— В справке что указано? В справке указано: отравление газом. А самоубийц отпевать не имею права. Надо мной тоже руководство есть. Утопление в воде, выпадение из окна, отравление газом...
Стоящие перед ним люди что-то пытались объяснить, что — я не мог расслышать, их голоса уже на расстоянии трех шагов терялись, уплывая под сумеречные своды церкви, в приземье оставался только резкий фальцет иерея:
— Не положено, не имею права, не положено!
Не везет Котику. При жизни, помнится, Женьке редко удавалось затащить мужа в храм. А теперь вот после смерти выставляют его отсюда вон. Я вгляделся в холодную физиономию священника: унтер Пришибеев в рясе. И после некоторого колебания (не мое это дело, ей-Богу!) протиснулся вперед, придал своему лицу максимум почтительности, на какой только был способен, дотронулся легонько до черного рукава и проговорил, для вящей убедительности понизив голос:
— Это не самоубийство, святой отец. Его убили.
Все вокруг мгновенно умолкли, я почувствовал на себе множество глаз разом. Сверкнув в полумраке, круглые окуляры тоже уставились на меня.
— Вы кто такой? Откуда знаете?
Я вздохнул. Сказавши "а", надо говорить «бэ». Готовясь к тому, что из тебя вытащат весь алфавит. Вместе с жилами.
— Можете мне поверить. Я расследую это дело.
— Вот как? — святой отец растерянно оглянулся по сторонам, словно в поисках поддержки, и стало особенно хорошо видно, как он молод, совсем еще мальчишка. Не знаю, о каком руководстве над собой он говорил — в определенном смысле его начальства на стенах и даже в росписях по потолку было предостаточно. Оно-то, видимо, и дало ему свое благословение.
— Хорошо, — согласился он, но добавил с достоинством: — Надеюсь, вы не взяли на себя грех солгать в храме.
Мне тоже хотелось на это надеяться.
Началась лития, и я все простил этому юному церковному бюрократу. Едва он запел «Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый», думаю, не у одного меня перевернулось сердце. У батюшки оказался потрясающий, почти оперный баритон, служил он истово и одновременно артистично, совершенно чудесным образом при этом преображаясь.
В не слишком густой толпе, окружившей лавки с двумя гробами, я оказался поблизости от Пирумова. И когда священник поразительно ясным и высоким, берущим за душу голосом затянул «покой души усопших ра-аб твоих в месте све-етле, в месте зла-ачне, в месте поко-о-ойне...», с некоторым удивлением отметил, что на глазах адвоката заблестели слезы. Впрочем, утирая их украдкой кончиком платка, Лев Сергеевич перехватил, видимо, мой взгляд, усмехнулся краем губ и пробормотал:
— Стар стал, сантименты замучали... Мне ведь тоже скоро пора... туда... в место покойне... — И уже суше, по-деловому, поинтересовался: — Про Малея-то слыхали?
Я кивнул. Рассказывать о том, что не только слыхал, но и видал, не хотелось.
— Вон его сестрица Марго, — показал Пирумов глазами на стоящую неподалеку высокую дородную даму в крошечном и от этого при данных обстоятельствах неуместно кокетливом черном шифоновом платочке поверх затейливо уложенных крашеных в цвет спелой ржи волос. И вздохнул: — Если бы Нюма был религиозен, завтра пришлось бы идти в синагогу.
— А кто это с ней рядом, муж? — спросил я тихонько.
Пирумов кивнул. В Бобсе я не то, чтобы узнал, а скорее угадал того мужчину, в процессе слежки за которым черт занес меня тогда на мокрую загаженную крышу. Сейчас, правда, мне была видна главным образом его грузная фигура с агрессивно рвущимся из-под пиджачной пуговицы брюшком. Больше в церковном полумраке, усиленном клубами ладана, рассмотреть было затруднительно.
Но я решил, что глупо не ухватиться за представившуюся возможность использовать Льва Сергеевича в качестве гида для хотя бы абрисного знакомства с потенциальными наследниками арефьевских богатств. Собственно, интересовали меня двое: шоумен Эльпин и банкир Забусов. Первый присутствовал на панихиде не только с супругой, но и с сыночком. Сам глава семьи являл собой низенького, но кряжистого ширококостного мужчину с короткой бородкой, рядом с которым худенькая жена казалась девочкой-подростком. Поблизости переминался с ноги на ногу его недоросль, ростом явно пошедший в папашу, но при этом субтильного сложения.
Вторая пара также оказалась достаточно приметной: оба были долговязые, заметно возвышались над толпой, так что я не сомневался, что в дальнейшем сумею их идентифицировать, особенно самого господина Забусова, обширная плешь которого явственно поблескивала в пламени поминальных свечек. Ничьих лиц, разумеется, я разглядеть не смог, но надеялся сделать это уже на кладбище, при дневном свете.
Однако сперва у меня здесь имелось еще одно совсем личного свойства дело, которое я рассчитывал успеть сделать. Тенор батюшки уже выводил заключительное «во блаженном успении, вечный покой», клир грянул «вечную память», и я стал потихоньку пробираться к выходу. Мне нужно было навестить похороненного здесь же деда.
Когда я вышел на ступени церкви, едва-едва перевалившее зенит полуденное светило прицельно лупило в темечко, одновременно брызжа в глаза осколками множества маленьких солнц, которые дробились и сверкали на полированных крышах припаркованных у входа на кладбище автомобилей.
Подъезжая сюда, я торопился, но теперь мог без помех рассмотреть интересующие меня объекты и убедиться, что разведка доложила точно: здесь наличествовали и красавец шестисотый «мерседес» цвета морской волны, и черная, как антрацит, мощная приземистая семьсот пятидесятая BMW, и пара тяжелых «джипов» — один тоже из семейства «мерседесов», темно-шоколадный, похожий на катафалк, другой белый лакированный франт «гранд-черокки». Чуть поодаль, словно демонстрируя свою особую родовитость и аристократизм, замер серой стальной тенью угловатый «роллс-ройс». Во всех машинах окна были затемненные, но в данный момент, по причине, надо полагать, погоды многие из них частично приспустились, предоставив внимательному наблюдателю возможность заметить в глубине салонов не только водителей, но и других не слишком выпячивающих свое присутствие пассажиров. Как правило, крепких широкоплечих молодых людей, всегда чем-то похожих друг на друга — выражением глаз, что ли? Оставалось только очередной раз тяжко вздохнуть по поводу моих более чем туманных перспектив, касающихся возможности проникнуть в тайны столь хорошо охраняемых членов общества.
У деда я особенно не задержался. Визит был внеплановым, поэтому, стряхнув для порядка ладонью прошлогодние листья с цоколя и пристроив к подножию памятника четыре купленные у цветочницы перед входом гвоздики, я просто присел на лавочку, откинулся назад и бездумно запрокинул голову. Сквозь толщу густой спутанной кроны кряжистых лип и столетних дубов крошечными осколками разбитого зеркала пробивалась небесная синь, легкий ветерок, как засыпающий ребенок, еле-еле бормотал что-то, увязнув в листве. Городские звуки сюда почти не долетали, кругом были тишина и покой. Для мертвых вечный, для живых хотя бы временный.
Место светле, место покойне.
Неожиданно явилась мысль, что ведь, случись чего, хоронить меня будут именно здесь, больше негде. Вот прямо тут, в двух шагах от скамеечки, на которой я сейчас сижу. Но глубже осмыслить и прочувствовать это философическое открытие я не сумел. Потому что сквозь заросли бузины и орешника, не слишком плотной стеной отделяющие мою скамеечку от остального мира, увидел, как траурная процессия, пройдя кладбищенские ворота, двигается в противоположную от меня сторону.
Поднявшись, я самонадеянно прикинул, что, чем возвращаться ко входу и потом догонять, лучше попытаться спрямить дорогу через кладбище. И, разумеется, заблудился. Это место последнего успокоения в течение двух последних столетий застраивалось, видимо, не по плану, а как Бог клал на душу, и дорожки здесь крутились и вертелись в разные стороны под самыми неожиданными углами, то и дело заканчиваясь тупиками, так что минут через пять я в полной мере начал ощущать себя запущенной в лабиринт лабораторной крысой.
Впрочем, когда меня уже начало охватывать отчаяние, и всерьез подумывалось, не ломануть ли напрямик через ограды и заросли кустарника, я вышел наконец на нужную дорожку и оказался у цели, правда, в последний момент.
Погребальная процедура близилась к завершению. На крышки гробов с глухим стуком летели символические комья земли, и наступал тот тягостный этап, когда все слова сказаны, последние долги отданы, а за дело берутся красномордые могильщики. Всем прочим делать больше нечего, но и уходить пока не положено. Остается молча стоять, наблюдая за спорой работой отполированных частым употреблением лопат.
Я тоже, как и все, стоял молча, наблюдая, однако, не только и даже не столько за тем, как растут холмики рыжей глины на могилах двух моих друзей. Возможно, это говорит о моей душевной тупости, но мысли мои были устремлены уже на совсем другие объекты. Стоя во втором ряду за спинами прощающихся, я исподволь всматривался в тех, кто мог оказаться убийцей.
У Арефьевых здесь было целое свое маленькое кладбище. Сперва слева направо и как бы из глубины веков шли похожие на маленькие часовенки резные черномраморные монументы с потемневшими выбитыми надписями. «Потомственный почетный гражданинъ Кондрать Саввичъ Арефьев, скончался генваря 17 числа 1876 года, жития его было 69 летъ». «Московский купец Петръ Саввичъ Арефьев, 1842-1907, память его 18 шня и Марiя Прохоровна Арефьева, в девичестве Оконишникова, ск. в 1911 году, память ея 20 шля». С приближением к нашей эпохе надгробья мельчали, имен на них становилось с каждым разом больше, и заканчивалась вся эта история явно сооруженной с дальновидным прицелом на будущее широкой шершавой гранитной плитой унылого серого цвета, где фамилии и даты жизни уже почти наезжали друг на друга в таком количестве, будто самолет упал. А дальше рядком помешались живые.
Широкобедрая и большегрудая мадам Блумова, она же Марго, со скорбно поджатыми губами таращила оловянные глаза на крупной лошадиной физиономии. Ее Бобс стоял рядом, с трудом сцепив пальцы на неохватном животе и опустив очи долу, предоставив окружающим любоваться своей макушкой с редкими зализанными волосенками. Впрочем, насколько можно было разглядеть, лицо у него было не намного более выразительным, смазанное и тоже как будто зализанное.
Рядом с ними, обессиленно прислонясь к стволу березы, с опухшими заплаканными глазами примостилась Верка. На ней была черная шляпка с короткой вуалькой и черный же узкий обтягивающий костюм из юбки с жакетом, позволивший мне (последний раз я видел ее в каком-то несусветном хламидоподобном свитере) сделать вывод, что стройности фигуры она не растеряла.
Следом помещалось семейство Забусовых в полном составе: сухопарый муж, у которого отмеченная мною еще во время панихиды обширная лысина органически переходила в безбровое нездорово-желтое лицо с практически лишенными ресниц веками, образуя как бы одну сплошную плешь, костлявая жена, раскрашенная, точно вождь апачей, и два высоченных телохранителя, или, как их по-новомодному называют, бодигарда, в солнцезащитных очках.
Мне пришлось переступить на несколько шагов в сторону, чтобы ствол толстенного, как колонна Большого театра, вяза перестал закрывать обзор, после чего моим глазам предстал наконец и рекламно-телевизионный магнат Эльпин, который стоял, опираясь на выставленную вперед элегантную полированную трость черного дерева с серебряным набалдашником. При свете мне удалось рассмотреть, что, кроме воинственно оттопыренной бородки, у него есть еще и аккуратно перетянутая резинкой косичка на затылке, а его супруга, женщина крошечная, почти миниатюрная, увешана таким количеством золотых украшений с бриллиантами, что непонятно, как бедняжка выдерживает эту тяжесть. За спинами семейства шоумена медленным локатором поворачивал туда-сюда голову тяжелый и видно, что под пиджаком бугристый, как придорожный валун, собственный телохранитель. А еще дальше, на третьем плане, терся альпийский щенячьего обличья сынок, в котором я, к своему немалому изумлению, узнал давешнего Рому из фоторепортажа Прокопчика, того самого прыщавого мальчика с белой прядью на лбу, что в нашем дворе, согласно Тиминому докладу, подвизается на ниве распространения наркотиков.
Это последнее маленькое открытие, безусловно, представляло интерес, оставалось только придумать, можно ли его использовать в том основном деле, которым я занимаюсь, и если можно, то как именно. В остальном же приходилось констатировать, что встреча лицом к лицу с тремя, еще покойным Котиком определенными в качестве подозреваемых господами, никакими новыми достижениями меня не обогатила. Сколько я в эти лица ни всматривался, явных следов каиновой печати на них не обнаруживалось. Все они с приличествующим обстоятельствам скорбно-постным выражением терпеливо дожидались конца процедуры, который неумолимо приближался.
Могильщики принялись рубить длинные стебли пунцовых гвоздик, белоснежных хризантем и нежно-зеленых калл. От их отточенных, как бритва, сверкающих на солнце лопат разлетались, купаясь в окружающей листве, веселые яркие зайчики. Один из таких зайчиков заставил меня прищурить глаз, а когда я снова открыл его, то увидел, что игривый солнечный лучик переместился уже на метр левее, приплясывая по стволу исполинского вяза.
И неожиданно странное, еще неосознанное, но очень острое тревожное чувство посетило меня. Я не мог понять его причины, хмурился, стараясь сообразить, что же так насторожило меня, как вдруг, похолодев, догадался. Это случилось, когда могильщики отложили лопаты и принялись укладывать цветы на свежие могилы. А странный, розоватого оттенка зайчик остался.
К тому моменту, как я все понял, он сместился еще на полметра и коснулся края серой надгробной плиты, медленно, но неумолимо двигаясь в ту сторону, где компактной группой толпились Блумовы, Верка, Забусовы и Эльпины. Последнее, что я увидел перед тем, как прыгнул вперед, были приоткрытый в напряжении рот и перекошенное лицо одного из банкирских охранников.
Пожалуй, он среагировал даже раньше меня — это и стоило ему жизни.
Я рванулся в общем-то на голом инстинкте, широко, словно при игре в горелки, расставив руки и стремясь свалить с ног ближайшего одного, а лучше двух или трех человек, телохранитель же действовал, как учили, как положено по инструкции. Я летел, краем глаза фиксируя его движения: вот он сует ладонь под пиджак, разворачивается правым плечом навстречу опасности и делает шаг вперед, пытаясь загородить охраняемый объект. Все дальнейшее происходило не последовательно, а как бы в одно и то же мгновение.
Ближе всех ко мне стояла мадам Блумова, и, возможно, при других обстоятельствах было бы забавно наблюдать, как эта здоровенная тетя, так и не успев ничего понять, валится с ног все с тем же плотно приклеенным скорбно-надутым выражением на лице. Бодигард выхватил из-под мышки пистолет, но поднять его и прицелиться уже не смог: пуля попала ему в переносицу, развалив темные очки, половинки которых разлетелись в разные стороны.
Его самого откинуло назад, и он свалил с ног сразу двоих: банкиршу и эльпинского сыночка. Одновременно с этим тяжеловесная Марго, падая, спиной ударила мужа по ногам, и Бобс в свою очередь рухнул, сперва боднув головой в бок Верку, а затем плечом толкнув под руку Эльпина, который тоже не устоял и, зацепив хрупкую жену рукой с тростью, врезался головой в живот долговязому Забусову. Люди летели наземь, как костяшки домино, и поэтому следующая пуля ушла «в молоко» — только рванули по сторонам щепки от вяза.
В это же время эльпинский валунообразный охранник, припав на одно колено, начал с грохотом палить куда-то в сторону кладбищенской стены, но недолго. Третья пуля угодила ему в плечо, он глухо ойкнул, выронил оружие и завертелся на пятке, судорожно пытаясь зажать фонтаном брызжущую кровь. А я, лежа животом на свежем могильном холмике, прямо перед собой увидел выпущенный им «макаров», схватил его, перекатился несколько раз по земле и, только оказавшись под прикрытием одного из мраморных надгробий, вскочил на ноги и рванул что было мочи.
Это был бег с барьерами в полном смысле слова.
Я перескакивал через чугунные ограды, спотыкался о вросшие в землю могильные плиты, продирался сквозь заросли кустарника — и все это не снижая взятого темпа. И не выпуская зажатого в правой руке «Макарова». И очень надеясь не потерять выбранного направления — к стене, за которой, очевидно, засел снайпер, но не лобовой атакой, а в обход, забирая правее, рассчитывая обойти его с фланга.
Впрочем, уже через пару-тройку секунд я получил весьма убедительное подтверждение, что двигаюсь верным путем: пули принялись свистеть вокруг моей головы. Не вызывало сомнений, что дело приходится иметь с профессионалом. Для него не остались незамеченными предпринятые мною маневры, он правильно оценил мои намерения и перенес огонь на меня. Но в охоте на несущегося по кустам зайца лазерный прицел уже, скорее, помеха, чем преимущество. Я же пригибал голову, даже, кажется, прижимал уши, ныряя среди деревьев, крестов и надгробий. И в конце концов добился своего: миновал зону обстрела, выскочил к невысокой кладбищенской ограде и, тяжело дыша, привалился к ней.
Наступил самый неприятный момент.
Я был по эту сторону бетонного забора, он — по ту. Если я попробую перебраться, то окажусь у него на прицеле. Если потеряю время, он уйдет. Почувствовав, что колебания чересчур затягиваются, я выбрал паллиативный вариант: с «Макаровым» наизготовку, прижимаясь спиной к ограде, медленно двинулся вдоль нее к той точке, откуда стрелял снайпер. И шагов через десять был за осторожность вознагражден, у самой земли обнаружив в обветшавшей бетонной стене внушительный пролом с торчащими кусками ржавой арматуры.
В принципе, дилемма сохранялась: выставив наружу голову, можно остаться без головы, не выставив — остаться с носом. Я снова попытался выбрать среднеарифметическое и для начала высунул в дырку нос. Ничего не произошло, прежде всего потому, что с противоположной стороны кладбищенская ограда вся оказалась заросшей бурьяном. Осмелев, я продвинулся вперед, руками аккуратно раздвинул заросли, и теперь мне предстала облезлая пустошь, на противоположном краю которой возвышались ряды то ли складов, то ли гаражей — с позиции почти на уровне земли разглядеть точней было трудно.
Осторожно, боясь спугнуть противника, я повернул голову влево и обнаружил, что спугивать больше некого: буквально в паре метров от меня на пыльной утоптанной земле валялась снайперская винтовка «грендел» калибра 7,62 с глушителем и лазерным прицелом. Рядом у кладбищенской ограды возвышался рукотворный помост, сооруженный из доски, положенной на два больших деревянных ящика. В настоящее время уже пустой, разумеется. Пока я с той стороны забора терзался страхами и сомнениями, стрелок не колеблясь принял решение ретироваться и теперь находился под защитой каменных строений на противоположном краю открытого всем ветрам (и пулям) пространства. Вновь предоставив мне выбор: подняться во весь рост и пойти через пустырь в психическую атаку либо признать наконец свое поражение. Но на сей раз, как ни было обидно и досадно, я сделал его без всяких колебаний: признал поражение.
И только много позже, уже в спокойной обстановке пытаясь разложить происшедшее по полочкам, я обнаружил, что мне никак не удается отделаться от еще одной, прямо скажем, не слишком гуманистической, но от этого не менее досадливой мыслишки.
Если бы киллер не промазал, у меня было бы одним подозреваемым меньше.
13. Бенсон и Хеджес
В окошко мне было видно, как к дверям моей конторы подкатил для начала шестисотый «мерседес» цвета морской волны, а вслед за ним ослепительно белый «джип» «гранд-черокки». Из «мерседеса» однако сразу никто не вышел, зато в «джипе» распахнулись все четыре дверцы и оттуда, как горох из мешка, посыпались бравые ребятки в одинаковых темных очках, с одинаковыми черными рациями в руках.
— Отряд н-не заметил п-потери бойца, — прокомментировал это явление выглянувший из коридора Прокопчик.
Один боди-гард скорым шагом заскочил в подъезд, а остальные мгновенно окружили кольцом обе машины, повернулись к ним спиной и взяли под наблюдение каждый угол нашего двора. После чего отворилась передняя пассажирская дверь «мерседеса», из которой вылез еще один телохранитель, тоже в очках, но по уверенным медлительным движениям видать, что главный, к тому же на этот раз уже не с рацией, а с зонтиком. Задрав голову, он внимательно обвел взглядом окна и крыши окружающих домов, глянул зачем-то на небо и, хотя небосвод был абсолютно безоблачным, тем не менее зонтик открыл.
Только после всего этого откинулась наконец задняя дверь «мерса» и оттуда на свет Божий появилась лысина Григория Николаевича Забусова. Четыре или пять шагов до нашего парадного она проделала, прикрываемая наклоненным в сторону потенциальной опасности зонтиком, который должен был помешать снайперу прицелиться. Не знаю, прятался ли где-нибудь вокруг убийца, но банкиру этот путь удалось преодолеть целым и невредимым, и в мой офис он зашел уже один, без всякой охраны. Что могло свидельствовать как о высокой степени доверия ко мне, так и о низкой по отношению к собственным топтунам, которых, видимо, совершенно не собирались посвящать в историю с наследством.
Когда Забусов позвонил по телефону и довольно безапелляционным тоном сообщил, что непременно желает встретиться со мной через тридцать минут, первым порывом было немедленно поставить его на место. Намекнуть на неотложные дела и назначить встречу в другое время. Но я сдержался.
Все-таки мы с ним вместе только что побывали под пулями, такими вещами легко не бросаются. Если, конечно, не он сам эти пули организовал.
Прокопчик открыл банкиру дверь и проводил его ко мне в кабинет. Сломавшись сразу в нескольких местах, как складной метр, тот опустился в кресло напротив моего стола и стал осматриваться по сторонам. Вероятно, осмотр не привел его в большой восторг, спартанская обстановка моего офиса действительно свидетельствовала о том, что дела у нас идут не шатко, не валко. Но на его откровенно оценивающий взгляд я ответил взглядом твердым и, надеюсь, гордым. После чего поинтересовался:
— Нуждаетесь в услугах частного детектива?
Его лысая физиономия осветилась подобием улыбки.
— Почему бы и нет? Я держу целую свору бездельников, называющих себя службой безопасности, но, насколько я мог судить сегодня утром, грамотно себя повели именно вы.
Слушать комплименты приятно, но справедливость прежде всего. Поэтому я сказал:
— Один из ваших сотрудников тоже показал профессионализм...
Забусов сморщился, его болезненно-желтое безволосое лицо, как пустыня барханами, покрылось глубокими морщинами.
— Профессионализм ему бы удалось показать, оставшись в живых, — недовольно пробормотал он. — А мертвые квалификации не имеют. У них у всех одна профессия — мертвец. — Видимо, фраза показалась ему забавной, потому что он, хихикнув, повторил: — Профессиональный мертвец.
— Однако тут же, спохватившись, посерьезнел и сообщил:
— Но мы сейчас толкуем не о нем, а о вас.
Банкир выжидательно замолчал, рассчитывая, быть может, на мою реакцию, однако ничего не дождался и продолжил:
— Давеча в церкви вы сказали, что расследуете смерть Кости Шурпина...
Здесь возразить было нечего, и я кивнул.
— Ну и какие результаты?
— Обнадеживающие, — сообщил я ему.
— Не хотите говорить, — констатировав это, он откинулся на спинку кресла, словно располагаясь для долгой беседы. — Тогда я сам скажу. Перед тем, как идти сюда, я был у Пирумова, и он мне все рассказал. И про то, как к вам попал ключ, и про то, что вы с самого начала не верили в самоубийство. Ну а теперь, после Малея... И этой стрельбы на кладбище... Только дураку может быть не ясно, что происходит. Вы уже знаете, кто убийца?
Сказано было полуутвердительно и весьма требовательно, как будто он интересовался у своего бухгалтера насчет квартального баланса. Я разозлился и ответил:
— Даже если б знал, вам не сказал.
Он снова разулыбался, сунул руку во внутренний карман пиджака, извлек оттуда толстую пачку долларов и, помахивая ею в воздухе, заговорщически понизил голос:
— А вы мне нравитесь. Считайте, что я вас нанял для расследования этого дела. Здесь десять тысяч. Хватит в качестве аванса?
Опять десять тысяч на аванс! Заколдованная сумма.
— Во-первых, у меня уже есть клиент, для которого я расследую это дело, — возразил я с достоинством. — Во-вторых...
— Во-вторых, не врите! — перебил он меня. — Ваш клиент умер, поэтому выражение «есть клиент» сюда не подходит. «Был клиент» — так вернее. Или вы хотите меня уверить, что отчитываетесь перед ним с помощью столоверчения?
Забусов снова захихикал над собственной шуткой, после чего продолжил уже без тени юмора:
— Я заказчик небедный, следовательно, хороший. К тому же, в активе имеется то преимущество, что я живой. Хотя сегодня кое-кто и хотел убить меня либо кого-то из членов моей семьи. Сразу скажу, чтобы не было вопросов: да, я в состоянии нанять не такого, вроде вас, кустаря-одиночку, а получить в свое распоряжение любое, самое мощное детективное агентство. Да, собственно, и агентства не надо — достаточно щелкнуть пальцами, и вся московская милиция будет на меня работать. Надеюсь, это вы понимаете?
В ответ я умудрился кивнуть, одновременно пожав плечами, что можно было истолковать в любом смысле, нужное подчеркнуть: да, понимаю; понимаю, но сомневаюсь; сомневаюсь, что понимаю; от моего понимания, равно как и от моего сомнения, ровным счетом ничего не зависит.
— Но я решил прийти к вам... — в голосе его появились успокаивающие, убаюкивающие нотки. — Потому что дело весьма деликатное, огласка здесь была бы излишней... Даже вредной! А вы все равно уже в курсе...
Казалось, его плешивая физиономия то наливается изнутри неярким огнем, то угасает, как желтая предупреждающая мигалка светофора на пустынном ночном перекрестке. На пустых перекрестках я привык не осторожничать. И ударил по газам.
— Так вы за что мне предлагаете десять штук баксов: за поиск убийцы или за то, чтобы я молчал?