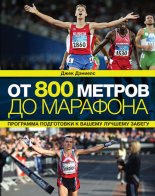Голая обезьяна (сборник) Моррис Десмонд

Глава третья
Выращивание потомства
У голой обезьяны родительское бремя тяжелее, чем у любого другого животного. Если кто и может состязаться с нами в этом отношении, то в категориях интенсивности, но только не экстенсивности. Прежде чем оценить значение этой тенденции, мы должны изучить основные факты.
После того как самка оплодотворена и в ее чреве начал расти зародыш, она претерпевает ряд изменений. Месячные прекращаются. По утрам она испытывает тошноту. Кровяное давление у нее понижается. Она может стать несколько анемичной. Груди у нее со временем увеличиваются и становятся мягкими. Усиливается аппетит. Как правило, она становится более спокойной.
По окончании срока беременности, продолжающейся приблизительно 266 дней, матка у самки начинает мощно и ритмично сокращаться. Околоплодная оболочка рвется, и у роженицы отходят воды. Последующие энергичные сокращения выталкивают плод из матки, затем из влагалища на белый свет. Посредством повторных сокращений отторгается и выбрасывается наружу плацента. Затем отделяется пуповина, соединяющая младенца с плацентой. У других приматов эту операцию осуществляет мать, перекусывающая ее. Несомненно, этот метод применяли и наши предки, но в настоящее время пуповина аккуратно перевязывается и перерезается ножницами. Обрезок пуповины, все еще соединенный с животом младенца, высыхает и через несколько дней после рождения отваливается.
В настоящее время общепринято, что роженице помогают другие взрослые. Очевидно, это очень древняя традиция. Прямохождение связано с испытаниями, которые выпадают на долю женщины. Платой за этот шаг вперед явились трудные роды, продолжающиеся несколько часов. Похоже, помощь других особей была необходима самке еще в те времена, когда обезьяна — обитатель лесных зарослей превращалась в обезьяну-охотника. К счастью, кооперативность вида усиливалась вместе с его развитием, так что причина возникновения проблемы могла стать и ее разрешением. Обычно шимпанзе-мать не только перекусывает пуповину, но и пожирает полностью или частично плаценту, вылизывает околоплодную жидкость, моет и вытирает новорожденного детеныша и в целях защиты прижимает его к себе. Что касается нашего вида, то у нас измученная роженица рассчитывает на то, что все эти обязанности (или нынешние их аналоги) выполнят те, кто ее окружает.
После родов может пройти день-два, прежде чем у матери появится молоко. Как только это произойдет, она может кормить младенца грудью до двух лет. Однако период грудного вскармливания короче; в настоящее время он сокращается до шести-девяти месяцев. На этот период менструации, как правило, прекращаются, возобновляясь лишь тогда, когда мать перестает кормить ребенка своим молоком и отнимает его от груди. Если детей отнимают от груди слишком рано и кормят их из рожка, то такой задержки, естественно, не происходит, и вскоре женщина может возобновить деторождение. Если же она следует первобытным правилам и кормит ребенка грудью все два года, то она может производить потомство лишь раз в три года. (Иногда грудное кормление преднамеренно продолжается, являясь методом контрацепции.) Поскольку репродуктивный период у женщины приблизительно тридцать лет, то за этот срок она может родить десятерых детей. При искусственном кормлении или резком сокращении периода кормления грудью цифра эта может теоретически вырасти до тридцати.
В отличие от других приматов, у женщин кормление грудью представляет собой проблему. Младенец настолько беспомощен, что матери приходится принимать более активное участие в этом процессе, держа ребенка у груди и направляя его действия. Некоторым матерям с трудом удается приучить своих чад сосать грудь эффективно. Проблема заключается в том, что сосок не слишком далеко входит в рот младенцу. Его губки не могут обхватить сосок, поэтому его следует засунуть глубже, чтобы тот соприкасался с нёбом и верхней поверхностью языка ребенка. Лишь это заставляет его активно работать челюстями, языком и щеками и энергично сосать грудь. Область груди сразу за сосками должна быть мягкой и податливой. Именно степень податливости определяет глубину «захвата» груди младенцем. Очень важно, чтобы сосунок научился как следует брать грудь в первые четыре-пять дней после рождения. Тогда кормление грудью окажется успешным. Если же в течение первой недели он будет сталкиваться с трудностями, то никогда не научится как следует питаться материнским молоком. В таком случае он предпочтет кормление из рожка.
Еще одна проблема состоит в том, что некоторые сосунки как бы сопротивляются кормлению. Зачастую у матери создается впечатление, что младенец не желает брать грудь. В действительности же он пытается делать это, но безуспешно, поскольку задыхается. При неудачном положении головки младенца на материнской груди он прижимается к ней носиком, а так как рот у него полон молока, он не может дышать. Он начинает «воевать», ловя ртом воздух. У молодой матери возникает гораздо больше проблем, но я выбрал две, потому что они, на мой взгляд, подтверждают гипотезу, согласно которой женская грудь является в большей степени устройством для сексуальной сигнализации, чем своего рода доильным аппаратом. Обе перечисленные проблемы вызываются твердостью и округлостью грудей. Стоит лишь взглянуть на соску детского рожка, чтобы понять, какая форма наилучшим образом устраивает ребенка. Соска гораздо длиннее и не переходит в большое полушарие, которое создает столько трудностей рту и носу младенца. По своему виду рожок гораздо больше напоминает форму груди самки шимпанзе. Груди у нее немного разбухают, но даже в период полной лактации они, по сравнению с женскими, плоские. Зато соски у шимпанзе гораздо длиннее, так что ее детенышу не составляет особого труда научиться брать материнскую грудь. Поскольку на женщине лежит тяжкое бремя вскармливания грудью своих чад, а груди явно являются частью аппарата для вскармливания, мы автоматически полагали, что их вытянутая, округленная форма должна быть неотъемлемым элементом ее как кормилицы. Но теперь, как нам представляется, такое предположение было ошибочным, а форма женских грудей выполняет скорее сексуальную функцию.
Оставив в стороне вопрос о кормлении, посмотрим на один или два аспекта отношения матери к своему ребенку в прежние времена. Обычная практика, когда мать ласкает, прижимает к себе и вытирает младенца, не требует особых комментариев, зато весьма показательно, каким образом она держит ребенка, когда отдыхает. Тщательные исследования американских ученых показали, что 80% матерей кладут ребенка на левую руку и прижимают его к левой части тела. На вопрос о значении такого предпочтения большинство людей отвечает, что это, очевидно, объясняется тем, что среди населения преобладают правши. Удерживая ребенка на левой руке, мать освобождает правую руку. Однако детальный анализ показывает, что это не так. Правда, различие между женщинами-правшами и левшами существует, но оно слишком незначительно, чтобы объяснить данный факт. Выясняется, что 83% правшей держат ребенка на левой стороне, но так же поступают и 78% матерей-левшей. Иными словами, всего 22% матерей-левшей высвобождают левую руку. Вероятно, должно существовать какое-другое, не столь очевидное объяснение.
Единственной причиной является тот факт, что сердце находится в левой стороне. Не является ли биение материнского сердца жизненно важным фактором? А если так, то почему? Размышляя над этим вопросом, ученые утверждали, что, возможно, во внутриутробной жизни растущий эмбрион приобрел импринтинг на биение сердца матери. Если это так, то знакомый звук, вновь услышанный ребенком после его рождения, может оказывать успокаивающее воздействие на младенца, особенно если он очутился в незнакомом и пугающе новом мире. Если это так, то мать, инстинктивно или опытным путем, методом проб и ошибок, пришла к открытию, что ее ребенок спокойнее ведет себя, когда его держат на левой стороне, у сердца.
Вывод может показаться не слишком убедительным, но проведенные тесты указывают на то, что это правильное объяснение. Несколько групп новорожденных младенцев, находившихся в родильной палате, в продолжение длительного времени слушали запись сердцебиения со стандартной частотой 72 удара в минуту. В каждой группе находилось девять младенцев, и было установлено, что один или более новорожденных плакали в течение 60% времени, когда запись не включалась. Однако эта цифра уменьшилась до 38%, когда раздавались удары сердца. Кроме того, группы, слушавшие запись, заметнее увеличивали свой вес по сравнению с другими младенцами, хотя и те и другие получали одинаковое количество пищи. Совершенно очевидно, что группы, не слушавшие запись, расходовали больше энергии, когда громко плакали.
Был проведен еще один тест, в котором участвовали дети постарше перед тем, как лечь спать. В одних группах в спальне было тихо, для других включались записи колыбельных песен. Для третьих включался метроном, работавший с частотой работы сердца — 72 удара в минуту. Для четвертых групп включалась запись биения сердца. Затем проверяли, какие группы засыпают быстрее. Те группы, которые слушали запись биения сердца, засыпали в два раза быстрее любой из остальных групп. Это не только подтверждает гипотезу, что звук бьющегося сердца является мощным успокаивающим средством, но и указывает на то, что реакция на него чрезвычайно специфична. Имитация сердцебиения с помощью метронома не дает никакого результата, по крайней мере, когда речь идет о малышах.
Нам представляется вполне приемлемым такое объяснение факта, что матери держат младенцев с левой стороны. Интересно отметить, что, изучив 466 полотен с изображением Богоматери с Младенцем (созданных на протяжении нескольких веков), установили, что на 373 из них Дитя находится на левой стороне. И в этом случае цифра составляет 80%. Это противоречит наблюдению, что 50% женщин, несущих поклажу, держат ее в левой руке и столько же — в правой.
Какие другие возможные последствия может иметь этот импринтинг на сердцебиение? К примеру, он, возможно, объясняет, почему мы считаем, что чувства любви зарождается в сердце, а не в голове. Как поется а песне: «У меня есть сердце, а у сердца — песня!» Этот импринтинг может также объяснить, почему матери укачивают детей перед сном. Движения их совпадают по ритму с частотой сердцебиения. Возможно, они напоминают младенцу знакомые ритмичные пульсации, которые тот чувствовал, находясь в утробе матери, чье большое сердце стучало где-то наверху.
И это еще не все. Упомянутое явление сопровождает нас и во взрослой жизни. Страдая, мы покачиваемся взад и вперед. Когда с кем-то конфликтуем, делаем то же самое. В следующий раз, когда вы увидите какого-нибудь лектора или оратора, проверьте частоту его покачиваний. Смущение, которое он испытывает в присутствии большого числа слушателей, заставляет его совершать движения, которые его успокаивают, и поэтому он прибегает к привычному ритму — отголоску материнского чрева.
Всякий раз, когда вы чувствуете себя незащищенным, вы находите для себя успокаивающий ритм сердцебиения, принимающий ту или иную форму. Не случайно народная музыка и танцы, как правило, исполняются в синкопированных ритмах. Звуки и телодвижения возвращают исполнителей к надежному миру материнской утробы. Не случайно музыка молодежи называется рок-музыкой. Позднее ее стали обозначать еще более определенным словом — бит-музыка. О чем же поют подростки? «Сердце мое разбито», «Ты отдала свое сердце другому» или «Мое сердце принадлежит тебе».
Как ни увлекателен этот сюжет, мы не должны уходить слишком далеко от первоначальной темы — поведение родителей. До сих пор мы рассматривали отношение матери к своему ребенку. Мы видели ее в драматические моменты рождения младенца, наблюдали за тем, как она кормит его, держит на руках и баюкает. Теперь мы должны обратить свое внимание на самого младенца и проследить за тем, как он растет.
Новорожденный младенец весит в среднем 3,5 кг, что составляет чуть больше одной двадцатой веса среднего родителя. В течение первых двух лет ребенок растет очень быстро; так продолжается еще четыре года. Однако в шесть лет темпы его роста значительно снижаются. Эта фаза замедленного роста продолжается до одиннадцати лет у мальчиков и до десяти у девочек. Затем, с наступлением периода пубертации, происходит новый скачок. Быстрый рост наблюдается у мальчиков с одиннадцати до семнадцати лет, у девочек — с десяти до пятнадцати. Благодаря их несколько более ранней зрелости девочки обгоняют мальчиков в период с одиннадцати до четырнадцати лет, но затем мальчики их опережают. Как правило, девочки прекращают свой рост около девятнадцати лет, юноши гораздо позже — лет в двадцать пять. Первые зубы появляются у детей на шестом или седьмом месяце, а полный набор молочных зубов они обычно имеют к концу второго года или к середине третьего. Коренные зубы прорезаются на шестом году, но последние моляры (зубы мудрости) обычно вырастают не раньше девятнадцати лет.
Новорожденные очень много спят. Принято считать, что они бодрствуют всего два часа в сутки в течение первых недель жизни, но это не так. Они действительно сони, но не настолько. Тщательными исследованиями установлено, что время, проведенное новорожденным во сне, составляет в среднем 16,6 часа в сутки. Однако один ребенок отличается от другого: самые большие сони проводили во сне 23 часа из двадцати четырех, а наиболее бодрствующие — всего 10,5 часа в сутки.
В период детства соотношение сон — бодрствование постепенно изменяется в сторону бодрствования, а во взрослом состоянии средняя продолжительность сна (шестнадцать часов) сокращается наполовину. Однако и у взрослых эта цифра (восемь часов) может значительно отличаться от одного индивида к другому. Двум из каждых ста человек требуется всего пять часов, двум — целых десять. Кстати, взрослые женщины спят в среднем чуть больше, чем мужчины.
Шестнадцатичасовая ежедневная норма сна используется ребенком не подряд в течение ночи, а разбивается на ряд коротких отрезков, распределенных в течение суток. Однако с момента рождения у ребенка появляется стремление спать больше ночью, чем в дневное время. Но в последующие недели один из ночных отрезков сна увеличивается и, наконец, становится преобладающим. Теперь младенец спит днем урывками, а ночью — не просыпаясь. Такая перемена приводит к тому, что средняя ежедневная норма сна у шестимесячного ребенка сокращается до четырнадцати часов. В последующие месяцы дневной сон уменьшается до часа-двух утром и часа — днем. На втором году жизни ребенок обычно утром не спит, средняя продолжительность сна сокращается до тринадцати часов в сутки. На пятом году ребенок перестает спать и днем, в результате чего норма сна уменьшается до двенадцати часов. С этой поры вплоть до достижения половой зрелости сон сокращается еще на три часа. В результате к тринадцати годам дети спят всего по девять часов. С этого момента потребность в сне у подростка ничем не отличается от таковой у взрослого, и он обычно спит не больше восьми часов. Следовательно, окончательный ритм сна устанавливается в период половой, а не физической зрелости.
Любопытно отметить, что наиболее умные из детей дошкольного возраста спят меньше, чем их менее развитые сверстники. После семи лет тенденция меняется: более толковые школьники спят больше, чем их отстающие товарищи. По-видимому, вместо того чтобы проводить больше времени за занятиями, они вынуждены работать более активно, в результате чего наиболее добросовестные из них к концу дня изматываются. Что касается взрослых, то здесь никакой связи между одаренностью и потребностью в сне не наблюдается.
На то, чтобы уснуть, здоровым мужчинам и женщинам всех возрастов требуется минут двадцать. Пробуждение должно быть спонтанным. Потребность в будильнике того или иного вида указывает на недосыпание, что скажется на самочувствии индивида.
В периоды бодрствования новорожденный двигается сравнительно мало. Его мускулатура, в отличие от мускулатуры других приматов, развита слабо. Малыш мелкой обезьяны может крепко держаться за мать, едва успев появиться на свет. Он может даже цепляться ручками за ее шерсть в момент своего рождения. Напротив, новорожденное человеческое дитя беспомощно и может лишь шевелить ручками и ножками. Только в месячном возрасте оно может, лежа на животе, поднимать подбородок без посторонней помощи («держать головку»). В два месяца малыш сумеет немного приподняться, лежа на животе. В три — тянет ручки к подвешенным в воздухе предметам. В четыре с помощью матери он пытается сидеть. В пять месяцев он сидит у матери на коленях и держит в ручке те или иные предметы. В шесть — сидит на мальпостике (высоком стуле) и без труда хватает висящие игрушки. В семь месяцев садится без посторонней помощи. В восемь — встает при поддержке матери. В девять — стоит, опираясь о предметы обстановки. В десять месяцев может ползать на четвереньках. В одиннадцать — ходить, держась за руку кого-нибудь из родителей. В двенадцать он поднимается с пола, опираясь о твердые предметы. В тринадцать месяцев ребенок умеет подниматься по лестнице. В четырнадцать — стоять, ни на что не опираясь. В пятнадцать месяцев для ребенка наступает важный момент, когда он наконец-то начинает ходить самостоятельно. (Разумеется, приводятся усредненные цифры, однако они служат хорошим подспорьем при определении темпов развития ребенка.)
Приблизительно в то же время, когда ребенок начинает ходить без посторонней помощи, он произносит первые слова — сначала самые простые, но вскоре его словарный запас начинает пополняться с поразительной скоростью. К двум годам обычный ребенок может произнести уже почти триста слов. К трем эта цифра утраивается. К четырем он знает уже почти 1600 слов, а к пяти — 2100. Эти поразительные темпы обучения посредством звукоподражания уникальны и должны рассматриваться как одно из наших величайших достижений. Это связано, как мы узнали из первой главы, с настоятельной потребностью в более точной информации, полезной для коллективной охоты. Ни у кого больше, даже у самых близких нам приматов, нет ничего даже отдаленно похожего на это свойство. Как и мы, шимпанзе талантливо имитируют манипуляции, но подражать звукам они не умеют. Однажды была предпринята серьезная попытка научить молодого шимпанзе говорить, но достигнутый успех оказался весьма скромным. Животное воспитывалось в человеческом жилище в условиях, в каких живут дети. Сочетая поощрение в виде еды с манипуляцией губ, делались неоднократные попытки убедить животное произнести простые слова. К двум с половиной годам животное научилось говорить «мама», «папа» и «чашка». Со временем оно смогло использовать эти слова в нужном контексте, шепча «чашка», когда хотело напиться воды. Упорные занятия с животным продолжались, но к шести годам (когда человеческий детеныш знал более двух тысяч слов) словарный запас шимпанзе составлял всего семь слов.
Это различие является вопросом иного уровня развития, а не отсутствия голоса. Шимпанзе наделен речевым аппаратом, который по своему строению вполне способен производить большое количество звуков. Тупость животного объясняется не неприспособленностью его речевого аппарата, а несовершенством содержимого его черепной коробки.
В отличие от шимпанзе, некоторые птицы обладают поразительной способностью имитировать человеческую речь. Попугаи, хохлатые майны, вороны и ряд других птиц могут не моргнув глазом произносить целые фразы, но, к сожалению, они обладают птичьим умом и не умеют хорошо использовать этот свой талант. Они лишь копируют сложные сочетания звуков, которым их обучают, и повторяют их автоматически в установленном порядке безотносительно к внешним событиям. И все-таки удивительно, что шимпанзе, как и мелкие обезьяны, не могут достичь лучшего результата. Даже несколько простых слов пригодились бы им в их естественной среде, поэтому удивительно, почему им не удалось достичь такой степени развития.
Вернемся снова к нашему виду. Первобытные, инстинктивно издаваемые звуки — ворчание, стоны, вопли, которые характерны для других приматов, не чужды и нам, несмотря на наш интеллект. Мы сохраняем данные нам природой звуковые сигналы, и они выполняют свою важную роль. Они не только образуют как бы звуковой фундамент, на котором мы можем воздвигать свой словесный небоскреб, но и существуют сами по себе как характерные видовые средства общения. Не в пример словесным сигналам, они произносятся без всякого обучения и обозначают одно и то же во всех культурах. Вопль, хныканье, смех, рев, стон, ритмичный плач передают одну и ту же информацию всем и везде. Подобно звукам других животных, они относятся к основным эмоциональным состояниям и оповещают нас о причинах, вынудивших ту или иную особь издать этот сигнал. Аналогичным образом мы сохранили свои инстинктивные выражения эмоций: улыбку, усмешку, насупленные брови, неподвижный взгляд, испуг, гнев. Такие сигналы знакомы всем сообществам и существуют, несмотря на наш некоторый культурный лоск.
Любопытно взглянуть, как эти основные видовые звуки и видовые выражения лица появляются с первых шагов развития ребенка. Реакция в виде ритмического плача (как нам хорошо известно) возникает с самого момента его рождения. Улыбка появляется позднее, спустя примерно пять недель. Смех и проявления характера мы наблюдаем у трех- или четырехмесячных младенцев. Полезно более внимательно изучить такие симптомы.
Плач — это не только самый ранний, но и самый важный сигнал о настроении человека. Улыбка и смех являются уникальными и довольно специфическими сигналами, однако плач присущ не только нам, но и тысячам других животных. Фактически все эти млекопитающие (не говоря о птицах), испытывая боль или страх, издают высокой тональности вопли, визги и крики. Что касается высших млекопитающих, у которых гримасы превратились в визуальные сигналы, то такие тревожные сообщения сопровождаются характерным выражением испуга. Будь то молодое или взрослое животное, такого рода реакция указывает на то, что произошло нечто серьезное. Об этом молодая особь оповещает своих родителей, а взрослые — других членов сообщества.
В младенчестве многое заставляет нас плакать. Мы плачем от боли, голода, одиночества, когда попадаем в чужую и непривычную обстановку, когда теряем физическую поддержку или терпим неудачу, пытаясь достичь какой-либо важной цели. Эти ситуации определяются двумя категориями: физическая боль и опасность. В любом случае, когда сигнал условен, у родителя появляется (или должно появиться) желание защитить свое чадо. Если ребенок находится вдали от родителя, то сигнал заставляет последнего сокращать разделяющее их расстояние до тех пор, пока дитя не окажется в его объятиях и его не станут качать, гладить по щекам или голове. Если ребенок уже соприкасается с родителем, но все равно продолжает плакать, необходимо осмотреть его тело и выяснить, что может причинять ему боль. Родитель продолжает беспокоиться до тех пор, пока сигнал тревоги не выключается (в этом отношении сигнал этот разительно отличается от улыбки или смеха).
При плаче лицевые мускулы напрягаются, лицо краснеет, слезятся глаза, открывается рот, губы растягиваются, глубокие вдохи перемежаются с судорожными выдохами, сопровождаемыми пронзительными возгласами. Дети бросаются к родителю и прижимаются к нему.
Несмотря на то что картина нам знакома, я описал ее довольно детально, поскольку именно из этого сигнала возникли характерные для человека смех и улыбка. Когда говорят, что они «смеялись до слез», имеют в виду именно эту взаимосвязь. Однако если говорить об эволюции, то произошло наоборот: «мы плакали до тех пор, пока не рассмеялись». Как же это произошло? Прежде всего необходимо понять, насколько сходны между собой такие сигналы, как плач и смех. Настроения, их вызывающие, настолько отличаются друг от друга, что мы упускаем из виду это обстоятельство. Как и при плаче, во время смеха у ребенка напрягаются лицевые мускулы, рот открывается, губы растягиваются, глубокие вдохи прерываются энергичными выдохами. Когда смех превращается в хохот, то, как и при плаче, краснеет лицо и на глазах выступают слезы. Однако издаваемые при этом звуки не так режут слух и не столь пронзительны. И прежде всего, они короче и следуют один за другим через более короткие промежутки времени. Создается впечатление, будто непрерывный плач ребенка разбивается на маленькие отрезки и становится в то же время не таким резким и громким.
Вероятно, смех возник из плача, став вторичным сигналом. И произошло это, по-видимому, следующим образом. Я уже говорил, что плач возникает вместе с рождением ребенка, но смеяться он начинает лишь на третьем или четвертом месяце жизни. Этот сигнал появляется вместе с умением распознавать своих родителей. Ребенок, узнающий своего отца, — умный ребенок, но ребенок, узнающий свою мать, — ребенок смеющийся. Прежде чем младенец научится узнавать лицо матери и отличать ее от других женщин, он может пускать слюни и агукать, но это еще не смех. Когда он начинает выделять свою маму, это значит, что он также начинает бояться чужих людей. В два месяца ребенок мирится с любым нежным лицом, все дружелюбные взрослые ему угодны. Но страх перед окружающим миром начинает усиливаться, всякое незнакомое явление расстраивает младенца, и он начинает плакать. (Впоследствии он поймет, что некоторые взрослые тоже полезны, и перестанет их опасаться; но это делается выборочно, после личного знакомства с этими людьми.) В результате импринтинга матери ребенок может оказаться в конфликтной ситуации. Если мать делает нечто такое, что поражает его, то она производит два противоположных сигнала. Один из них означает: «Я твоя мама, твоя защитница, и тебе нечего бояться». Второй означает: «Будь начеку, происходит что-то пугающее». Такая конфликтная ситуация не могла возникнуть раньше, чем мать стала известна ему как личность, поскольку если бы она сделала нечто, что могло испугать ребенка, то она оказалась бы источником страха в этот момент и ничем более. Но теперь она может подать двойной сигнал: «Опасность существует, и в то же время ее нет, поскольку она исходит от меня, так что не обращай на нее внимания». На это ребенок реагирует, не то плача, не то агукая, узнавая мать. Такое своеобразное сочетание стимулов вызывает у него смех. (Вернее сказать, вызывало в прошлом, в процессе эволюции. С тех пор эта реакция зафиксировалась и превратилась в отдельный, четко выраженный отклик.)
Следовательно, смех означает: «Я понимаю, что опасность не всамделишная». Такая информация и передается матери. Мать может играть с младенцем, вовсю тормошить его, не опасаясь, что он заплачет. Самыми ранними причинами детского смеха являются игры родителей — такие, как прятки, хлопанье в ладоши, скатывание младенца с колен, подбрасывание его. Позднее, но не раньше шести месяцев, большую роль играет щекотание. Все это шоковые воздействия, но производимые надежной охранительницей. Вскоре дети учатся провоцировать такие ситуации сами, к примеру, прячась и «пугаясь», когда их найдут, или убегая, но так, чтобы их можно было поймать.
Поэтому смех становится игровым сигналом и означает, что все более захватывающие взаимодействия ребенка и родителя может продолжаться и развиваться. Если они становятся слишком пугающими или болезненными, то может последовать соответствующий отклик в виде плача, который вновь стимулирует защитную реакцию со стороны родителя. Такая система позволяет ребенку расширять знания о своих возможностях и физических свойствах окружающего мира.
У других животных также имеются специальные игровые сигналы, но по сравнению с нашими они не выразительны. К примеру, шимпанзе умеют делать характерное выражение лица, обозначающее готовность играть, и негромкое ворчание, соответствующее человеческому смеху. Происхождение этих сигналов также противоречиво. С целью приветствия молодой шимпанзе до предела вытягивает губы. В случае испуга он их поджимает, открывает рот и скалит зубы. «Игривое выражение», появляющееся в результате желания приветствовать кого-либо и страха перед ним, является сочетанием того и другого. Челюсти широко открываются, как и при выражении страха, но губы вытягиваются, закрывая зубы. Негромкое ворчание чаще всего напоминает приветствие «у-у-у» и отчасти — крик испуга. Если игра становится слишком грубой, то губы оттягиваются назад и ворчание превращается в резкий вопль. Если же игра чересчур спокойна, то челюсти сжимаются, губы вытягиваются в дружелюбную гримасу. По существу, возникает одинаковая ситуация, но негромкое «игривое» ворчание — это жалкое подобие нашего громкого, от души, смеха. По мере того как животное подрастает, значение «игривого сигнала» сходит на нет, в то время как у нас он усиливается и приобретает все большее значение в повседневной жизни. Голая обезьяна, даже став взрослой, очень игрива. В этом отражается ее характер исследователя. Она постоянно все доводит до предела, пытаясь запугать себя, шокировать, не причиняя себе вреда, чтобы затем взрывами заразительного хохота сигнализировать о чувстве облегчения, испытываемого ею.
Насмешка над кем-то может также стать мощным социальным оружием как детей, так и взрослых. Она вдвойне оскорбительна, означая, что данный индивид — не только страшила, чудила, но еще и пустое место. Комик-профессионал намеренно берет на себя роль такого неудачника и тем самым зарабатывает большие деньги. Их платят зрители, которые убеждаются в том, что принадлежат к сообществу путёвых людей, противопоставляемых его мнимой непутевости.
Следует отметить, каким образом реагируют подростки на появление своих кумиров на эстраде. Становясь их слушателями, они выражают свой восторг не смехом, а воплями. Они не только вопят, но и хватаются за собственные и чужие части тела, извиваются, стонут, закрывают лицо, дергают себя за волосы. Это классические признаки чувства сильной боли или страха, только преднамеренно утрированные. Болевой порог у подростков искусственно занижен. Это уже не крики о помощи, а сигналы другим слушателям, свидетельствующие о том, что они способны эмоционально воспринимать секс-кумиров, и реакция эта настолько сильна, что, подобно всем видам мощного воздействия, она вызывает боль в чистом виде. Если бы девушка-подросток внезапно оказалась наедине с одним из ее кумиров, то ей никогда не пришло бы в голову так кричать. Вопли предназначались не для него, а для других слушательниц. Таким образом молодые девушки могут убедить друг друга в своей эмоциональной восприимчивости.
Прежде чем покончить с темой, связанной со слезами и смехом, необходимо выяснить еще один загадочный вопрос. Некоторые матери невыносимо страдают в первые три месяца жизни младенца, который непрерывно плачет. И никакие усилия родителей, похоже, не могут остановить этот поток слез. Они обычно приходят к выводу, что у ребенка какой-то физический дефект, и пытаются относиться к нему соответственно. Конечно же, они правы: этот физический дефект действительно налицо; но это, скорее, следствие, а не причина. Помочь понять проблему может такой факт: беспрестанный плач ребенка прекращается, словно по волшебству, на третьем или четвертом месяце жизни младенца. Прекращается он в тот самый момент, когда ребенок начинает узнавать свою мать как личность. Ответ на вопрос может дать сравнение поведения матерей детей-плакс с поведением родительниц более спокойных младенцев. Первые склонны к экспериментированию, нервозны и беспокойны, когда общаются с малышом. Вторые рассудительны, уверены в себе и безмятежны. Дело в том, что даже в столь нежном возрасте младенец прекрасно отличает прикосновение надежных, вселяющих уверенность рук от прикосновения таких рук, которые вызывают ощущение неуверенности и тревоги. Взволнованная мать невольно передает свое состояние новорожденному. Тот немедленно реагирует соответствующим образом, требуя оградить его от причины волнения. Это лишь усугубляет тревогу матери, что, в свою очередь, только усиливает плач ребенка. В конце концов дитя заболевает, и ко всем его нравственным страданиям прибавляются еще и физические. Чтобы разорвать этот порочный круг, требуется одно: мать должна смириться с ситуацией и успокоиться. Если даже ей не удается изменить себя (младенца почти невозможно обмануть на этот счет), проблема разрешится сама собой на третьем или четвертом месяце жизни ребенка, поскольку на этом этапе он запечатлевает образ матери (происходит ее импринтинг) и начинает относиться к ней как к своей защитнице. Теперь из бестелесного сочетания раздражителей она превращается в знакомое лицо. Крепнущая связь малыша со своей родительницей успокаивает мать и автоматически уменьшает ее тревогу. Безудержный плач прекращается.
До сих пор я ничего не говорил об улыбке, потому что она представляет собой еще более специфическую реакцию, чем смех. Подобно тому как смех — оборотная сторона плача, так и улыбка является оборотной стороной смеха. На первый взгляд может действительно показаться, что улыбка — это всего лишь не столь интенсивная форма смеха, но все не так просто. Правда, сдержанный смех неотличим от улыбки. Несомненно, именно таким образом возникала привычка улыбаться, но совершенно ясно, что в процессе эволюции улыбка как бы эмансипировалась и должна теперь стать самостоятельной категорией. Интенсивная форма улыбки — широкая, сияющая улыбка — коренным образом отличается по своей роли от громкого смеха. Улыбка стала своего рода визитной карточкой человека. Если мы приветствуем кого-то улыбкой, то этот человек знает, что мы относимся к нему дружелюбно. Но если мы поздороваемся е кем-то, смеясь при этом, то у него появится свое мнение на этот счет.
Любой социальный контакт в лучшем случае вызывает известное чувство страха. В тот момент, когда мы заговариваем с незнакомым человеком, мы не знаем, какова будет его реакция. Как улыбка, так и смех указывают на существование этого страха, к которому может примешиваться доброжелательное чувство. Но когда смех становится чересчур громким, он сигнализирует о готовности к новым «встряскам», к дальнейшему развитию ситуации, в которой риск сочетается с уверенностью. В то же время, если усмешка, напоминающая начальную стадию смеха, перерастает в нечто другое — скажем, в широкую улыбку, — то это означает, что ситуация не должна усугубляться. Это указывает лишь на то, что первоначальное отношение было самоцелью и дальнейших шагов не предвидится. Взаимные улыбки убеждают улыбающихся, что оба несколько настороже, но доброжелательны по отношению друг к другу. Когда человек немного опасается, это значит, что он не настроен агрессивно, а отсутствие агрессивности означает дружелюбие. Таким образом, улыбка становится сигналом, оповещающим о ваших добрых намерениях.
Если нам понадобился этот сигнал, то неужели остальные приматы не приняли его на вооружение? Действительно, в их арсенале имеются различные дружелюбные жесты, но улыбка свойственна только нам, и она играет огромную роль в повседневной жизни человека — как ребенка, так и взрослого. Какой же аспект нашего существования заставил ее приобрести такое значение? Ответ, похоже, в нашей пресловутой голой коже. Когда у обезьяны рождается детеныш, он крепко цепляется за шерсть матери. И не покидает ее ни на день, ни на час. В течение недель и даже месяцев он не оставляет надежное, уютное убежище, каким является для детеныша материнское тело. Позднее, когда он впервые решается удалиться от родительницы, он может мигом прибежать к ней и снова вцепиться ей в шерсть. Даже если обезьяна-мать не очень-то поощряет такой контакт (в особенности когда ее детеныш становится старше и тяжелее), ей будет не так-то просто избежать его. Любая дама, которой приходилось выступать в роли приемной родительницы шимпанзе, может это подтвердить.
Когда на свет появляемся мы, мы оказываемся более беспомощными. У нас не только недостаточно сил, чтобы цепляться за мать, но и цепляться-то нам не за что. Лишенные механических способов обеспечить тесный контакт с родительницей, мы должны полагаться на свое умение вызывать ее реакцию. Мы можем вопить, пока не лопнем, лишь бы привлечь ее внимание. Однако добившись своего, мы должны как-нибудь закрепить это внимание. Детеныш шимпанзе, точь-в-точь как мы, горланит, требуя к себе внимания. Мать тотчас бросается к малышу и берет его на руки. Ее детеныш снова вцепится ей в шерсть. В подобной ситуации нам нужна какая-нибудь замена такого жеста, некий сигнал, который вознаградит родительницу и заставит ее остаться с нами. Таким сигналом и является улыбка.
Ребенок улыбается в первые недели после своего рождения. Однако следует отметить, что улыбка эта безадресная. Приблизительно на первой неделе она становится ответом на то или иное воздействие. Глаза младенца могут фиксировать определенные предметы. Вначале наиболее живо он реагирует на пару глаз, уставившихся на него. Сойдут даже два черных пятна на куске картона. Спустя несколько недель понадобится и рот. Два черных пятна и под ними линия, изображающая рот, наиболее эффективным образом спровоцируют реакцию младенца. Вскоре становится важно, чтобы рот открывался, и тогда глаза начинают утрачивать свое значение ключевых стимулов. На этом этапе, в возрасте трех или четырех месяцев, реакция младенца становится более специфичной. Теперь он реагирует не на любое лицо взрослого, а на конкретное лицо своей матери. Происходит процесс импринтинга.
И вот что удивительно. В процессе этого импринтинга ребенок не в состоянии различать квадраты, треугольники или иные остроугольные геометрические фигуры. Зато он способен узнавать такие предметы, которые напоминают ему черты человеческого лица. Благодаря этому зрение младенца фиксируется на нужных объектах, и импринтинга на каком-нибудь неодушевленном предмете, находящемся поблизости, не произойдет.
К семи месяцам образ матери полностью запечатлен в сознании младенца. Что бы теперь она ни делала, образ этот сохранится у него до конца жизни. Утята усваивают этот образ, следуя за матерью-уткой, детеныши обезьян — цепляясь за мать. Привязанность к родительнице у ребенка закрепляется с помощью улыбки.
Улыбка, как жизненно важный стимул, приобретает свою уникальную конфигурацию очень простым образом: мы приподнимаем уголки губ. Рот немного открывается, губы оттягиваются назад — совсем как при выражении страха, однако благодаря тому, что их уголки загибаются кверху, характер выражения изменяется коренным образом. Если линия губ приобретает иные очертания и уголки их опускаются, то возникает как бы «антиулыбка». Подобно тому как смех возник из плача, а улыбка — из смеха, так и недружелюбное выражение лица, как бы при качании маятника в обратную сторону, создается из выражения дружелюбия.
Но улыбка — это не только линия губ. Будучи взрослыми, мы способны выразить свое настроение изгибом губ, но ребенку этого мало. Он не только вовсю улыбается, но и дрыгает ножками, размахивает ручками, протягивая их к объекту, вызвавшему его реакцию, что-то воркует, запрокидывает головку, выпячивает подбородок, выставляет вперед туловище или валится набок, при этом глубоко дыша. Глазенки у него разгорелись, они немного прищурены, под глазами или у глаз, иногда на переносице, появляются морщинки. Складка от крыльев носа к уголкам губ становится заметнее, ребенок может чуть высунуть язык. Судя по движениям тела малыша, он вовсю старается установить контакт с матерью. При всей своей неуклюжести ребенок как бы демонстрирует нам все то, что осталось от первобытной, свойственной приматам реакции — стремления уцепиться за мать.
Я много рассуждал о детской улыбке, но улыбка, разумеется, — это сигнал двоякого действия. Когда ребенок улыбается матери, она отвечает ему тем же. Каждый из них вознаграждает другого, и взаимная связь между ними укрепляется. Вы, возможно, подумаете, что это само собой разумеется, но тут может возникнуть загвоздка. Некоторые матери в состоянии волнения, тревоги и раздражения пытаются скрыть свое настроение под улыбкой. Они надеются, что маска, которую они надевают, не даст ребенку расстроиться. Но в действительности этот прием может принести больше вреда, чем пользы. Я уже отмечал, что младенца почти невозможно обмануть относительно настроения его матери. В раннем детстве мы очень восприимчивы к малейшим признакам ее волнения или спокойствия. В довербальный период, прежде чем мощная машина символической культурной информации успеет обрушиться на нас, мы в гораздо большей степени полагаемся на незаметные движения, изменения позы, тональности голоса, чем это понадобится нам в дальнейшей жизни. Другие виды животных особенно преуспели в этом. Поразительная способность «Умного Ганса» — знаменитой лошади, умевшей считать, по существу, основывалась на ее способности замечать малейшие изменения в позе тренера. Когда ему предлагали сложить определенную сумму, Ганс стучал копытами нужное количество раз, а затем останавливался. Даже в том случае, когда дрессировщик выходил из помещения и его место занимал кто-либо другой, номер все равно срабатывал, поскольку после того, как нужное количество ударов прозвучало, незнакомец невольно напрягался, хотя и незаметно, всем телом. Мы все обладаем такой способностью, даже взрослые (это свойство с успехом используется прорицателями, которые сразу определяют, когда они на верном пути), но у детей, еще не умеющих говорить, эта способность особенно развита. Если мать в раздражении делает резкие движения, то, как бы ни пыталась она скрыть настроение, ребенок заметит. Если в это же самое время она вздумает широко улыбаться, она малыша не обманет, а только смутит его. Ведь он воспринимает два противоречивых сигнала. Если так будет часто повторяться, это нанесет ребенку непоправимый ущерб, и в дальнейшей жизни у него возникнут серьезные трудности при установлении социальных контактов и приспособлении к среде.
Оставив проблему улыбки, перейдем к совершенно иному явлению. Спустя несколько месяцев у малыша возникает новый вид поведения: он становится агрессивен. На смену прежнему реву по всякому поводу приходят вспышки гнева и злой плач. Ребенок сигнализирует о своей агрессивности, отрывисто вскрикивая, яростно размахивая руками и дрыгая ногами. Он накидывается на маленькие предметы, трясет большие, плюется, пытается кусаться, царапаться и ударить кого-нибудь, находящегося поблизости. Сначала такого рода действия спонтанны и нескоординированны. Плач указывает на то, что страх все еще присутствует. Агрессивность еще не превратилась в прямую агрессию: это произойдет позднее, когда ребенок станет уверен в себе и полностью осознает свои физические возможности. Когда же желание напасть на кого-нибудь у него окончательно созреет, это отразится в виде особых сигналов. Рот плотно сжат, глаза горят. Вместо губ — прямая линия, уголки рта опущены. Глаза неотрывно смотрят на противника, брови нахмурены. Кулаки сжаты. Ребенок начал самоутверждаться.
Установлено, что при увеличении группы детей их агрессивность усиливается. В условиях скученности дружественные отношения между участниками группы ухудшаются, учащаются и усиливаются случаи деструктивного и агрессивного поведения. Это существенно, если вспомнить, что столкновения у других животных имеют целью не только выявление первенства, но и расширение жизненного пространства у представителей данного вида. К этому вопросу мы вернемся в пятой главе.
Помимо защиты, кормления, ухода и игр с потомством, к родительским обязанностям относится также чрезвычайно важный процесс — обучение. Как и у других животных, он осуществляется с помощью системы наказаний и поощрений, которая постепенно видоизменяется и подгоняется под способ обучения молодого поколения методом проб и ошибок. Но кроме того, малыши будут быстро обучаться посредством подражания взрослым. Метод этот относительно плохо освоен остальными млекопитающими, зато великолепно разработан и освоен нами. Многое из того, что другие животные должны усердно усваивать сами, мы быстро узнаём, следуя примеру своих родителей. Голая обезьяна — хороший ученик. (Мы настолько привыкли к такому методу обучения, что предполагаем, что и другие животные пользуются им, и в результате переоцениваем роль, которую играет в их жизни обучение.)
Многое из того, что мы делаем, став взрослыми, основано на знаниях, усвоенных нами в детстве. Зачастую мы воображаем, что поступаем так или иначе потому, что такое поседение соответствует некоему абстрактному моральному кодексу. Между тем в действительности мы лишь повинуемся глубоко запечатленным в нас и давно «забытым» чисто подражательным побуждениям. Именно неукоснительное следование таким впечатлениям (наряду с глубоко укоренившимися в нас инстинктами) так мешает обществу менять свои обычаи и верования. Даже сталкиваясь с блестящими новыми идеями, основанными на использовании чисто объективной информации, человеческое сообщество все равно будет цепляться за устарелые привычки и предубеждения. Мы вынуждены нести этот крест, если хотим преодолеть важную юношескую стадию «промокательной бумаги», впитывая в себя накопившийся опыт предыдущих поколений. Мы вынуждены учитывать косные мнения наряду с полезными фактами.
К счастью, у нас выработано защитное средство против этого явления, характерного для процесса обучения посредством подражания. Нам свойственно крайнее любопытство, безудержное стремление к исследованию того, что вокруг нас, — стремление, которое борется со второй тенденцией и обеспечивает равновесие, таящее возможность добиваться фантастических успехов. Только в том случае, если культура станет слишком косной, в результате рабского подражательства, или чересчур смелой и предприимчивой, она будет развиваться ни шатко ни валко. Такие же культуры, которые найдут равновесие между двумя крайностями, будут преуспевать. В настоящее время повсюду в мире мы можем наблюдать и слишком закоснелые, и слишком сумбурные культуры. Малые отсталые сообщества, полностью находящиеся под тяжким бременем запретов и древних обычаев, являются примерами первого типа. Те же самые сообщества, подвергшиеся преобразованию и «подпитке» со стороны более развитых культур, быстро переходят в разряд вторых. Излишняя доза социальной новизны и исследовательского ража ослабляет стабилизирующие силы, кроющиеся в опыте предков, и заметно изменяет баланс. В результате возникает культурная неразбериха и распад. Счастливо то общество, в котором наблюдается постепенное обретение идеального равновесия между подражанием и любопытством, между рабским, механическим копированием и передовым, рациональным экспериментированием.
Глава четвертая
Изучение окружающей среды
У всех млекопитающих сильно развита исследовательская жилка. Некоторым их них любопытство свойственно в большей степени, чем остальным животным. Это в основном зависит от того, насколько они специализировались в процессе эволюции. Если все их усилия были направлены на усовершенствование одного конкретного способ выживания, то им незачем особенно беспокоиться о сложностях окружающего их мира. До тех пор пока у муравьеда есть муравьи, а у коалы — эвкалиптовые листья, они вполне довольны и жизнь прекрасна. Зато неспециалисты — приспособленцы животного мира — не могут позволить себе расслабиться ни на минуту. Они никогда не знают, где получат свою очередную порцию пищи, и поэтому вынуждены досконально знать местность, изучать любые возможности, всегда быть начеку в ожидании удачи. Они должны исследовать окружающую среду, исследовать не переставая. Должны изучать ее и периодически перепроверять свои знания. Должны постоянно поддерживать свое любопытство на высоком уровне.
Дело тут не только в пище. Те же требования предъявляют и задачи самозащиты. Дикобразы, ежи и скунсы могут сколько угодно демонстрировать агрессивность, не обращая внимания на своих врагов. Однако безоружные млекопитающие должны всегда быть настороже. Должны уметь узнавать признаки опасности и знать пути отхода. Чтобы уцелеть, они всегда должны знать точное расстояние до своего жилья.
Если посмотреть на дело с этой точки зрения, то может показаться, что отсутствие специализации весьма неэффективно. Да и зачем нужны млекопитающие приспособленцы, живущие одним днем? Ответ будет таков. В жизни «специалистов» есть свои сложности. Все прекрасно, пока работает метод жизнеобеспечения «специалиста». Но если произойдет резкая перемена в окружающей среде, то «специалист» окажется у разбитого корыта. Если он превзошел себя, чтобы перещеголять своих конкурентов, то животному, кроме того, придется радикально перестроиться в генетическом плане, а это быстро не сделать, если наступит трудная минута. Исчезнут эвкалиптовые леса — погибнет и коала. Стоит какому-нибудь хищнику со стальными челюстями научиться дробить иглы дикобраза — и это животное станет легкой добычей. Для «неспециалиста» любая вылазка может оказаться сопряженной с трудностями, зато он сумеет быстро приспособиться к любым изменениям среды. Отберите у мангуста крыс и мышей — и он тотчас переключится на птичьи яйца и улиток. Лишите обезьяну фруктов и орехов — и она перейдет на корешки и побеги.
Из всех «неспециалистов» обезьяны, пожалуй, лучшие приспособленцы. Как сообщества, они специализируются в «неспециализации». Что же касается голой обезьяны, то из всех приматов она самый большой приспособленец. Это еще один аспект неотенической революции. Все молодые обезьяны любопытны, но по мере взросления их любознательность ослабевает. У нас же детское любопытство с годами лишь усиливается. Мы никогда не устаем исследовать. Полученные знания нас никогда не удовлетворяют. Каждый вопрос, на который мы находим ответ, приводит к возникновению очередного вопроса. Это стало для нас самым надежным способом выжить.
Стремление к новизне получило название неофилия (любовь к новшествам) в противовес неофобии (боязни нового). Все незнакомое таит в себе опасность. К нему надо подходить с осторожностью. Может, его следует избегать? Но если избегать всего нового, то как мы узнаем, что оно собой представляет? Страсть к неизведанному должна подталкивать нас вперед и подогревать в нас интерес к нему до тех пор, пока неизвестное не станет известным и не надоест. В процессе познания мы приобретаем ценный опыт, который можно положить в закрома памяти, чтобы использовать его, в случае надобности, позднее. Ребенок делает это постоянно. Его тяга к новизне настолько велика, что родители вынуждены ее ограничивать. Однако, хотя они могут направить любопытство в нужное русло, подавить его им не удастся никогда. По мере того как дети взрослеют, их исследовательские наклонности подчас принимают тревожащие размеры, и тогда, бывает, взрослые говорят, что «молодежь ведет себя как дикие животные». В действительности все наоборот. Если бы взрослые потрудились взглянуть на то, как в действительности ведут себя дикие животные, то обнаружили бы, что сами и являются дикими животными. Именно они пытаются ограничить стремление молодежи к исследованию нового и поддаются на приманку уютного примитивного консерватизма. К счастью для рода человеческого, всегда находится достаточное количество взрослых, которые сохраняют молодую изобретательность и пытливость и способствуют дальнейшему развитию и прогрессу.
Когда мы смотрим на играющих молодых шимпанзе, нас сразу поражает сходство поведения их и наших детей. И тех и других восхищают новые «игрушки». Они охотно набрасываются на них, поднимают их ввысь, роняют, ломают, разбирают на части. И те и другие придумывают немудрёные игры. Их интерес к окружающему миру столь же велик, как и у нас; и в первые годы жизни шимпанзе нисколько не отстают от нас, даже опережают, поскольку мускулатура у них развивается быстрее. Однако спустя некоторое время они начинают уступать нам. Их мозг недостаточно развит, чтобы использовать хороший задел. Они не в состоянии сосредоточиваться на чем-либо, развитие их умственных способностей отстает от роста тела. Прежде всего они не способны подробно сообщить родителям о своих открытиях.
Лучший способ понять это различие — обратиться к характерному примеру. Очевидно, речь пойдет о рисовании или вычерчивании фигур. В качестве модели поведения такая деятельность в течение многих тысячелетий остается чрезвычайно важной для нашего вида, доказательством чего являются доисторические останки, обнаруженные в Альтамире и Ласко.
Имея такую возможность и подходящие материалы, молодые шимпанзе, как и мы, увлеченно проверяют свои визуальные возможности, нанося метки на чистом листе бумаги. Возникновение такого интереса имеет определенное отношение к принципу исследования, сопровождающегося вознаграждением, которое состоит в том, чтобы получить непропорционально большой результат, приложив сравнительно незначительные усилия. Это можно наблюдать в самых разных игровых ситуациях. Мы можем разбиться в лепешку, взявшись за какое-то дело, однако наибольшее удовлетворение приносят нам такие действия, отдача от которых превосходит всякие ожидания. Назовем этот принцип «принципом халявы». Как шимпанзе, так и дети любят колотить по различным предметам, отдавая предпочтение тем из них, которые производят больше шума при незначительных усилиях. Наибольший интерес вызывают мячи, взлетающие очень высоко, стоит их едва тронуть; воздушные шары, которые отскакивают в дальний угол комнаты при малейшем прикосновении; песок, который легко лепится; игрушки на колесиках, которые катятся далеко, стоит их легонько толкнуть.
Впервые получив карандаш и бумагу, ребенок оказывается в несколько затруднительном положении. Лучшее, что он может сделать, это постучать по бумаге карандашом. И тут его ожидает приятный сюрприз. Постукивание не только производит шум, но и дает результаты. Кончик карандаша оставляет след на бумаге. Получается линия.
Наблюдать, как делает свое первое открытие начинающий художник — будь то шимпанзе или ребенок — увлекательное зрелище. Широко раскрытыми глазами он изучает линию, заинтригованный неожиданным и наглядным результатом своей работы. Понаблюдав, он повторяет эксперимент. Разумеется, у него получается то же самое во второй раз, и в третий, и в четвертый. Вскоре исчеркан весь лист. Со временем сеансы рисования становятся более увлекательными. Вместо одиночных линий, проведенных одна за другой, появляется лист, испещренный каракулями. Если есть выбор, то предпочтение отдается цветным карандашам, мелкам, краскам, потому что в результате линии получаются ярче, чем карандашные, и занимают больше места на бумаге.
Интерес к таким занятиям впервые появляется как у ребенка, так и у шимпанзе приблизительно в полтора года. Но только на третьем году жизни ребенок начинает смело и уверенно вычерчивать многочисленные линии. В три года малыш с нормальным развитием переходит на новый этап как художник: он начинает упрощать свои замысловатые каракули. Из захватывающего хаоса он начинает извлекать основные формы. Экспериментирует с крестиками, затем с кружочками, квадратами и треугольниками. Проводит извилистые линии по всему листу, пока они у него не соединятся. Получаются очертания какой-то геометрической фигуры.
В последующие месяцы эти простые формы сочетаются между собой, в результате чего возникают примитивные абстрактные рисунки. Это важный этап, предшествующий самому первому живописному изображению. Прорыв этот происходит во второй половине третьего или в начале четвертого года жизни ребенка. С шимпанзе такого не происходит никогда. Молодому шимпанзе удается изобразить линии, расположенные веером, крестики, кружки; он может даже нарисовать законченный круг, но дальше этого дело у него не пойдет. Это особенно досадно, потому что «законченный круг» представляет собой ступень, предшествующую самому раннему рисунку ребенка со средними дарованиями. Внутрь круга помещаются несколько линий или пятен, и — о чудо! — на младенца-художника с листа смотрит лицо. На ребенка снисходит озарение. Этап экспериментирования с абстрактными фигурами или придумывания узоров остался позади. Впереди новая задача — усовершенствование рисунка. Появляются новые лица, качеством получше — с глазами, со ртом в нужном месте. Добавляются детали: волосы, уши, нос, руки и ноги. Рождаются другие образы: цветы, дома, животные, корабли, автомобили. До таких высот, на наш взгляд, молодому шимпанзе никогда не подняться. После того как достигнута вершина творчества обезьяны — нарисован круг и отмечена его внутренняя часть, — продолжает расти само животное, но не его мастерство. Возможно, когда-нибудь и появится шимпанзе-гений, только едва ли такое случится.
У ребенка фаза воспроизведения еще впереди, однако, хотя именно она является главной областью открытий в графике, по-прежнему дает себя знать стремление к абстрактной живописи. Происходит это, главным образом, в возрасте от пяти до восьми лет. В этот период получаются особенно удачные работы, поскольку они основаны на солидном опыте. Художественные образы все еще очень примитивны и удачно сочетаются с созданными уверенной рукой композициями фигур и узоров.
Интригует процесс, во время которого круг с точками внутри превращается в полноценный портрет. Открытие, что он видит лицо, не сразу приводит к усовершенствованию. Разумеется, именно это является главной целью творчества, но достигается она лишь со временем (фактически, на это уходит свыше десятка лет). Для начала нужно подправить основные детали портрета: кружочками изобразить глаза, жирной горизонтальной линией — рот, двумя точками или кружком обозначить нос. От наружного круга во все стороны топорщатся волосы. Теперь можно сделать паузу. Ведь лицо — это самая главная и привлекательная деталь мамы. По крайней мере с визуальной точки зрения. Правда, спустя некоторое время делается еще один шаг вперед. Совсем просто, удлинив некоторые волоски, можно приделать к этому лицу-фигуре руки и ноги. На тех и на других нарисовать пальцы. На этом этапе главные очертания фигуры все еще основаны на круге, появившемся до того, как мы научились создавать образы. Это старый друг, с которым не сразу расстанешься. Превратившись в лицо, круг этот стал одновременно и туловищем. Похоже, в данный момент ребенка не смущает, что на его рисунке руки приделаны к голове. Однако не может же этот круг существовать вечно. Подобно биологической клетке, он должен делиться и создавать другой круг. Или же две линии, обозначающие ноги, должны соединяться где-то чуть выше ступней. Туловище можно изобразить одним из этих двух способов. В любом случае руки остаются как бы не при деле и торчат из головы в обе стороны. Там они будут оставаться еще долгое время, прежде чем опустятся вниз и займут более правильное положение, вырастая из верхней части туловища.
Увлекательное зрелище — наблюдать, как делаются эти медленные, один за другим, шаги, как наш исследователь неустанно движется вперед. Постепенно вырастают все новые формы и их сочетания, всевозможные образы, используются более сложные цвета и различные текстуры. Со временем появляется правдивое изображение, и точные копии картин окружающего мира можно запечатлеть и перенести на бумагу. Но на этом этапе первоначальный исследовательский характер деятельности подавляется настоятельными требованиями передачи художественной информации. Прежние картины и рисунки как молодого шимпанзе, так и ребенка не имели ничего общего с актом общения. Это был акт открытия, изобретения, проверки возможностей различных художественных приемов. Это была «живопись-действие», а не сигнализация. Она не требовала никакого вознаграждения, она сама была наградой, игрой ради игры. Однако, подобно многим аспектам детской игры, эта живопись вскоре сливается с другими взрослыми занятиями. В дело вмешивается социальная информация, и первоначальный элемент изобретательного начала утрачивается. Исчезает удовольствие от того, чтобы «прогуляться карандашом по бумаге». Большинство взрослых допускают его появление вновь лишь тогда, когда машинально чертят что-то во время разного рода заседаний. (Это не значит, что изобретательство стало им чуждо.
Просто эта область графики сместилась в сторону более сложных, технологических сфер.)
К счастью для живописи и графики, как искусства творческого поиска, в настоящее время разработаны гораздо более эффективные технические методы воспроизводства картин окружающей нас среды. «Информационная живопись» стала вчерашним днем благодаря фотографии и аналогичным искусствам. Таким образом были разорваны тяжкие оковы ответственности, так долго связывавшие и увечившие взрослое искусство. Отныне живопись может продолжать свой поиск, но на этот раз в своей зрелой, «взрослой» форме. Едва ли стоит об этом говорить, но именно этим она сейчас и занимается. Я остановился на этом конкретном примере исследовательского поведения, потому что в нем очень четко прослеживается разница между нами и нашими ближайшими сородичами — шимпанзе. Аналогичные сравнения можно провести и в других сферах. Об одной или двух из них стоит вкратце упомянуть. Исследование мира звука свойственно обоим видам. Как мы уже убедились, вокальные изыски по какой-то причине совершенно чужды шимпанзе, однако «ударные инструменты» играют в его жизни важную роль. Молодые шимпанзе часто пытаются выяснить, сколько шума можно произвести, колотя дубиной, топая ногами, хлопая в ладоши. Повзрослев, эти опыты они превращают в продолжительные групповые концерты. Одна за другой обезьяны принимаются топать, визжать, срывать листья, лупить по полым пням и стволам деревьев. Такие коллективные представления могут продолжаться по полчаса, а то и дольше. Какова их цель, точно не известно, однако в результате такие «концерты» взвинчивают членов сообщества. Среди представителей нашего вида игра на барабане также является наиболее распространенной формой самовыражения посредством музыки. С нами это происходит рано, когда наши дети принимаются проверять ударные свойства окружающих предметов — точь-в-точь, как шимпанзе. Но если шимпанзе умеют лишь элементарно отбивать такт, то мы усложняем барабанный бой замысловатыми ритмами, добавляя дробь и повышая тональность звуков. Кроме того, мы производим шум, дуя в пустотелые предметы, царапая и пощипывая куски металла. Вопли и гуденье шимпанзе у нас превращаются в витиеватое пение. Развитие сложных музыкальных форм у более примитивных социальных групп, по-видимому, играло ту же роль, что и сеансы барабанного боя и гуденья у шимпанзе, а именно — всеобщее возбуждение. В отличие от живописи, этот вид деятельности не предназначался для широкомасштабной передачи подробной информация. Оповещение посредством установленных сигналов с помощью барабанного боя было исключением из этого правила, однако сплошь и рядом музыка развивалась как средство создания определенного настроения в обществе и как синхронизатор действий толпы. Однако содержащийся в ней элемент изобретательства и поиска все более усиливался, и освобожденная от всяких «изобразительных» обязанностей музыка стала важной ареной эстетического экспериментирования. (Благодаря своим прежним информационным функциям живопись лишь теперь сравнялась с ней.)
Танцы, по существу, проделали тот же путь, что музыка и пение. Во время сеансов игры на барабанах шимпанзе совершают множество танцевальных движений: раскачиваются из стороны в сторону, двигаются то вперед, то назад, как бы исполняя джигу. Такие же движения, под настроение, совершаем и мы во время музыкальных концертов. Подобная музыка совершенствовалась и превращалась в сложные для эстетического восприятия произведения.
С танцами тесно ассоциируются повсеместные занятия гимнастикой. Ритмические физические упражнения присутствуют в играх как молодых шимпанзе, так и детей. Гимнастические упражнения вскоре становятся стилизованными (аэробика), но сохраняют элемент разнообразия даже в тех структурированных формах, которые они принимают. Однако у шимпанзе игры не развиваются, а просто сходят на нет. Напротив, мы изучаем возможности физических занятий до конца и, став взрослыми, превращаем их во множество сложных упражнений и различные виды спорта. Они играют важную синхронизирующую роль, но являются главным образом средством сохранения и развития физических возможностей.
Письмо — формализованная разновидность художества и средство вербализованной звуковой информации — возникло, разумеется, как основной для нас способ передачи и регистрации сведений. Оно также широко используется как инструмент эстетических исследований. Превращение нашего первобытного ворчания и попискивания в сложную, с использованием символов речь позволило нам сидеть себе и «играть» мыслями, приходящими нам в голову, а также сочетаниями слов (главным образом, поучительными), и затем, поставив перед собой определенные задачи, использовать эти сочетания как своего рода эстетические экспериментальные игрушки.
Итак, во всех этих областях — в живописи, скульптуре, рисовании, музыке, пении, танцах, гимнастике, играх, спорте, письме, речи — мы можем сколько душе угодно, всю свою долгую жизнь развивать самые сложные и специализированные формы исследований и экспериментирования. Посредством сложных методов обучения, в качестве исполнителей и наблюдателей, мы можем оттачивать свою восприимчивость к гигантскому исследовательскому потенциалу, который заключен в упомянутых занятиях.
Оставим в стороне побочные задачи таких видов деятельности (зарабатывание денег, приобретение общественного статуса и т. д.), с биологической точки зрения они оказываются продолжением — уже во взрослой жизни — детских игровых штампов или наложением «правил игры» на взрослые информационно-коммуникационные системы. Эти правила можно сформулировать следующим образом: 1) исследовать незнакомое, пока оно не станет знакомым; 2) накладывать ритмические повторы на знакомое; 3) всевозможными способами варьировать эти повторы; 4) выбирать наиболее удовлетворительные из этих вариантов и развивать их в ущерб другим; 5) сочетать и комбинировать эти варианты; 6) делать все это самоцелью.
Эти принципы в полной мере применимы ко всей шкале ценностей, идет ли речь о ребенке, который возится в песке, или о композиторе, сочиняющем симфонию.
Особенно важно последнее правило. Исследовательское поведение играет известную роль в основных способах борьбы за выживание, таких как питание, силовое самоутверждение, спаривание и так далее. Но здесь оно ограничено ранними потребительскими этапами деятельности индивида и приспособлено к его специфическим запросам. Для многих видов животных такое поведение этим и ограничивается. Ни о каком исследовании ради исследования речи не идет. Однако среди высших млекопитающих, в особенности среди людей, тяга к исследованиям превратилась в настоятельную потребность. Ее задача в том, чтобы обеспечить нам, по возможности, самое тонкое и всестороннее понимание окружающего нас мира и наших возможностей относительно него. Понимание это усиливается не в специальном контексте выживания, а в общих категориях. Следовательно, то, что мы таким образом приобретаем, может быть применимо повсюду, в любое время, при любых обстоятельствах.
Я опустил тему успехов науки и промышленности, потому что она связана, главным образом, с развитием специфических методов, используемых для достижения главных целей, направленных на выживание вида, таких как борьба за существование (вооружение), обеспечение питанием (сельское хозяйство), создание домашнего очага (архитектура) и забота о здоровье (медицина). Впрочем, интересно отметить, что со временем, по мере все большего взаимопроникновения технических достижений, тяга к чистым исследованиям проникла и в область науки. В научном поиске — само слово «поиск» происходит от глагола «искать» — по существу, используется тот же игровой принцип, о котором уже упоминалось. Производя «поиск в чистом виде», ученый использует свое воображение, как и художник. Он говорит о красоте эксперимента, а не о его пользе. Исследования интересуют его как таковые, как процесс, равно как и художника — творчество. Если результаты его трудов оказываются полезными с точки зрения конкретной проблемы выживания, тем лучше, но это лишь на втором плане.
В любой исследовательской работе, будь то художественная или научная деятельность, всегда происходит борьба неофильского начала с неофобским. Первое подталкивает нас к проведению новых опытов, заставляет жаждать новизны. Второе тянет нас назад, заставляет укрываться в привычном. Мы разрываемся на части между стремлением испытать восхитительные новые ощущения — с одной стороны, и предаться привычным ощущениям — с другой. Если мы утратим неофилию, начнется застой. Если утратим неофобию, то сломя голову помчимся навстречу беде. Такое противоречивое поведение не только объясняет наблюдаемые изменения в стиле причесок и одежде, мебели и автомобилей. Оно является сутью нашего культурного прогресса. Мы исследуем и оказываемся на старых позициях, изучаем и стабилизируемся. Шаг за шагом мы расширяем осознание и понимание самих себя и сложного окружающего мира, в котором живем.
Прежде чем покончить с этой темой, укажем на один. последний аспект исследовательской деятельности, который нельзя оставить без внимания. Он касается критической фазы социальной игры в детский период. В младенчестве непосредственным объектом социальной игры ребенка являются, главным образом, его родители. Однако по мере его подрастания упор смещается от родителей к его сверстникам. Ребенок становится участником детской «игровой группы». Это критический шаг в его развитии. Будучи частью исследовательской работы ребенка, этот этап приобретает важное значение в его дальнейшей жизни как личности. Разумеется, все виды исследований в этом нежном возрасте имеют далеко идущие последствия: ребенок, который не изучает возможности музыки или живописи, столкнется с трудностями, осваивая эти виды деятельности, когда станет взрослым. Однако личные игровые контакты важнее всех прочих. Скажем, взрослый, начавший заниматься музыкой впервые в жизни, не имея такого опыта в детстве, может столкнуться с проблемами. Однако положение его не безнадежно. Зато ребенок, лишенный социального контакта как представитель игровой группы, став взрослым, всегда будет встречать затруднения при социальных взаимодействиях. Опыты с обезьянами показали, что изоляция в детстве не только обусловливает социальную замкнутость во взрослой жизни, но и приводит к появлению индивида, враждебно относящегося к вопросам пола и родительским обязанностям. Обезьяны, воспитанные в изоляции от остальных детенышей, не могли участвовать в групповых играх после того, как получили такую возможность в подростковом возрасте. Хотя изолированные особи были физически здоровы и достигли нужного роста, живя в изоляции, они не смогли постоять за себя в драке. Скорчившись, они неподвижно сидели, забившись в угол игровой комнаты, как правило, прижимая руки к туловищу или закрывая ими глаза. Повзрослев, такие индивиды, несмотря на то, что были вполне здоровы, не проявляли никакого интереса к своим сексуальным партнерам. После принудительного спаривания самки производили нормальное потомство, но затем стали относиться к своим детенышам так, словно это были огромные паразиты, ползающие у них по телу. Они нападали на своих чад, прогоняли их, а затем или убивали, или не обращали на них никакого внимания.
Аналогичные эксперименты с молодыми шимпанзе показали, что с помощью продолжительной реабилитации и особого ухода можно в известной степени ликвидировать этот поведенческий ущерб, последствия которого нельзя недооценивать. Если же говорить о нашем виде, то излишне опекаемые дети всегда будут испытывать свою ущербность, став взрослыми. (Это особенно важно знать, когда в семье единственный ребенок и отсутствие братьев и сестер с самого начала ставит его в невыгодное положение.) Если они не подвергаются уравновешивающему воздействию детских игровых групп с их стычками и ссорами, то они до конца жизни останутся робкими и замкнутыми; создание пары для них станет трудным, а то и вовсе невозможным, родители же из них, если им удастся стать таковыми, получатся никудышные.
Отсюда ясно, что процесс воспитания включает две отдельные фазы: одну — раннюю, ориентированную внутрь, и вторую — позднюю, ориентированную наружу. Обе они жизненно важны. Мы можем многое узнать о них, изучая поведение обезьян. На первом этапе жизни мать любит детеныша, вознаграждает и охраняет его. Он чувствует себя защищенным. На следующем этапе поощряется его самостоятельность, он должен участвовать в социальных контактах со своими сверстниками. Мать сокращает проявления своей любви и ограничивает защиту детеныша теми моментами, когда возникает паника или когда колонии угрожает серьезная внешняя опасность. Мать может даже наказать подросшее чадо, если оно будет цепляться за нее, когда нет никаких причин для опасения. Тогда детеныш начинает сознавать свою независимость и воспринимать это как нечто неизбежное.
Точно такой должна быть и ситуация с человеческими детенышами. Если одна из этих фаз будет нарушена по вине родителей, то ребенок всю дальнейшую жизнь будет попадать в беду. Если он был лишен начальной фазы — фазы безопасности, но оказался достаточно активен в фазе независимости, он сумеет довольно легко установить новые социальные контакты, но не сумеет их сохранить или придать им глубину. Если же ребенок чувствовал свою защищенность в раннем детстве, а затем его чересчур опекали, то, когда он станет взрослым, ему будет крайне трудно установить новые контакты и он будет отчаянно цепляться за прежние.
Если внимательнее взглянуть на наиболее типичные случаи ухода от общества, можно обнаружить признаки поведения, направленного против всяческих исканий, в самой экстремальной и характерной форме. По-настоящему замкнутые индивиды могут стать социально пассивны, но зато физически они активны. Их преследуют стереотипы повторного действия. Час за часом они раскачиваются взад и вперед или из стороны в сторону, кивают или качают головой, вращаются вокруг оси или подергиваются всем телом, обхватывают себя руками, затем разжимают объятия. Могут сосать палец, тыкать себя в бок или щипать, то и дело корчить гримасы, ритмически постукивать какими-нибудь мелкими предметами или катать их. У всех иногда появляется «тик» такого рода, но у данных индивидов это становится главной и продолжительной формой физических упражнений. Они находят окружающий мир настолько угрожающим, а социальные контакты настолько пугающими и невозможными, что ищут утешения и опоры в собственном поведении, делая его чересчур знакомым. Ритмическое повторение какого-либо действия делает мир все более знакомым и «безопасным». Вместо того чтобы выполнить множество самых разных действий, нелюдим держится за те, которые ему больше всего знакомы. Старая поговорка: «Кто не рискует, тот не выигрывает» у него превратилась в другую: «Кто не рискует, тот ничего не теряет».
Я уже отмечал успокаивающее действия ритма сердцебиения. Это применимо и к данному случаю. Создается впечатление, что многие из упомянутых действий происходят с частотой сердцебиения. Даже те, которые не совпадают с его ритмом, действуют успокоительно вследствие их привычности, обусловленной частыми повторами. Замечаю, что у социально отсталых индивидов их стереотипы поведения усугубляются, когда их помещают в незнакомую комнату. Такое явление согласуется с гипотезой, выдвинутой нами. Новизна обстановки усиливает неофобские страхи, и, чтобы исправить положение, требуются дополнительные усилия.
Чем чаще повторяется стереотип, тем больше он походит на искусственно воспроизведенный звук биения материнского сердца. Он становится настолько близким, что действие его отныне необратимо. Даже если причина, вызывающая неофобию, устраняется (что сделать достаточно трудно), нелюдим может продолжать дергаться.
Как я уже говорил, такие «тики» время от времени могут появляться и у социально приспособленных индивидов. Обычно это происходит в стрессовых ситуациях, и такие действия успокаивают их. Всем нам известны признаки волнения. Ответственный служащий, ожидающий важного телефонного звонка, постукивает или барабанит по столу; женщина, ожидающая приема у врача, соединяет и разъединяет пальцы, в которых держит сумочку; смутившийся ребенок раскачивается из стороны в сторону; будущий отец ходит взад и вперед; студент на экзамене грызет карандаш; встревоженный офицер поглаживает усы. В небольших дозах такие действия полезны. Они помогают нам справляться с предстоящей «излишней дозой новизны». Однако, если ими пользоваться слишком часто, возникает опасность, что они станут необратимыми и навязчивыми и будут возникать даже без всякой необходимости.
Стереотипы возникают также в условиях крайней скуки. Это можно наблюдать как у животных в зоопарке, так и у представителей нашего вида. Такие действия могут достигать ужасающих пропорций. Дело в том, что пойманные животные могли бы иметь социальные контакты, будь у них такая возможность, но они физически лишены ее. По существу, возникает такая же ситуация, как и в добровольном уходе в себя. Ограниченное пространство клетки лишает контактов и приводит животных к социальной изоляции. Прутья клетки зверинца представляют собой вещественный эквивалент психологических барьеров, с которыми сталкивается социально замкнутый индивид. Такая преграда является мощным средством подавления исследовательского инстинкта, и животное, попавшее в зверинец, лишенное возможности исследовать окружающий мир, начинает самовыражаться единственным доступным ему способом, вырабатывая ритмичные стереотипы. Нам всем знакомо зрелище животного, расхаживающего взад и вперед по клетке, но это лишь один из вариантов поведения пленника. Подчас может происходить имитация мастурбации: животное даже не прикасается к своему пенису. Индивид (обычно мелкая обезьяна) только двигает рукой взад и вперед, не дотрагиваясь до члена. Некоторые обезьяны-самки то и дело сосут свои груди. Молодые животные сосут лапы. Шимпанзе могут засовывать солому себе в уши (вовсе не больные). Слоны, бывает, часами кивают головой. Некоторые звери то и дело кусают себя или рвут на себе шерсть. Может дойти и до нанесения серьезных увечий. Некоторые реакции такого рода возникают в стрессовых ситуациях, но зачастую животные совершают такие действия просто от скуки. Когда нет разнообразия в окружающей среде, стремление к поиску сходит на нет.
Наблюдая за изолированным животным, совершающим одно из таких стереотипных действий, нельзя установить наверняка, что именно является причиной его ненормального поведения. Ею может быть скука, а возможно, и стресс. Если это стресс, то он может быть вызван только что возникшей ситуацией, а может оказаться и постоянным состоянием, обусловленным ненормальным воспитанием. Ответ можно получить, проведя ряд простых опытов. Если в клетке оказывается какой-нибудь незнакомый предмет, стереотипное поведение прекращается, а животное начинает проявлять интерес к данному предмету, то очевидно, что оно было вызвано скукой. Если же стереотипные действия учащаются, то они — результат стресса. В случае, если они не прекращаются и после того, как в клетку поместили других особей того же вида, создав таким образом нормальную социальную среду, то у индивида со стереотипным поведением почти наверняка было детство, проведенное в изоляции.
Все эти зоологические особенности можно наблюдать и у представителей нашей расы (возможно, потому мы и спроектировали зверинцы такими похожими на наши города). Они должны служить нам уроком и напоминать о настоятельной необходимости установления равновесия между нашими неофобскими и неофильскими наклонностями. Если же мы этого не сделаем, то не сможем функционировать надлежащим образом. Наша нервная система сделает все, что в ее силах, однако результаты окажутся жалким подобием нашего подлинного потенциала.
Глава пятая
Самоутверждение
Если мы хотим понять природу нашей агрессивности, то должны рассматривать ее с точки зрения нашего животного происхождения. Как вид, мы в настоящее время так озабочены расширением массового производства вооружений, что склонны утрачивать свою объективность, когда обсуждаем этот вопрос. Как известно, самые уравновешенные интеллигенты зачастую становятся до нетерпимости агрессивны, когда заходит речь о настоятельной необходимости покончить с агрессивностью. Это неудивительно. Мы, мягко выражаясь, попали в неприятное положение и, весьма вероятно, когда-нибудь сами уничтожим себя. Единственное утешение заключается в том, что мы интересно прожили свой век. Век оказался не таким уж и долгим, если говорить о нашем виде, зато удивительно насыщенным событиями. Однако прежде чем рассматривать наши странные способы усовершенствования средств нападения и защиты, мы должны изучить природу насилия в мире животных, не имеющих ни копий, ни пушек, ни бомб.
Животные дерутся между собой по двум весьма веским причинам: или с целью утвердить свое главенство в социальной иерархии, или же защитить право на владение каким-либо участком территории. Некоторые виды животных сугубо иерархичны и не имеют определенной территории. Другие сугубо территориальны и не имеют проблем с иерархией. У третьих существует иерархия на их территориях, и они вынуждены бороться с обеими формами агрессивности. Мы принадлежим к последней группе и являемся как субъектами, так и объектами этой борьбы. Как приматы, мы уже испытали бремя иерархической системы. Это основной принцип жизни приматов. Группа животных постоянно перемещается, слишком редко задерживаясь на одном месте надолго, чтобы им понадобилось закреплять за собой определенную территорию. Между отдельными группами могут возникать конфликты, но они бывают недостаточно организованны, кратковременны и играют сравнительно незначительную роль в жизни обычной обезьяны. Зато иерархия в стае (очередность клевка, поскольку эта проблема впервые обсуждалась в отношении кур) имеет важное значение в ее каждодневной, даже ежеминутной, жизни. У большинства мелких и крупных обезьян существует твердо установившаяся социальная иерархия. Причем во главе группы стоит вожак-самец, а остальные подчинены ему согласно разным степеням субординации. Когда он становится слишком стар или слаб, чтобы поддерживать свое главенство, его свергает более молодой и сильный самец, который затем облачается в мантию властелина колонии. (В некоторых случаях узурпатор в буквальном смысле украшает себя мантией, отращивая гриву волос, ниспадающих ему на плечи.) Поскольку группа всегда держится вместе, роль тирана требует постоянного вмешательства в ее дела. Однако при всей своей занятости он неизменно остается самым откормленным, ухоженным и сексуальным самцом в колонии. Не все виды приматов прибегают к жестокости, утверждая свое первенство в социальной иерархии. Почти всегда появляется тиран, но иногда это благожелательный и довольно терпимый тиран, как это произошло с могучей гориллой. Он делится самками с самцами меньшего калибра, щедр при распределении пищи и утверждает свою власть лишь в том случае, когда речь заходит о чем-нибудь таком, чем делиться нельзя, когда замечает признаки назревающего мятежа или когда начинаются распри между более слабыми самцами.
После того как голая обезьяна стала участником совместной охоты с постоянной базой, первоначальную систему, совершенно очевидно, следовало изменить. Как и сексуальное поведение, свойственную приматам систему пришлось реформировать в соответствии с принятой на себя ролью плотоядного животного. Сообществу пришлось стать территориально-зависимым. Ему потребовалось защищать район, прилегающий к его постоянной базе. Благодаря коллективному характеру охоты это нужно было осуществить в групповом, а не в индивидуальном порядке. Внутри группы понадобилось значительно видоизменить систему тиранической иерархии обычной колонии приматов, чтобы обеспечить во время охоты полное сотрудничество более слабых представителей колонии. Но такую иерархию нельзя было ликвидировать полностью. Понадобилась более либеральная форма иерархии с сильными членами сообщества и вожаком во главе, чтобы можно было принимать жесткие решения, даже если этот вожак был вынужден учитывать мнения своих подчиненных гораздо чаще, чем это сделали бы его волосатые предки, обитавшие в лесных чащах.
Помимо групповой защиты территории и иерархической организации, продолжительная зависимость молодежи от родителей, вынуждающая нас создавать парные семейные ячейки, требовала еще одной формы самоутверждения. Будучи главой семьи, каждый самец должен был защищать свою собственную индивидуальную базу, расположенную внутри общей базы колонии.
Поэтому у нас существуют три вида агрессивности, а не обычные один или два. Как мы знаем по собственному опыту, несмотря на сложные отношения внутри нашего общества, они до сих пор проявляются очень ярко.
Как же проявляет себя агрессивность? Каковы поведенческие модели? Каким образом мы стращаем друг друга? Снова приходится сравнивать себя с другими животными. Когда в млекопитающем просыпается агрессия, в его организме происходит ряд коренных физиологических изменений. С помощью автономной нервной системы весь механизм должен быть настроен на действие. Эта система состоит из двух противоположных и взаимно уравновешивающих подсистем — симпатической и парасимпатической. Первая обеспечивает подготовку организма к энергичным действиям. Вторая имеет своей задачей сохранение и восстановление ресурсов тела. Первая как бы заявляет: «Ты готов к битве, принимайся за дело». Вторая же говорит: «Спокойно, расслабься и береги силы». В обычных условиях организм прислушивается к обоим этим голосам, и между ними сохраняется равновесие. Однако в случае крайне агрессивного настроения он повинуется только симпатической системе. Когда она приходит в действие, в кровь вспрыскивается адреналин и вся система кровообращения претерпевает значительные изменения. Усиливается сердцебиение, от кожных покровов и внутренних органов кровь поступает в мышцы и мозг. Повышается кровяное давление. Резко увеличивается производство красных кровяных телец. Уменьшается время свертываемости крови. Кроме того, прекращается процесс переваривания и усвоения пищи. Ограничивается слюноотделение. Замедляется работа желудка, движение желудочных соков и перистальтика кишечника. Содержимое прямой кишки и мочевого пузыря опоражнивается труднее, чем в нормальных условиях. Углеводы подаются из печени в кровь, обогащая ее сахаром. Значительно усиливается вентиляция легких. Дыхание учащается и становится более глубоким. Включаются механизмы, регулирующие температуру тела. Шерсть встает дыбом, и начинается обильное потоотделение.
Все эти изменения помогают животному подготовиться к битве. Словно по волшебству, тотчас пропадает усталость и появляется масса энергии, необходимой для предстоящей физической борьбы за выживание. Мощными потоками кровь подается туда, где она нужнее всего: в мозг — для скорейшего обдумывания решений, и в мускулы — для энергичных действий. Увеличение содержания сахара в крови усиливает мышечную активность. Ускорение процесса свертываемости крови означает, что в том случае, если при столкновении будет пролита кровь, то она коагулирует быстрее и ее потеря уменьшится. Повышенная отдача селезенкой кровяных телец в сочетании с увеличенным объемом помогает органам дыхания ускорить поступление кислорода в организм и вывод из него углекислого газа. Встав дыбом, шерсть обнажает кожу, что, как и потоотделение, способствует охлаждению тела. Поэтому уменьшается опасность его перегрева вследствие буркой деятельности животного.
После того как все жизненно важные системы приведены в действие, оно готово броситься в бой. Но тут происходит загвоздка. Ожесточенное сражение может привести к желанной победе, но при этом серьезные раны может получить и победитель. Противник неизменно вызывает не только агрессивность, но и страх. Агрессивность подстрекает животное к столкновению, страх удерживает от него. Возникает конфликтная ситуация. Как правило, животное, настроенное на драку, сразу в нее не лезет. Оно начинает с угроз. Противоречивые чувства удерживают его, решившего сражаться, но еще не готового к тому, чтобы напасть. Если же, находясь в таком состоянии, оно сумеет напустить страху на супостата и тот отступит, это будет наилучшим выходом из положения. Победу можно одержать и без пролития крови. Данный вид в состоянии решать споры между своими представителями без причинения ими излишнего ущерба друг другу и явно извлекает из этого пользу.
Среди представителей высших животных наблюдается явная тенденция в этом направлении, когда предпочитается ритуальная схватка. Физическое противостояние сплошь и рядом вытесняется угрозами и угрожающими действиями. Конечно же, время от времени кровавые столкновения все-таки происходят. Но это случается лишь при крайней необходимости, после того как с помощью агрессивных сигналов и ответных угроз не удалось уладить спор. Серьезный характер внешних признаков физиологических изменений, которые я описал выше, указывает противнику, сколь энергично агрессивное животное готовится к стычке.
С поведенческой точки зрения этот механизм срабатывает великолепно, но с физиологической точки зрения он создает известного рода проблему. Все системы организма настроены на полную отдачу энергии. Однако ожидаемой разрядки напряжения не происходит.
Как же справляется с такой ситуацией автономная нервная система? Она отправила всех своих бойцов на передовую готовыми к бою, но, как оказалось, они одним лишь своим появлением выиграли битву. Что же теперь происходит?
Если бы столкновение произошло в результате мощного включения симпатической нервной системы, то вся энергия организма, заряженного ею, была бы использована полностью. После того как энергия была израсходована, включилась бы парасимпатическая система, которая постепенно вернула бы организм в спокойное состояние. Но в состоянии напряженности, когда агрессивность борется со страхом, все оказывается в подвешенном состоянии. В результате парасимпатическая система отчаянно борется, и автономный маятник начинает бешено раскачиваться взад и вперед. По мере того как проходят моменты угрозы и вторичной угрозы, мы видим, что вспышки деятельности парасимпатической системы чередуются с симптомами работы симпатической системы. Сухость во рту может смениться обильным слюноотделением. Напряженное состояние кишечника может прерваться, и произойдет внезапная дефекация. Моча, надежно удерживаемая в мочевом пузыре, может хлынуть из него потоком. Кровь, отхлынувшая от кожных покровов, может потечь вспять, и невероятная бледность сменится румянцем. На смену глубокому и частому дыханию, неожиданно прерванному, приходит хватание воздуха ртом и судорожные вздохи. Таковы отчаянные попытки парасимпатической системы бороться с активной деятельностью симпатической системы. В нормальных условиях не могло быть и речи о том, чтобы интенсивные реакции одного вида происходили бы одновременно с такими же реакциями противоположного направления. Однако в экстремальных условиях агрессивности и угрозы все мгновенно выбивается из графика. (Это может объяснить, почему под влиянием сильного шока люди падают в обморок. В таких случаях кровь, прилившая к мозгу, может отхлынуть от него столь внезапно, что это тотчас приводит к потере сознания.)
Что касается системы, реагирующей на угрозу, то ее наличие — это благо. Она представляет собой еще более богатый источник сигналов. В процессе эволюции эти сигналы, свидетельствующие о тех или иных настроениях, усиливались и усложнялись различными способами. Для многих видов млекопитающих дефекация и мочеиспускание стали важными способами мечения территории. Наиболее знакомый нам пример — когда домашние псы задирают ногу у столба на своем участке. Особенно стараются соперничающие псы при взаимных столкновениях. (Улицы наших городов чрезвычайно стимулируют такого рода деятельность, поскольку представляют собой территории, на которые претендуют множество соперников, поэтому каждая собака вынуждена метить своим запахом эти участки, пытаясь отстоять собственные права.) Некоторые виды животных разработали особый способ выделения экскрементов. Гиппопотам имеет специально приплюснутый хвост, которым он быстро размахивает в обе стороны в процессе дефекации. В результате фекалии разбрызгиваются веером, покрывая большую площадь. У многих животных имеются особые анальные железы, которые придают специфический залах их испражнениям.
Нарушения кровообращения, приводящие к чрезмерной блеклости или сильной красноте кожного покрова, были устранены с появлением, в качестве сигналов, обнаженных участков кожи на морде одних животных и на седалище других. Широко разинутый рот и хрип, появляющийся в результате возникновения проблем с органами дыхания, превратились в рык, рев и многие другие звуки, выражающие агрессивность. Была выдвинута гипотеза, что эти звуки легли в основу целой системы общения посредством вокализованных сигналов. Еще один вид сигналов, обусловленных энергичным использованием дыхательных путей, — это демонстрация своей величины за счет надувания полостей. Многие животные угрожающе надуваются, для чего они могут иметь специальные надувные мешки и карманы. (Это особенно характерно для птиц, у которых имеется зоб, представляющий собой важный элемент органов дыхания.)
Агрессивное поднятие волосяного покрова привело к возникновению специальных участков, таких как холки, капюшоны, гривы и челки. Эти и другие места с волосяным покровом стали бросаться в глаза. Волосы удлинились или стали жесткими. Их окраска зачастую коренным образом изменяется, в результате чего возникает участок, значительно отличающийся по цвету от остального покрова. Когда животное в состоянии агрессии, шерсть встает дыбом, выделенные участки становятся больше и ярче, и оно сразу выглядит крупнее и опаснее.
Еще одним источником сигналов стало выделение пота животными, находящимися в состоянии агрессии. У многих из них в процессе эволюции возникли специализированные железы. Некоторые потовые железы увеличились до значительных размеров и стали выполнять функции желез секреции. У многих видов животных их можно обнаружить на морде, лапах, хвосте и других частях тела.
Все эти усовершенствования обогатили систему общения животных и сделали их сигнальный язык более гибким и многозначным. Они способствуют лучшей «читаемости» в более понятных категориях поведения агрессивно настроенного животного.
Но это лишь половина истории. До сих пор мы рассматривали только сигналы автономной системы. Кроме них, существует целый ряд других, обусловленных движениями напряженных мускулов и угрожающих поз. Автономная нервная система лишь настроила организм на энергичную работу мышц. Как же они отреагировали? Напряглись в ожидании нападения, но нападения не произошло. В такой ситуации осуществляется серия движений, выражающих агрессивность намерений, ряд неоднозначных действий, принимаются позы конфликтного порядка. Животное подергивается всем туловищем под воздействием импульсов противоположного значения — не то нападать, не то спасаться бегством. Оно то устремляется навстречу противнику, то отступает, извивается всем телом, приседает, вскакивает, то снова подастся вперед, то отпрянет. Едва стремление напасть на противника начинает преобладать, как желание бежать прочь отменяет первую команду. Любое движение вспять тотчас пресекается, сменяясь наступательным порывом. В процессе эволюции такое возбужденное состояние закрепилось в особых позах, выражающих угрозу и агрессивность. Движения, обозначающие намерения животного, стали стилизованными; неоднозначные жесты превратились в ритмичное подрагивание и встряхивание. Был разработан и усовершенствован целый арсенал агрессивных сигналов.
В результате у многих животных мы можем наблюдать сложные боевые ритуалы и «танцы». Соперники кружат напротив друг друга словно на ходулях, тела их напряжены и жестки. Они могут наклонять голову, кивать, встряхиваться, вздрагивать, ритмично покачиваясь из стороны в сторону, или совершать короткие, стилизованные перебежки. Они роют лапами землю, выгибают спину дугой или опускают голову вниз. Все эти движения имеют важное информационное значение и эффективно сочетаются с сигналами автономной нервной системы, позволяющими получать представление о том, насколько стремление напасть уравновешивается стремлением отступить.
Но это еще не все. Существует еще один важный источник специальных сигналов, обусловленных такой поведенческой категорией, как «отвлекающие действия». Один из необычных эффектов внутреннего конфликта состоит в том, что подчас животное начинает вести себя странно и нелогично. Создается впечатление, что животное в возбужденном состоянии, неспособное осуществить ни одно из тех действий, которые оно отчаянно пытается совершить, находит выход своей энергии совсем в другой, совершенно не связанной с предыдущей области. Его желание спастись бегством блокирует стремление напасть на противника и наоборот, поэтому животное выражает свои эмоции иным образом. Мы можем наблюдать, как стоящие в угрожающих позах соперники неожиданно делают вид, что готовы приступить к еде, а затем внезапно вновь становятся в боевую стойку. Животные также могут чесаться, чиститься, перемежая эти занятия с типично агрессивными действиями. Некоторые животные в качестве отвлекающего маневра делают вид, что строят гнездовья, подбирая пучочки строительного материала, оказавшегося рядом, и укладывая их на место мнимого гнездовья. Другие словно бы мгновенно «засыпают», пряча голову как бы для сна, зевают или потягиваются.
Вокруг этих отвлекающих действий было много споров. Утверждалось, будто бы объективно неоправданно называть их неуместными. Дескать, если животное ест, значит, оно голодно; если чешется, то у него зуд. Подчеркивается, будто бы невозможно доказать, что принявшее угрожающую позу животное не голодно, когда делает вид, что ест, или что не испытывает зуд, когда чешется. Но это критика кабинетных ученых, которая представляется явной глупостью каждому, кто в действительности наблюдал и изучал столкновения агрессивно настроенных соперников, принадлежавших к различным видам животных. Напряжение и драматичность этих моментов таковы, что смешно предположить, что противники прервут свою «дуэль» даже на мгновение ради того, чтобы действительно поесть, почесаться или поспать.
Несмотря на утверждения ученых о причинном характере механизмов, обусловливающих отвлекающие действия, ясно одно: в функциональных категориях они обеспечивают еще один источник полезных сигналов, связанных с агрессивным поведением животных. Многие из них утрируют такого рода действия, нарочито демонстрируя свою боевитость.
Следовательно, все эти действия — сигналы автономной нервной системы, движения, имитирующие агрессивность, двусмысленные позы и отвлекающие маневры — стали чем-то вроде ритуала. В результате животные располагают полным арсеналом угроз. В большинстве случаев их будет достаточно для того, чтобы решить спор между соперниками, не доводя дело до столкновения. Однако, если такая система не срабатывает, например, в условиях большой скученности, то происходит драка, и демонстрация силы сменяется ее применением. Тогда в ход идут зубы — чтобы кусать, наносить рваные или проникающие раны; голова и рога — чтобы наносить удары и колоть; туловище — чтобы таранить, толкать и теснить; ноги — чтобы когтить, пинать и бить; лапы — чтобы хватать и давить. Иногда в ход идет хвост — чтобы молотить им и хлестать. Но даже в таких случаях соперники редко убивают друг друга. Животные, выработавшие особые приемы убийства своих жертв, нечасто используют их, сражаясь с себе подобными. (Иногда допускаются серьезные ошибки, когда находят связь между поведением хищника, атакующего жертву, и поведением хищника, нападающего на соперника. Оба вида поведения сильно отличаются как побудительными причинами, так и образом действия.) Как только противник в достаточной мере подавлен, он перестает быть угрозой, и на него не обращают внимания. К чему понапрасну расходовать энергию? Поэтому ему разрешают убраться восвояси. Прежде чем рассматривать эти агрессивные действия применительно к нашему виду, следует изучить еще один аспект поведения животных. Оно связано с поведением побежденного. После того как его положение стало безвыходным, ему следует как можно скорее ретироваться. Но это не всегда осуществимо. Путь к отступлению может оказаться отрезанным. Если же проигравший — представитель сплоченной социальной группы, ему, возможно, придется не удаляться от победителя. В любом случае он должен как-то показать более сильному животному, что уже не представляет собой угрозы и не намерен продолжать стычку. Если же он покинет поле боя после того, как будет сильно изранен или выбьется из сил, это станет вполне очевидно, и одержавший верх зверь уйдет прочь и оставит его в покое. Но если проигравший сигнализирует о том, что признает свое поражение прежде, чем его положение вконец ухудшится, то сможет избежать серьезных повреждений. Это делается с помощью демонстрации своей покорности. Особые позы и приемы умиротворяют нападающего и быстро ослабляют его агрессивность, приводя дело к мирной развязке. Делается это несколькими способами. По сути, они или выключают сигналы, вызывающие агрессивность соперника, или включают другие, определенно исключающие агрессивность. Первые служат для того, чтобы попросту успокоить более сильное животное, вторые активно помогают ему изменить настроение на мирное. Самая примитивная форма проявления подчиненности — это явная пассивность. Поскольку агрессивность связана с энергичными движениями, неподвижность автоматически означает ее отсутствие. Зачастую такая пассивность сочетается с позами раболепия и покорности.
Агрессивность подразумевает видимое увеличение туловища до предела, а припадание к земле — жест, имеющий противоположное значение и поэтому умиротворительный. Если отвернуться от нападающего, то это также помогает. Используются и другие приемы. Если животное того или иного вида выражает агрессивность намерений, припадая к земле, то поднятая голова может оказать успокаивающее действие на противника. Если животное перед нападением ощетинивается, то приглаженная шерсть, напротив, демонстрирует покорность. В некоторых случаях побежденный признает свое поражение, подставляя нападающему уязвимое место. К примеру, шимпанзе протягивает ему руку, рискуя быть опасно укушенным. Поскольку обезьяна, имеющая агрессивные намерения, этого никогда бы не сделала, такой жест умиротворит доминирующее животное.
Вторая группа умиротворительных сигналов служит для переориентирования намерений победителя. Подчинившееся животное подает сигналы, подавляющие воинственный пыл. Делается это тремя способами. Наиболее распространенным является поза молодого животного, выпрашивающего пищу. Более слабый индивид льнет к земле и просит еду у более сильного. К такому приему особенно часто прибегают самки, подвергающиеся нападению со стороны самцов. Зачастую он оказывается настолько эффективным, что самец отрыгивает часть пищи, которую и проглатывает самка, завершая таким образом ритуал. Теперь у самца появляется сугубо отеческое, покровительственное отношение к ней, и оба животных успокаиваются. Такой принцип кормления с целью ухаживания особенно распространен у птиц, когда на ранних стадиях создания пары самец часто ведет себя довольно агрессивно. Другой способ отвлечь противника от агрессивных намерений заключается в том, что более слабое животное принимает сексуальную позу. Независимо от пола, оно может неожиданно подставить противнику свой зад. Такого рода сигнал возбуждает в нападающем сексуальное желание, гасящее в нем агрессивность. В таких случаях доминирующий самец или самка залезает на побежденного самца или самку и совершает мнимое совокупление.
Третий способ умиротворения состоит в том, чтобы вызвать у победителя желание почиститься и быть почищенным. В мире животных много времени уделяется социальному или взаимному уходу за внешностью, с которым связаны яркие воспоминания о мирных временах в жизни сообщества. Более слабое животное или само сигнализирует победителю о своем желании поухаживать за его внешностью, или же просит у того разрешения заняться собственным внешним видом. К такой уловке очень часто прибегают мелкие обезьяны, для чего ими выработан особый сигнал: частое почмокивание. Это как бы модифицированный вариант обычной процедуры ухода за внешностью. Когда одна обезьяна приводит в порядок другую, она то и дело засовывает себе в рот отслоившиеся кусочки кожи и другой сор, причмокивая при этом губами. Утрируя и ускоряя такие движения, животное оповещает о своей готовности осуществить такую процедуру и нередко умудряется подавить таким образом агрессивность нападающего индивида и уговорить его разрешить поухаживать за ним. Некоторое время спустя доминирующее животное настолько успокаивается, чувствуя ласковые прикосновения «цирюльника», что слабаку удается ускользнуть.
При помощи такого рода церемоний и приемов животные улаживают свои конфликты. Выражение «зубы, когти — все в крови» вначале подразумевало жестокую охоту хищников, убивавших свои жертвы, но затем стало обозначать любые столкновения между животными. Нет ничего более далекого от истины, чем такое мнение. Если тот или иной вид животного хочет выжить, он просто не может позволить себе, чтобы его сородичи убивали друг друга. Внутривидовая агрессивность должна быть ограничена, и чем более мощными и опасными орудиями убийства оснащен данный вид, тем более жестким должен быть запрет на их применение в спорах между соперниками. Таков «закон джунглей», касающийся территориальных и иерархических претензий. Те виды животных, которые не следовали этому закону, давным-давно вымерли.
Каково же наше поведение в подобных ситуациях? Каков наш арсенал особых угрожающих и умиротворяющих сигналов? Каковы наши способы борьбы за самосохранение и как мы их контролируем?
Агрессивность пробуждает в нас такие же физиологические процессы, вызывает напряжение мускулатуры и нервнее возбуждение, как это описано выше. Подобно другим животным, мы начинаем перемещаться с места на место. В некоторых отношениях мы, в отличие от них, не так оснащены, чтобы превратить ощущение испытываемого неудобства в мощный сигнал. Например, мы не можем устрашить противника, взъерошив свою шерсть. Правда, в состоянии испуга и с нами такое происходит («У меня волосы встали дыбом»), но как сигнал это не срабатывает. Зато другие сигналы у нас получаются лучше. Нагота, из-за которой мы не можем взъерошиться как положено, позволяет нам вырабатывать мощные сигналы. Мы можем «побелеть от ярости», «побагроветь от гнева» или «побледнеть от страха». Особое внимание следует обратить на белый цвет: он свидетельствует о готовности к действию. Если он сочетается с другими признаками, указывающими на приближающееся нападение, то это важный признак опасности. Если он сочетается с действиями, указывающими на испуг, то это сигнал панического страха. Как вы помните, он обусловлен работой симпатической нервной системы, отдающей приказ: «Вперед!», и к нему нельзя относиться легкомысленно. Наоборот, красный цвет не столь опасен; краснота — это результат отчаянных попыток парасимпатической нервной системы показать, что система, отдающая приказ: «Вперед!», уже не всесильна. Злой, с багровым лицом, противник, с которым мы столкнулись, не столь опасен, как тот, у которого лицо побелевшее, с плотно сжатым ртом. Настроение у краснолицего таково, что его гнев под контролем, а белолицый все еще готов к нападению. С обоими шутки плохи, но противник с белым лицом нападет скорее, если его не улестить или самому не застращать.
Глубокое учащенное дыхание — это опасный симптом, но если оно превратилось в храп и брызганье слюной, то стало представлять меньшую опасность. Такая же связь существует между пересохшими губами противника, готового на вас наброситься, и слюнявым ртом того, кто сдерживает свою агрессивность. Мочеиспускание, дефекация и обморок обычно происходят чуть позже, после того как схлынет мощная ударная волна, сопровождающая моменты чрезвычайного напряжения.
Находясь под влиянием желания напасть и в то же время удрать, мы делаем характерные движения и принимаем неоднозначные позы. Наиболее знакомый сигнал — поднятие сжатого кулака — это ритуальный жест, имеющий двоякий смысл. Кулак показывают издали, когда нанести им удар противнику невозможно. Значение этого жеста символично, не более. (Сжатая в кулак рука, согнутая в локте и отведенная в сторону, стала знаком вызова со стороны коммунистических режимов.)
Можно погрозить кулаком, но и этот жест носит характер угрозы, а не готовности нанести удар. Мы наносим ритмичные «удары» кулаком, по-прежнему находясь на безопасном расстоянии от противника.
При этом мы можем подаваться всем телом вперед, время от времени удерживая себя от того, чтобы не зайти слишком далеко. Можем изо всех сил громко топать ногами и бить кулаком по любому находящемуся под рукой предмету. Такого рода действия мы зачастую можем наблюдать и у других животных, называя их переориентированными или перенаправленными действиями. Поскольку объект (противник), вызывающий в нас желание напасть на него, слишком грозен, агрессивные движения переориентируются на другую, не столь опасную цель, например какого-нибудь безобидного зеваку (все мы порой оказывались на его месте) или даже неодушевленный предмет. Если используется последний, то его могут разрушить. Когда жена швыряет на пол вазу, можете быть уверены, что на полу валяется разбитая вдребезги голова ее мужа. Любопытно, что таким приемом пользуются шимпанзе и горилла, которые ломают, рвут, повсюду разбрасывают ветви деревьев и листву. И это производит сильный эффект.
Очень важным дополнением к подобной демонстрации своей агрессивности является угрожающее выражение лица. Наряду с голосовыми сигналами, это наиболее надежный способ демонстрации нашей действительной воинственности. Хотя улыбка, о которой шла речь выше, — черта уникальная для нашего вида, агрессивное выражение лица, как оно ни впечатляет, ничем не отличается от выражения лица любого другого примата. (Мы с первого взгляда можем определить, какое у обезьяны лицо — свирепое или испуганное, но, чтобы установить, дружелюбное ли оно, требуется навык.) Правила весьма просты: чем больше преобладает стремление напасть над желанием сбежать, тем сильнее лицо вытягивается вперед. Если же верх берет последнее, то черты лица как бы оттягиваются назад. Придавая своему лицу угрожающее выражение, мы хмурим брови и плотно сжимаем губы. Когда же мы испытываем страх, брови у нас подняты, лоб наморщен, уголки губ опущены, губы раздвинуты, обнажая зубы. Такое выражение зачастую сопровождает другие жесты, на первый взгляд очень агрессивные. Наморщенный лоб, обнаженные зубы иногда воспринимаются как признаки «свирепости». В действительности же это признаки страха, и выражение лица сообщает, что страх все же присутствует, несмотря на угрожающую стойку индивида. В таком выражении лица все же имеется элемент угрозы, и с этим нельзя не считаться. Если бы лицо противника выражало один лишь неприкрытый страх, то он бы отступил.
Такого рода гримасы свойственны нам наряду с обезьянами. Об этом не следует забывать, если вам придется столкнуться лицом к лицу с взрослым бабуином. Однако существуют и другие жесты, которые выработались в результате культурного развития. К ним относится высунутый язык, надутые щеки, наморщенный нос, преднамеренно искаженные черты лица. Все это значительно увеличивает наш арсенал средств угрозы. Ко всему этому в большинстве культур добавилось множество угрожающих или оскорбительных жестов с использованием других частей тела. Движения, свидетельствующие об агрессивности намерений («безумные прыжки»), превратились во всевозможные крайне стилизованные свирепые и воинственные танцы. Их задача — всеобщее возбуждение и синхронизация сильных агрессивных чувств, а не демонстрация перед противником своих намерений.
Поскольку с появлением смертоносных видов вооружений мы стали потенциально опасными существами, неудивительно, что у нас появился целый набор умиротворительных средств. Как и у других приматов, у нас выработаны сигналы покорности. Для этого мы припадаем к земле, кричим. Кроме того, у нас имеется целый ряд поз, обозначающих подчиненность. Припадание к земле сменилось унижением и пресмыкательством. В неярко выраженных формах оно превратилось в опускание на колени, поклоны и книксены. Главным сигналом! здесь является выражение своей приниженности по отношению к доминирующему индивиду. Угрожая кому-то, мы пыжимся, стараясь казаться как можно выше ростом и мощнее. Поэтому в состоянии подчиненности все происходит наоборот, и тогда мы стараемся стать как можно ниже ростом.
Интересно также превращение в поклон первоначального свойственного приматам стремления припасть в страхе к земле. Суть жеста в том, чтобы потупить глаза. Пристальный взгляд в большинстве случаев свидетельствует об агрессивных намерениях. Это неотъемлемый элемент наиболее свирепого выражения: лица, сопровождающего все воинственные жесты. (Вот почему так трудна для ее участников детская игра «гляделки» и почему так осуждается взрослыми обыкновенное детское любопытство: «таращить глаза невежливо».) Независимо от того, насколько поклон, в силу социальных условностей, стал сдержанным, он всегда подразумевает стремление опустить лицо. К примеру, даже мужские представители королевского двора, благодаря частой практике, видоизменившей поклон, по-прежнему опускают свои лица. Однако вместо того чтобы поклониться от пояса, теперь они лишь чинно наклоняют голову.
При не столь официальных встречах, чтобы избежать пристального взгляда, попросту отводят глаза в сторону («бегающий взгляд»). Лишь индивид, настроенный по-настоящему агрессивно, станет продолжительное время смотреть на вас в упор. Во время обыкновенного разговора мы обычно прячем глаза, поглядывая на собеседника лишь в конце каждой фразы, чтобы увидеть его реакцию на каши слова. Лектору-профессионалу требуется некоторое время для того, чтобы осмелиться взглянуть на лица своих слушателей, а не смотреть поверх их голов на трибуну, стены или в конец зала. Хотя он и находится в выгодном положении, но слушателей так много и все они уставились на него, с удобством рассевшись в креслах, что он испытывает невольный и поначалу непреодолимый страх перед ними. Бороться с ним он научится лишь после продолжительной практики. Неприятное ощущение, что на тебя смотрят сотни зрителей, вызывает у актера легкую тошноту перед его появлением на сцене. Конечно же, он волнуется, не зная, как он исполнит роль и как его примут, но самым трудным для него испытанием являются взгляды множества людей. (На бессознательном уровне любопытный взгляд снова воспринимается, как взгляд-угроза.) Очки делают выражение лица более агрессивным, поскольку искусственно увеличивают размеры глаз. Спокойные люди предпочитают носить очки в тонкой оправе или вовсе без нее (возможно, не сознавая причину выбора), потому что это позволяет им лучше видеть окружающее, до предела уменьшая впечатление собственной агрессивности. Таким образом они избегают встречной враждебной реакции.
Более радикальный способ избежать чересчур пристального взгляда — закрыть глаза руками или уткнуться лицом в согнутую в локте руку. Опустив веки, вы также избежите назойливого взгляда. Любопытно, что кое-кто, сталкиваясь с незнакомыми людьми, невольно закрывает глаза. Создается впечатление, что человек моргает, но слишком долго держит веки опущенными. Если же люди разговаривают с близкими друзьями в обстановке, располагающей к беседе, то такая реакция исчезает. Пытаются ли они оградить себя от «угрожающего» присутствия незнакомца или же просто стараются избежать назойливого взгляда — не всегда понятно.
Благодаря их мощному запугивающему воздействию, у многих животных появились пятна, напоминающие гневные глаза и служащие средством самозащиты. На крыльях многих бабочек имеются отметины, похожие на пару глаз. Крылья находятся в сложенном состоянии, пока на насекомое не нападет враг. Тогда они раскрываются, и перед лицом противника вспыхивают яркие пятна. Экспериментально доказано, что это производит устрашающий эффект на агрессоров, которые зачастую обращаются в бегство и оставляют насекомое в покое. Такие защитные механизмы имеются у некоторых птиц и даже животных. При изготовлении промышленных товаров используется тот же принцип. Его применяют проектировщики автомобилей: придают фарам определенную форму и усугубляют общее впечатление агрессивности тем, что передок капота нередко напоминает нахмуренное лицо. Кроме того, между «глазными отметинами» они устанавливают декоративные решетки, напоминающие оскаленные зубы. По мере увеличения количества автомобилей на дорогах, управление ими становится все более воинственным занятием, а все более угрожающий вид машин придает определенную агрессивность и облику водителей. Даже названиям некоторых товаров придается вид грозного лица, к примеру ОХО, ОМО, OZO, OVO. К счастью для их изготовителей, они не отталкивают покупателей. Напротив, они привлекают их внимание, после чего оказывается, что это безобидные картонные упаковочные коробки. Однако впечатление произведено, выбор сделан в пользу именно данного товара, а не какого-то другого. Как я уже отмечал, шимпанзе умиротворяют более сильного противника, протягивая ему руку. Так же, как они, мы используем этот жест, когда просим милостыню или умоляем кого-то. Этот жест широко используется в качестве дружеского рукопожатия. Дружеские жесты зачастую имеют своим прообразом жесты раболепные. Мы убедились в этом, когда шла речь о таких сигналах, как улыбка и смех (кстати, они по-прежнему используются просителями в виде робкой улыбки или нервного хихиканья). Рукопожатие используется в качестве приветствия лицами приблизительно одинакового социального положения, но превращается в поклон с целованием протянутой руки при наличии заметного неравенства между ними. (В условиях все большего «уравнивания» полов и разных классов эта изысканная форма приветствия встречается все реже, но сохраняется в особых сферах, где строго соблюдается иерархия старшинства, как, например, в церковных кругах.) В некоторых случаях рукопожатие превратилось в обхватывание самого себя или ломанье рук. В некоторых культурах сто обычное заискивающее приветствие, в других оно используется в особых случаях, когда умоляют о чем-то.
Существует много других поведенческих приемов, обозначающих подчиненность, например выбрасывание полотенца или белого флага, но они нас сейчас не должны интересовать. Но некоторые наиболее простые приемы, переключающие внимание противника, заслуживают упоминания, потому что любопытным образом соотносятся с аналогичным поведением других видов животных. Вы помните, что с целью погасить агрессивное или потенциально агрессивное поведение противника использовались модели поведения «детского» типа или типа сексуального ухаживания. Особенно распространено «детское» поведение среди подобострастных взрослых на стадии флирта. Флиртующая пара зачастую начинает сюсюкать, как дети, не потому, что готовятся к роли родителей, а потому, что таксе поведение вызывает у партнера нежное, покровительское чувство и тем самым подавляет более агрессивные чувства (или чувство страха). Вспоминая, как такого рода поведение переросло в ухаживание-кормление у птиц, любопытно отметить, что в период флирта мы сами любим потчевать предмет своего внимания. Никогда в жизни мы не тратим столько усилий, чтобы угощать друг друга лакомыми кусочками или дарить коробки шоколадных конфет.
Что касается переключения внимания противника на вопросы секса, то это происходит всякий раз, когда более слабая особь (мужского или женского пола) принимает «женскую» позу в присутствии доминирующей особи (самца или самки) в контексте агрессии, а не в сугубо сексуальном. Явление это широко распространено, но специфический вариант принятия женской позы, когда в качестве умиротворяющего жеста подставляется крестцовая часть, фактически исчез. Он сохранился в основном в качестве наказания школьников, где ритмические удары розгами заменили ритмические движения таза доминирующего самца. Вряд ли школьные учителя стали бы продолжать такую практику, если бы отдавали себе отчет, что, но сути, они осуществляют е учениками имевшую место у первобытных приматов форму ритуальной копуляции. Они могли бы наказывать школьников и без того, чтобы заставлять их принимать позу покорной самки. (Показательно, что школьниц почти никогда так не порют — сексуальный характер такого наказания был бы очевиден.) Один ученый, наделенный воображением, предположил, что школьников заставляют снимать штаны и подвергают их наказанию не для того, чтобы усилить боль, а чтобы позволить доминирующему взрослому наблюдать, как краснеют ягодицы, что так живо напоминает о приливе крови у самки примата, доведенной «до кондиции». Как бы там ни было, но ясно, что этот ритуал оказался неудачным в качестве умиротворительного приема. Чем больше злосчастный школьник подспудно сексуально возбуждает самца, тем более вероятно, что ритуал будет продолжаться, и, поскольку ритмические движения таза символически превратились в ритмические удары тростью, страдания жертвы оказываются напрасными. Прямую агрессию удалось переключить на сексуальную, но этот вид агрессии символически превратился в физическую.
Третий способ избежать наказания играет незначительную, но важную для нас роль. Мы часто гладим и треплем по спине взволнованного человека, и многие лица, занимающие привилегированное положение в обществе, часами наблюдают за своими подчиненными, которые суетятся вокруг, стремясь ублажить их. Но к этой теме мы вернемся в другой главе.
Приемы для отвлечения внимания играют известную роль в случае встречи с агрессией и почти в любой стрессовой или напряженной ситуации. Однако мы отличаемся от других животных тем, что не ограничиваемся немногими поведенческими образцами. Мы используем фактически любое тривиальное действие, чтобы дать выход накопившимся эмоциям. Оказавшись в конфликтной ситуации, мы можем переставить предметы интерьера, закурить сигарету, протереть очки, взглянуть на наручные часы, налить себе какой-нибудь напиток или что-нибудь съесть. Конечно, любое из этих действий может иметь функциональное значение, но в качестве отвлекающих приемов они не срабатывают. Предметы интерьера уже стояли на нужном месте, и переставлять их, находясь в растрепанных чувствах, было ни к чему. Сигарету незачем было доставать, поскольку мы только что, нервничая, затушили почти целую. Количество выкуренного в минуты волнения превышает потребность организма в никотине. Очки, которые мы так старательно протираем, чисты и без того. Часы, которые мы энергично заводим, завода не требуют, тем более что, глядя в волнении на циферблат, мы даже не замечаем, какое время они показывают. Когда мы потягиваем напиток, это не значит, что мы испытываем жажду. Если мы глотаем еду, то не потому, что голодны. Все эти действия осуществляются не для того, чтобы получить нормальное удовлетворение, которое они доставляют, а для того, чтобы чем-то заняться и попытаться снять напряжение. Особенно часто такое происходит в начале каких-либо социальных встреч, которые могут таить страхи и агрессивные намерения. Будь-то на званом обеде или второстепенной конференции, как только завершатся взаимно успокаивающие церемонии в виде рукопожатий и улыбок, тотчас предлагаются отвлекающие сигареты, отвлекающие напитки и отвлекающие закуски. Даже в широкомасштабных развлечениях вроде спектаклей и киносеансов поток событий преднамеренно перемежается короткими перерывами, и тогда зрители могут на некоторое время предаться своим излюбленным отвлекающим занятиям.
В моменты особенной напряженности, связанной с агрессивностью, мы, по аналогии с другими приматами, стараемся переключиться на отвлекающие действия — действия более примитивного характера. В подобной ситуации шимпанзе отчаянно скребется — совсем не так, как она это делает, когда у нее зуд. Чешет она, как правило, голову, иногда руки. И сами движения довольно необычны. Мы ведем себя точно так же, принимаясь приглаживать себя, поправлять одежду, чтобы забыть о волнении. Мы скребем голову, кусаем ногти, проводим по лицу руками, словно моясь, пощипываем бороду или усы, поправляем прическу, потираем нос, ковыряем в нем, чихаем или сморкаемся, дергаем себя за мочки ушей, чистим уши, поглаживаем подбородок, облизываем губы или потираем руки. Если внимательно изучить моменты, связанные с конфликтными ситуациями, то можно заметить, что все такого рода действия напоминают некий ритуал, причем определенного порядка при этом не соблюдается. Один индивид может чистить голову совсем иначе, чем другой, но у каждого из них вырабатывается характерная манера. Поскольку никакой чистки в действительности не требуется, не имеет значения, что какой-то детали одежды уделяется большее внимание, чем другим. При любой социальной встрече, в которой участвует небольшое количество людей, определить, кто является подчиненным, очень легко по тому, как часто он делает вид, что приводит себя в порядок. По-настоящему доминирующий индивид никаких излишних движений не делает. Если же на первый взгляд доминирующий член какой-либо группы много суетится, это значит, что его официальному главенствующему положению как-то угрожают другие присутствующие.
При обсуждении всех этих видов агрессивного и покорного поведения подразумевалось, что индивиды, о которых шла речь, «говорили правду», а не преднамеренно изменяли свои поступки для достижения определенных целей. Мы чаще «лжем» словами, чем поведением, но даже в таком случае не следует исключать подобное явление. Чрезвычайно трудно солгать посредством поведенческих приемов, которые мы до сих пор обсуждали. Но все-таки это возможно. Как я уже отмечал, пытаясь обмануть внешним видом своих маленьких детей, родители наносят им гораздо больший вред, чем кажется. Когда же речь идет о взрослых, придающих гораздо больше значения словесной шелухе, в которую заключена информация при взаимных социальных контактах, обман удается чаще. На беду «поведенческого лжеца», он лжет, как правило, лишь с помощью отдельных элементов сигнальной системы. Другие же элементы, о существовании которых он не ведает, выдают его с потрохами. Наиболее успешные «поведенческие лжецы» — это те, кто, вместо того чтобы сознательно сосредоточиться на модификации характерных сигналов, мысленно погружается в то настроение, которое хочет передать окружающим, и не заботится о мелочах, которые получаются у них сами собой. Этот способ с большим успехом используют такие профессиональные лгуны, как актеры и актрисы. Вся их творческая жизнь — это преднамеренная ложь, причем такая деятельность может подчас нанести большой вред их личной жизни. Политикам и дипломатам также приходится много лгать в поведенческом плане, но, в отличие от актеров и актрис, у них кет «социальной лицензии на ложь», поэтому возникающее у них в результате чувство вины нередко мешает им выполнять свои служебные обязанности. Кроме того, в отличие от актеров, они не получают необходимого образования.
Но даже без специальной подготовки, лишь приложив небольшое усилие и досконально изучив сведения, изложенные в настоящей книге, можно добиться желаемых результатов. Раз или два я преднамеренно использовал этот прием при столкновении с полицейскими. Рассуждал я следующим образом. Если существует ярко выраженная биологическая тенденция успокаиваться при виде жестов покорности, то таким обстоятельством можно манипулировать сколько угодно, лишь бы применять соответствующие сигналы. Большинство водителей, задержанных полицейскими за мелкие нарушения правил дорожного движения, тотчас начинают убеждать их в полной своей невиновности или как-то оправдывать собственное поведение. При этом они яростно защищают свою (мобильную) территорию и в глазах полицейских посягают на их прерогативы. Это наихудшая линия поведения. Полицейские вынуждены переходить в контрнаступление. Если же вы примете позу полного подчинения, то офицеру полиции будет трудно устоять перед ощущением собственной значимости. Полное признание вашей вины, основанной на вашей непроходимой глупости и полнейшей никчемности, тотчас делают полицейского хозяином положения и мешает ему наброситься на вас. Надобно выразить благодарность и восхищение тем, как ловко он вас прищучил. Но одних слов недостаточно. Необходимы соответствующие позы и жесты. Надо всем своим обликом и выражением лица четко изобразить страх и покорность. Самое главное, нужно живехонько выйти из машины и поспешить к полицейскому. Нельзя допустить, чтобы он сам направился к вам, так как иначе вы помешаете стражу закона выполнять свои обязанности и станете для него угрозой. Кроме того, сидя в автомобиле, вы остаетесь на своей территории. Удалившись же от машины, вы автоматически ослабляете свой территориальный статус. К тому же сидячее положение подчеркивает ваше преимущество перед полицейским. Поза водителя — необычный элемент нашего поведения. Никто не вправе сидеть, если «король» стоит. Когда «король» встает, встают все. Это особое исключение из общего правила, касающегося агрессивной вертикальности, согласно которому покорность увеличивается с уменьшением вашей высоты. Поэтому, выходя из автомобиля, вы отказываетесь от своих территориальных прав и дающей вам преимущество сидячей позиции и ставите себя в подчиненное положение. Это шаг на пути к дальнейшим раболепным действиям. Однако, когда вы подниметесь, не вздумайте выпячивать грудь колесом. Надо чуть сгорбиться и поникнуть головой. Тон голоса так же важен, как и выбор слов. Весьма полезно придать своему лицу озабоченное выражение и глядеть в сторону. Для полноты впечатления неплохо сделать вид, что вы специально приводите себя в порядок.
К сожалению, всякий водитель настроен на то, чтобы храбро защищать свою территорию. Скрыть же свое агрессивное настроение очень трудно. Для этого нужна или продолжительная практика, или владение набором бессловесных сигналов. Если же вам недостает авторитета в будничной жизни, то такое представление, даже умело разыгранное, может оказаться для вас слишком неприятным. Лучше отделаться штрафом.
Хотя данная глава посвящена поведенческим приемам, используемым при столкновениях, до сих пор мы рассматривали лишь способы избежать противостояния. Когда же ситуация ухудшается настолько, что физические действия неизбежны, голая обезьяна, если она не вооружена, ведет себя таким образом, который значительно отличается от поведения других приматов. Для них главным оружием являются зубы, для нас — руки. Если приматы хватают неприятеля и кусают, то мы его давим или же наносим ему удары сжатыми кулаками. Зубы пускают в ход только младенцы или маленькие дети. Их мускулы еще не настолько развиты, чтобы можно было пустить в ход руки.
В настоящее время мы можем наблюдать за борьбой без оружия в чрезвычайно стилизованных вариантах, таких как классическая борьба, дзюдо и бокс. В первоначальной форме она встречается редко. Но едва вспыхивает настоящая драка, в ход идут различные орудия. В самой примитивной форме они могут представлять собой метательные снаряды или же как бы продолжения наших рук для нанесения ими тяжелых ударов. Оказавшись в особых обстоятельствах, до такого смогли додуматься далее шимпанзе. Находясь в полуневоле, они ломали сук дерева и с силой обрушивали его на чучело леопарда или через ров с водой швыряли в зевак комья земли. Однако не доказано, что шимпанзе прибегают к таким средствам, живя на свободе, тем более во время споров с соперниками. Тем не менее поведение этих приматов дает нам известное представление о том, как мы, по-видимому, начали использовать оружие для защиты от других животных и для охоты. Применение оружия в междоусобицах почти наверняка стояло на втором месте, но после того как оружие появилось, оно использовалось в экстренных случаях независимо от конкретных условий.
Самым примитивным оружием был твердый, прочный, но необработанный кусок дерева или камень. С помощью незначительных усовершенствований формы подобных предметов такие немудреные действия, как швыряние камней или нанесение ударов, дополнялись метанием копий, нанесением рубленых, резаных и колотых ран.
Следующим важным поведенческим шагом в методах нападения стало увеличение расстояния между атакующим и его противником. Именно этот шаг чуть нас не погубил. Копье можно метать издалека, но дистанция его полета ограничена. Стрелы летят дальше, но не всегда попадают в цель. Пушки значительно увеличивают радиус действия, но бомбы можно сбрасывать, доставляя их по воздуху на еще большее расстояние. Что же касается ракет класса «земля-земля», то с их помощью атакующий может нанести удар по более отдаленным целям. В результате соперников не побеждают, а уничтожают — всех без разбора. Как я уже объяснял, подлинная цель межвидовой агрессивности на биологическом уровне — подавление, а не ликвидация противника. До окончательной стадии — уничтожения жизни на земле — дело не доходит: соперник или спасается бегством, или же сдается. В обоих случаях столкновение соперников прекращается: спор улажен. Если же нападение осуществляется с такого расстояния, что сигналы о признании своего поражения не смогут быть прочитаны победителем, то начинается жестокая агрессия. Она может завершиться лишь непосредственной встречей с униженным и поверженным противником или его бегством. Ввиду удаленности противников в условиях современной войны ни того, ни другого не наблюдается, что приводит к массовым убийствам в масштабах, которые не известны ни одному другому живому существу.
Развязыванию такой бойни способствует выработанная нами готовность приходить на помощь своим. Когда эта важная привычка использовалась при охоте, она была очень кстати, но теперь обернулась против нас самих. Возникшее в результате стремление к взаимной поддержке превратилось в могучую силу, участвующую во внутривидовых конфликтах. Верность охотника сменилась верностью боевого соратника. Так родилась война. Разве не забавно, что эволюция глубоко укоренившегося в нас стремления помочь своему ближнему стала главной причиной всех ужасов войны? Именно это стремление подталкивало нас к созданию несущих смерть банд, толп, орд и армий. Без него они были бы лишены связующей силы, и агрессивность снова приобрела бы «персонифицированный» характер.
Согласно одной гипотезе, в результате эволюции мы стали охотниками, убивавшими жертв, и автоматически приобрели способность уничтожать противников. Но, как я уже объяснял, факты противоречат такому предположению. Животному нужно поражение, а не смерть соперника; агрессивность имеет своей целью преобладание, а не уничтожение; по существу, мы вроде бы не отличаемся в этом отношении от других животных. Для этого нет причин. Однако произошло следующее. Благодаря злополучному сочетанию удаленности атакующего и групповой солидарности индивиды, участвующие в сражении, перестали четко видеть первоначальную цель. Теперь они чаще нападают для того, чтобы прийти на помощь товарищам, а не одержать верх над врагами. Так что присущая им восприимчивость к непосредственному умиротворению имеет мало или совсем не имеет шансов найти выход. Такое явление еще может нанести нам большой вред и привести к быстрому уничтожению человеческой расы.
Вполне естественно, такая дилемма стала причиной того, что многие нынче чешут затылок. Излюбленной темой для них стало всеобщее разоружение; однако, чтобы от него был прок, необходимо довести его до невозможных пределов. Все будущие сражения должны происходить в виде рукопашного боя, где можно было бы снова пустить в ход сигналы, умиротворяющие противника. Второе решение — это депатриотизация представителей различных социальных групп, но это шло бы вразрез с главной биологической особенностью нашего вида. Союзы, направленные против одних, могут быть с такой же быстротой переориентированы. Естественную тенденцию создавать обособленные социальные группы никогда не искоренить без радикальных изменений на генетическом уровне, в результате которых наша комплексная социальная структура автоматически распалась бы.
Третье решение заключается в том, чтобы разработать и реализовать безвредную, символическую замену войне; но если такая замена окажется действительно безвредной, то она лишь ненамного приблизит нас к решению подлинной проблемы. Следует иметь в виду, что эта проблема, на биологическом уровне, относится к групповой обороне территории, а в связи с наблюдающимся перенаселением планеты является еще и проблемой групповой территориальной экспансии. Никакие, даже самые жаркие футбольные матчи ее не разрешат.
Четвертое решение состоит в усовершенствовании интеллектуального контроля над агрессивностью. Дескать, раз уж интеллект посадил нас в такую лужу, он же должен и вытащить нас оттуда. К сожалению, когда речь идет о таких важных проблемах, как территориальная оборона, наши главные мозговые центры слишком часто прислушиваются к центрам рангом пониже. Интеллектуальный контроль может помочь нам лишь в таких пределах, не более того. Кроме того, он ненадежен; достаточно одного неразумного, под влиянием эмоций, поступка, и все, что сделано полезного, пойдет насмарку.
Единственное здравое биологическое решение дилеммы — это резкое уменьшение роста народонаселения или спешное переселение его на другие планеты, с одновременным использованием, по возможности, и четырех вышеупомянутых способов. Мы уже знаем, что если количество жителей нашей планеты будет увеличиваться с той же ужасающей быстротой, то ничем не сдерживаемая агрессивность усилится. Это однозначно доказано с помощью лабораторных опытов. Заметное перенаселение приведет к социальным стрессам и напряженности, которые разрушат организацию наших сообществ задолго до того, как мы умрем от голода. Перенаселенность будет препятствовать любым улучшениям в деле интеллектуального контроля и коренным образом увеличит вероятность эмоционального взрыва. Подобный ход событий можно предотвратить лишь заметным сокращением темпов рождаемости. К сожалению, этому мешают две серьезные причины. Как я уже объяснял, семейная ячейка, которая по-прежнему является основной, ячейкой нашего общества, предназначена для воспитания потомства. В нынешнем виде она представляет со-! бой довольно сложный механизм, цель которого — производство, защита и выращивание потомства. Если эту его функцию значительно урезать или временно прекратить, то пострадает система образования брачных союзов, а это приведет к своего рода социальному хаосу. Если же предпринять попытку регулировать работу детородного конвейера, разрешая одним парам беспрепятственно размножаться и запрещая это другим, то будет, нарушен существующий в обществе основной принцип сотрудничества.
Обратимся к простой арифметике. Если все взрослые особи создадут брачные пары и станут плодиться, то для того, чтобы народонаселение сохраняло свою численность на постоянном уровне, каждая из них вправе произвести на свет двоих детей. Тогда каждый индивид, по сути, будет готовить себе смену. Учитывая тот факт, что незначительная часть населения не участвует в создании семьи и деторождении и что всегда существует вероятность преждевременной смерти от несчастных случаев или иных причин, количество членов в семье может быть немного увеличено. Но и это лишь незначительно увеличит нагрузку на механизм образования брачных пар. Уменьшение нагрузки на супружеские пары как на детопроизводителей должно быть компенсировано их большими усилиями в других направлениях, чтобы сохранить прочность брачных уз. Но в конечном счете это гораздо меньшая опасность, чем ее альтернатива — удушающая перенаселенность.
Напрашивается мысль о том, что лучшим способом достичь мира во всем мире является повсеместное распространение контрацептивов или применение абортов. Аборт — мера жестокая и может вызвать серьезные эмоциональные нарушения. Кроме того, после слияния гамет (мужских и женских клеток) образуется зигота (оплодотворенное яйцо), которая становится новым представителем человеческого сообщества. Его уничтожение — это, по существу, акт агрессии, который является тем самым поведенческим образцом, с которым мы пытаемся бороться. Контрацепция явно предпочтительнее, и любые религиозные или иные «морализаторские» организации, которые выступают против нее, должны иметь в виду, что они фактически занимаются опасным подстрекательством к развязыванию войн.
Раз уж речь зашла о религии, то, возможно, стоит пристальнее взглянуть на эту необычную модель поведения животного, прежде чем изучать другие аспекты агрессивности представителей нашего вида. Тема эта непростая, но мы, как зоологи, должны сделать все возможное, чтобы наблюдать то, что фактически происходит, а не слушать то, что якобы происходит. Если мы так и поступим, то будем вынуждены прийти к выводу, что в поведенческом смысле религиозная деятельность состоит в том, что большие группы людей собираются вместе для однократных и продолжительных изъявлений своей покорности некоему доминирующему индивиду. Доминирующий индивид, о котором идет речь, в различных культурах принимает те или иные обличья, но всегда является воплощением огромного могущества. Иногда он изображается животным иного вида или его идеализированным вариантом. Иногда его рисуют как мудрого пожилого представителя нашего собственного вида Иногда он становится чем-то более абстрактным, и его называют просто «существом» или как-нибудь иначе. Подобострастное отношение к нему может выражаться в том, что люди закрывают глаза, склоняют головы, в умоляющем жесте соединяют пальцы рук, опускаются на колени, целуют землю или даже падают ниц, зачастую сопровождая все эти действия возгласами или песнопениями. Если эти выражения подобострастия осуществлены успешно, то доминирующий индивид оказывается умиротворен. Поскольку его власть чрезвычайно велика, умиротворяющие церемонии должны осуществляться через регулярные и частые промежутки времени, чтобы это верховное существо не разгневалось снова. Верховное существо обычно, но не всегда, называют Богом.
Поскольку ни один из таких богов не существует в осязаемой форме, не вполне ясно, зачем их придумали. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к своим первобытным предкам. Прежде чем превратиться в действующих сообща охотников, мы, должно быть, жили социальными группами, наподобие тех, что мы сегодня наблюдаем у обезьян. Как правило, в каждой группе владычествует один самец. Он босс, властелин, и каждый член группы должен ублажать его, иначе придется пенять на себя. Он также весьма активно защищает группу от внешних опасностей и улаживает ссоры между своими подчиненными. Вся жизнь любого из представителей группы вращается вокруг доминирующего животного. Его всемогущая роль наделяет его статусом богоподобного существа. Если мы посмотрим на наших непосредственных предков, нам станет ясно, что с ростом духа сотрудничества, который был так важен для успешной групповой охоты, влияние доминирующего индивида следовало ограничить, чтобы он смог обеспечить себе активную, а не пассивную преданность со стороны других представителей группы. У них должно было быть желание помочь ему, а не просто страх перед ним. Он должен был в большей степени стать «одним из стаи». Прежний обезьяний тиран должен был сойти со сцены, вместо него появился более терпимый, чаще сотрудничающий со своими сородичами лидер голых обезьян. Шаг этот был важен для нового типа организации нарождающейся «взаимопомощи», но в результате появилась одна проблема. Поскольку безграничное преобладание первого члена группы было заменено квалифицированным преобладанием, он больше не мог рассчитывать на беспрекословное подчинение ему. Эта перемена была существенна для новой социальной системы, но оставила в ней брешь. С первобытных времен в нас жила потребность в некоей всемогущей фигуре, которая могла удерживать группу под контролем, и это вакантное место было заполнено с изобретением бога. Влияние выдуманного бога могло теперь выступать как некая сила, дополняющая ставшее ограниченным влияние вожака группы.
Может показаться на первый взгляд удивительным, что роль религии оказалась столь успешной, но ее чрезвычайное могущество является попросту мерилом силы нашей основной биологической тенденции, унаследованной непосредственно от наших предков — обезьян, заключавшейся в подчинении всемогущему, владеющему всеми члену сообщества. Благодаря этому религия оказалась чрезвычайно ценным явлением, способствующим социальной сплоченности. Сомнительно, чтобы наша раса смогла бы добиться таких результатов без нее при данном уникальном сочетании обстоятельств нашей эволюции. Это привело к ряду побочных явлений, как, например, вера в «загробную жизнь», в которой мы наконец-то встретимся с божествами. По изложенным ранее причинам они не могли присоединиться к нам в земной жизни, но такое положение дел можно исправить в «потустороннем мире». Для того чтобы облегчить это, были разработаны странные приемы, связанные с избавлением от нашего тела после смерти. Если мы хотим присоединиться к нашим владыкам, то должны надлежащим образом подготовиться к встрече этого события, а перед тем следует осуществить замысловатые погребальные церемонии.
Религия также стала причиной множества излишних страданий и бед в тех случаях, когда ее каноны исполняли чересчур ретиво и когда профессиональные «ассистенты» верховных существ не могли устоять перед соблазном позаимствовать у них частицу их могущества для собственных нужд. Однако, несмотря на противоречивую историю, религия — это особенность нашей социальной жизни, без которой нам не обойтись. Когда она становится неприемлемой, ее незаметно, а подчас яростно отвергают. Но вскоре она возникает опять, в новом виде, возможно, тщательно замаскированная, но содержащая все те же основные элементы. Мы просто обязаны «верить во что-то». Лишь общая вера объединяет нас и держит под контролем. Исходя из этих соображений, можно утверждать, что сойдет любое верование, если оно достаточно могущественно. Однако это не вполне верно. Оно должно впечатлять, и еще — нужно видеть, что оно впечатляет. Наша общественная природа требует выполнения сложных групповых ритуалов и участия в них. Устранение «помпезности и обстоятельности» оставит ужасную культурную брешь, и вероучения не смогут действовать надлежащим образом на глубоком эмоциональном уровне, столь существенном для них. Кроме того, некоторые учения более изнурительны и оглупляющи, чем другие, и могут завести человеческое сообщество в жесткие поведенческие рамки, которые помешают его качественному развитию. Мы представляем собой преимущественно разумный и исследующий вид животных, и те вероучения, которые опираются на этот факт, будут наиболее благотворны для нас. Вера в пользу приобретения знаний и научное понимание мира, в котором мы живем, вера в пользу создания вызывающих в нас эстетическое чувство предметов и наслаждения ими, в пользу расширения и углубления нашего повседневного опыта — вот что повсеместно становится «религией» нашего времени. Познание и понимание являются для нас своего рода божествами, поэтому невежество и глупость их сердят. Школы и университеты являются нашими религиозными учебными центрами; библиотеки, музеи, художественные галереи, театры, концертные залы и стадионы являются для нас местами общего культа. Приходя домой, мы поклоняемся своим божествам, читая книги, газеты, журналы, слушая радио и смотря телепередачи. В известном смысле мы верим и в загробную жизнь, поскольку частью удовлетворения, получаемого от творческой работы, является чувство, что благодаря ей мы будем жить и после смерти. Подобно всем религиям, наша «религия» сопряжена с опасностями, но если нам нужно иметь таковую, а, как мне кажется, мы ее имеем, то, похоже, она наиболее подходит к уникальным биологическим качествам нашей расы. Принятие этой «религии» все более увеличивающимся большинством населения мира может служить для нас компенсацией и ободряющим источником оптимизма на фоне пессимизма, выраженного прежде в отношении нашего будущего как вида.
Прежде чем начать эти рассуждения на темы религии, мы исследовали природу лишь одного аспекта возникновения агрессивности нашей расы, а именно — групповой обороны территории. Но, как я уже объяснил в начале данной главы, голая обезьяна является животным, которому свойственны три четкие социальные формы агрессивности, и теперь мы должны рассмотреть еще две. Это территориальная оборона семейной ячейки внутри более крупной групповой ячейки, а также сохранение своего индивидуального положения на иерархической лестнице.
Пространственная оборона домашнего очага семейной ячейки остается вместе с нами благодаря значительным успехам архитектуры. Даже самые крупные здания, спроектированные как жилье, старательно разделены на отдельные узлы — по одному на семью. Архитектурного «разделения труда» нет, если такое и было, то очень редко. Даже появление зданий для совместного принятия пищи или напитков — ресторанов и баров — не привело к отсутствию столовых в жилых квартирах. Несмотря на все остальные успехи, вид наших малых и больших городов по-прежнему определяется нашей древней потребностью расчленять свои группы на мелкие, отдельные семейные территории. В тех случаях, когда здания не разделены на квартиры, охраняемая территория старательно обносится оградами, стенами или живыми изгородями, обосабливая ее от соседей, причем демаркационные линии строго соблюдаются и границы уважаются, как и у остальных территориальных животных.
Один из важных признаков семейной территории заключается в том, что она должна быть узнаваемой среди других. Ее обособленность придает ей уникальный характер, но этого недостаточно. Своей формой и внешним видом она должна четко отличаться и стать «персонифицированной» особенностью живущей на ней семьи. Факт этот кажется в достаточной мере очевидным, но его часто недооценивали или игнорировали — или в результате экономических трудностей, или же плохого знакомства архитекторов с проблемами биологии. Во всех крупных и малых городах мира строят бесконечные ряды зданий, похожих друг на друга как две капли воды. Когда же речь идет о кварталах жилых домов, ситуация и того хуже. Невозможно подсчитать психологический вред, нанесенный чувству территориальности семей, вынужденных благодаря произволу архитекторов, планировщиков и строителей жить в таких условиях. К счастью, семейства, о которых идет речь, могут наложить отпечаток территориальности на свои жилища и другим образом. Можно покрасить в разные цвета сами здания. Там, где посажены сады, можно разбить их по собственному вкусу в соответствии с канонами садовой архитектуры. Дома или квартиры можно украсить внутри и заполнить до отказа различными декоративными изделиями, безделушками и личными предметами. В таких случаях объясняют, что это делается с целью сделать квартиру уютной. Фактически действия эти аналогичны поступкам другого территориального животного, оставляющего «метки» вокруг своего логова. Если вы привинчиваете к двери табличку со своим именем или вешаете на стену картину, то, переводя ваши действия на собачий или волчий язык, вы попросту задираете ногу и оставляете там свою метку. Неутомимая страсть к коллекционированию особых категорий предметов наблюдается у некоторых индивидов, которые по какой-либо причине испытывают ненормально сильную потребность обозначить таким образом свою домашнюю территорию.
Имея это в виду, забавно видеть большое множество автомобилей, украшенных сувенирами и другими символами их личной принадлежности, или наблюдать за каким-нибудь чиновником, только что въехавшим в новый кабинет. Он тотчас же ставит на стол свой любимый письменный прибор, пресс-папье и, возможно, фотографию жены. Автомобиль и кабинет чиновника являются подтерриториями, филиалами его логова. Какое это облегчение — задрать свою ногу на эти помещения и сделать их более привычными, «собственными» территориями!
Нам остается рассмотреть вопрос агрессивности в связи с социальной иерархией. Защищено должно быть не только место, где индивид часто бывает, но и сам индивид. Его социальный статус должен быть сохранен и по возможности улучшен, но это должно быть сделано осторожно, иначе он подвергнет опасности свои кооперативные контакты. Тут-то и начинает играть свою роль искусная система агрессивных и умиротворяющих сигналов, описанная выше. Групповое сотрудничество требует (и это требование удовлетворяется) высокой степени соответствия как в одежде, так и в поведении отдельных членов группы. Но и в рамках этого соответствия существует множество оттенков, обозначающих иерархическое положение. Вследствие такого рода противоречивых требований конкуренция достигает невероятно тонких оттенков. Как именно завязан узел на галстуке, насколько выпущен из нагрудного кармана угол носового платка, едва заметные изменения в интонации и другие, на первый взгляд пустяковые, детали приобретают важное социальное значение при определении социального положения индивида. Опытный член сообщества может мгновенно определить их смысл. Он сразу растеряется, если вдруг окажется среди представителей социальной иерархии какого-нибудь племени на Новой Гвинее, но в условиях собственной культуры он вынужден быть экспертом. Сами по себе эти незначительные различия в одежде и поведении не имеют никакого смысла, но в связи с хитроумными маневрами, имеющими целью добиться положения в обществе и сохранить его, они чрезвычайно важны.
Разумеется, мы не были созданы для того, чтобы жить огромными конгломератами, насчитывающими тысячи индивидов. Наше поведение рассчитано на работу в рамках небольших племенных групп, где-то немного меньше сотни особей. В таких ситуациях каждый член племени будет лично известен всем остальным, как это происходит в настоящее время с обезьянами. При таком типе социальной организации достаточно просто выбраться и закрепить иерархию значимости, которая будет постепенно изменяться по мере того, как ее представители будут стариться и умирать. В условиях большого города при значительной численности населения положение чревато стрессами. Ежедневно житель города вынужден неожиданно сталкиваться с бесчисленным количеством незнакомых людей — неслыханная ситуация для любого другого вида приматов. Вступить со всеми в личные иерархические отношения невозможно, хотя именно такова должна быть естественная тенденция. Вместо этого им, лишенным возможности главенствовать и подчиняться, позволяют мчаться мимо. Для усугубления такого отсутствия социальных контактов вырабатываются поведенческие модели, ориентированные на пресечение соприкосновения. Об этом уже шла речь при обсуждении сексуального поведения в тех случаях, когда представитель одного пола случайно прикасается к представителю другого. Но здесь речь идет не просто о том, чтобы избежать сексуального поведения. Мы имеем дело с целым рядом проблем, связанных с посвящением в систему социальных взаимоотношений. Стараясь не таращить глаза друг на друга, жестикулируя, сигнализируя каким-либо образом или соприкасаясь физически, мы умудряемся выжить в социальных условиях, которые иначе оказались бы для нас чрезмерно сильными стимуляторами. Нарушив правило «ни к кому не прикасаться», мы тотчас же просим прощения с целью показать, что сделали это непредумышленно.
Поведение, направленное на избежание контактов, позволяет нам удерживать число наших знакомых в пределах, необходимых нашему виду. Мы делаем это с поразительной последовательностью и единообразием. Если желаете подтверждения, ознакомьтесь с адресными или телефонными книгами сотни горожан, принадлежащих к самым разным типам, и сосчитайте количество личных знакомых, занесенных туда. Вы убедитесь, что почти все они знают приблизительно одинаковое количество людей и что это количество приближается к числу представителей небольшой племенной группы. Иными словами, даже при своих социальных контактах мы подчиняемся основным биологическим правилам наших древних предков.
Разумеется, существуют исключения из этого правила — к ним относятся лица, которым в силу профессиональных обязанностей приходится устанавливать большое количество личных контактов; люди с поведенческими дефектами, что делает их неестественно робкими или одинокими, или лица с психологическими проблемами, не позволяющими им получать ожидаемое социальное удовлетворение у своих друзей. Они пытаются компенсировать этот недостаток, отчаянно стараясь найти возможности общаться в самых разных контекстах. Но такие типы составляют лишь незначительную часть населения малых и больших городов. Остальные вполне счастливы и занимаются своим делом, не обращая внимания на кипящий вокруг них человеческий поток, в действительности представляющий собой невероятно сложное множество взаимосвязанных и перекрывающих друг друга племенных групп. Как мало, совсем мало изменилась голая обезьяна с ранних дней своего первобытного существования!
Глава шестая
Питание
Поведение голой обезьяны во время еды на первый взгляд кажется одним из наиболее изменчивых, непредсказуемых и восприимчивых к культурным традициям явлений, но даже здесь действует ряд основных биологических принципов. Мы уже внимательно изучали, каким образом присущие этому животному поведенческие модели, усвоенные им у предков, срывавших фрукты, должны были превратиться в модели поведения при групповой охоте. Мы видели, что это привело ко множеству коренных перемен в его способе питаться. Поиски пищи поневоле стали более затруднительными и тщательно организованными. Потребность убивать добычу стала отчасти независимой от потребности утолять голод. Пища относилась в постоянное логово и там поедалась. Приходилось тратить больше времени на ее готовку. Трапезы стали более обильными и более редкими. В рационе значительно увеличился мясной компонент. Длительное хранение и распределение пищи стали повсеместной практикой. Самцы должны были обеспечивать едой свои семейные ячейки. Понадобилось упорядочить и видоизменить отправление естественных потребностей.
Все эти изменения происходили в течение весьма продолжительного периода времени. Характерно, что, несмотря на крупные успехи в области техники, достигнутые в последнее время, мы до сих пор придерживаемся прежних принципов. Может показаться, что это не более чем простые культурные приемы, которые подвержены капризам моды. Судя по нашему нынешнему поведению, они должны были, хотя бы в известной степени, стать биологическими характеристиками, глубоко укоренившимися в нас.
Как мы уже отмечали, усовершенствованная технология получения пищевых продуктов, используемая в сельскохозяйственном производстве, лишила большинство мужских представителей нашего общества возможности заниматься охотой. Вместо этого они ходят «на работу». Работа заменила охоту, но сохранила многие главные особенности. К ним относится регулярная поездка из логова на «место охоты». Работа, как правило, мужское занятие и дает мужчинам возможность встречаться друг с другом и действовать сообща. С нею связаны риск и планирование операций. Мнимый охотник заявляет, что он «завалил зверя в Сити». В своих поступках он становится жестким. Про такого говорят, что он умеет «принести в когтях».
Когда псевдоохотник отдыхает, он отправляется в сугубо мужской клуб, где женщинам строго-настрого запрещено появляться. Молодые самцы организуют банды из сверстников, зачастую хищнические по натуре. Во всех этих организациях, начиная с ученых обществ, социальных клубов, братств, профессиональных союзов и тайных обществ и кончая подростковыми бандами, прослеживается сильное чувство мужской солидарности. Возникают мощные организации. Члены группировок, входящих в них, носят значки, форму и другие опознавательные символы. Непременно устраиваются церемонии посвящения вновь принятых членов. Не следует смешивать однополый характер этих группировок с гомосексуальностью. В них нет ничего, связанного с сексом.
В таких сообществах, по существу, воплощается мужское братство первобытных охотничьих групп. Важная роль, которую они играют в жизни взрослых мужчин, указывает на живучесть первобытных устремлений. Иначе деятельность, которой они занимаются, могла бы осуществляться и без тщательной сегрегации полов, и без ритуалов, и большинство действий такого рода могли бы выполняться и в рамках семейной ячейки. Женщины часто возмущаются, когда их мужчины уходят из дома и устраивают «мальчишники», воспринимая их уход как своего рода измену семье. И совершенно напрасно. Перед нами современный вариант свойственной нашей расе с первобытных времен тенденции сбиваться в охотничьи стаи. Явление это столь же характерно для голой обезьяны, как и возникновение в первобытные времена пары самец-самка, которая, по существу, является ее следствием. Групповая мужская солидарность будет существовать, по крайней мере до тех пор, пока в нашей натуре не произойдет какого-нибудь важного изменения на генетическом уровне.
Хотя в настоящее время работа в значительной степени заменила охоту, она не до конца покончила с наиболее примитивными формами выражения этого первобытного стремления. Даже в тех случаях, когда нет экономической потребности участвовать в охоте, такое занятие по-прежнему популярно. Охота на крупного зверя, на оленей, лис, псовая, соколиная охота, охота на дичь, рыбная ловля и детская игра в охотников — все это современные проявления древнего инстинкта.
Была выдвинута гипотеза, что подлинная причина тяги к охоте скорее связана с желанием победить соперников, чем с преследованием жертвы; несчастное же существо, которое загнали, олицетворяет для нас самого ненавистного члена нашего общества, которого мы желали бы видеть в подобной ситуации. В этом предположении есть доля истины, по крайней мере, в случае отдельных индивидов; но если такое поведение рассматривать в целом, то становится ясно, что объяснение лишь частично. Суть «спортивной охоты» в том, чтобы предоставить добыче справедливый шанс спастись бегством. (Если же добыча — всего лишь замена ненавистного соперника, то к чему давать ему какой-то шанс?) Весь процесс спортивной охоты подразумевает преднамеренную неэффективность охотников, они дают жертве «фору». Они вполне могли бы использовать автомат или еще более смертоносное оружие, но в таком случае это не было бы игрой — игрой в охоту. Спортсменов захватывает вызов, трудности, связанные с преследованием добычи, и разные уловки — именно то, что приносит им удовлетворение.
Одна из существенных особенностей охоты в том, что это масштабная азартная игра, поэтому неудивительно, что нас так привлекают многие стилизованные формы, которые она принимает. Как первобытная, так и спортивная охота — занятия преимущественно мужские и требуют строгого соблюдения социальных законов и ритуалов. Исследование классовой структуры нашего общества показывает, что спортивную охоту и азартные игры чаще предпочитают представители высших и низших, а не средних его слоев. На это есть веские причины, если отнестись к этим занятиям как к выражению природной тяги к охоте. Я отмечал ранее, что работа стала главной заменой первобытной охоты, но как таковая она принесла наибольшую материальную выгоду именно среднему классу. Для типичного представителя низшего класса характер работы, которую ему приходится выполнять, не полностью удовлетворяет его жажду охоты. Она слишком монотонна, слишком предсказуема.
В ней отсутствуют элементы опасности, игры и риска, имеющие столь важное значение для самца-охотника. По этой причине мужчины, принадлежащие к низшим слоям общества, наряду с неработающими представителями высшего класса, в большей мере испытывают потребность удовлетворять свой охотничий азарт, чем лица, принадлежащие к среднему классу, характер работы которых в большей степени подходит к ее роли как заменителя охоты.
Переходя от охоты к следующему аспекту поведения при добыче пищи, мы подходим к моменту убийства жертвы. Этот акт может быть в какой-то мере заменен работой, спортивной охотой и азартной игрой. При спортивной охоте убийство жертвы происходит по-настоящему, но в контекстах работы и азартной игры оно преобразуется в моменты символического триумфа, в которых отсутствует элемент жестокости. Поэтому стремление охотника поразить добычу претерпевает значительные изменения в условиях современной жизни. Это стремление то и дело возникает вновь с поразительной частотой во время юношеских забав (не всегда безобидных); но среди взрослых оно подавляется с помощью мощных механизмов сдерживания.
Допускаются два исключения. К первому из них относится уже упоминавшаяся нами спортивная охота, ко второму — бой быков. Хотя ежедневно на бойню попадает огромное количество домашнего скота, обыватели обычно не видят этой операции. С боем быков дело обстоит наоборот: собираются толпы народа, чтобы посмотреть, как у них на глазах убивают животных.
Поскольку это находится в рамках кровавых видов спорта, такая практика продолжает существовать, хотя и не без протестов против ее продолжения. Вне таких сфер все виды жесткого обращения с животными запрещены и наказуемы. Но так было не всегда. Несколько лет назад в Великобритании и многих других странах животных мучили и убивали для развлечения публики. За это время успели понять, что участие в жестоких зрелищах притупляет чувствительность людей ко всем видам кровопролития. Поэтому такого рода «забавы» представляют собой потенциальный источник опасности для нашего сложного и перенаселенного общества, где территориальные и иерархические ограничения могут достичь почти нетерпимых пределов, подчас находя выход в непомерной агрессивности и жестокости.
До сих пор мы рассматривали ранние стадии процесса питания и их итоги. После охоты и убийства добычи мы приступаем к самой трапезе. Будь мы типичными приматами, мы жевали бы понемногу день-деньской. Но мы не типичные приматы. Эволюция, сделавшая нас плотоядными, видоизменила всю систему. Типичное плотоядное съедает за один присест помногу, но делает это нечасто. Мы, совершенно очевидно, следуем этому примеру. Эта тенденция сохранилась много времени спустя после того, как исчезли причины, заставлявшие охотника следовать такому режиму. В настоящее время мы смогли бы без труда вернуться к своим первобытным привычкам, свойственным приматам, если бы почувствовали склонность к этому. Однако мы продолжаем придерживаться установившегося расписания приема пищи, словно по-прежнему активно заняты охотничьим промыслом. Из многих миллионов живущих в мире голых обезьян мало кто (если такие есть ) питается по методу своих предков-приматов. Даже в условиях изобилия мы редко едим чаще чем три, самое большее четыре раза в день. У многих вошло в обычай есть плотно раз или два. Могут заявить, что делается это по культурно установившейся традиции, для удобства, но свидетельств в пользу такой гипотезы недостаточно. В условиях развитой системы снабжения продовольствием, которую мы имеем, вполне возможно разработать эффективную систему питания, при которой пища будет приниматься малыми порциями в течение всего дня. Внедрение такой системы может быть проведено достаточно успешно, после того как к ней привыкнут, что устранило бы перебор других видов деятельности, связанных с необходимостью готовить «главную трапезу». Однако благодаря нашему прошлому опыту хищников, такого рода система не удовлетворит укоренившиеся в нас биологические потребности.
Целесообразно также изучить вопрос, зачем мы подогреваем пищу и едим ее горячей. Существуют объяснения трех видов. Одно состоит в том, что это помогает сохранить температуру тела «добычи». Мы не пожираем парное мясо, но тем не менее едим его, по существу, при такой же температуре, что и другие плотоядные. Пища у них горяча, потому что не успела остыть, у нас — потому что мы ее подогрели. Второе объяснение состоит в следующем: зубы у нас настолько слабы, что мы вынуждены варить мясо, чтобы сделать его мягким. Однако это не объясняет того, почему мы должны есть его горячим, и для чего подогревать другие виды пищи, которые не надо делать мягкими. Третье объяснение заключается в следующем: увеличив температуру пищи, мы улучшаем ее вкус. Добавив ряд приправ, мы совершенствуем этот процесс. Такая практика возвращает нас не к заимствованным у плотоядных, а к более древним, распространенным у наших предков-приматов обычаям. Пища у типичных приматов гораздо богаче вкусовыми оттенками, чем у плотоядных. Намаявшись с добыванием пропитания (надо было выследить, убить и обработать добычу), хищник ведет себя без затей и тотчас принимается за трапезу. Ест жадно, глотая пищу большими кусками. Напротив, обезьяны очень хорошо разбираются во вкусовых качествах своих яств. Они ими наслаждаются и от одного переходят к другому. Возможно, когда мы разогреваем пищу и добавляем в нее специи, в нас говорит восходящая к временам приматов привередливость. Возможно также, что это один из способов подавлять наши плотоядные наклонности.
Раз уж зашла речь о вкусе, то следует устранить недоразумение, связанное с тем, каким образом мы воспринимаем эти сигналы. Как мы чувствуем вкус? Поверхность языка у нас неровная, усеяна мелкими бугорками, называемыми папиллами, в которых находятся вкусовые рецепторы. У каждого из нас приблизительно 100 000 таких рецепторов, но в старости их восприимчивость ухудшается, а количество сокращается. Этим объясняется привередливость пожилых гурманов. Как ни странно, у нас всего лишь четыре вкусовых ощущения: кислое, соленое, горькое и сладкое. Положив кусочек еды на язык, мы определяем, в каких пропорциях содержатся в ней четыре вкуса. Именно такое сочетание и придает пище ее характерный вкус. Различные участки языка воспринимают вкус по-разному. Кончик его более чувствителен к соленому, боковые участки — к кислому, а тыльная часть — к горькому. Сам язык может определить текстуру и температуру пищи, но и только. Более тонкие и разнообразные «привкусы», к которым мы так чувствительны, воспринимаются органами обоняния, а не вкуса. Запах пищи проникает в носовую полость, где находится обонятельная мембрана. Замечая, что то или иное блюдо имеет восхитительный вкус, мы в действительности подразумеваем, что оно имеет восхитительный вкус и запах. Забавно, что, когда мы сильно простужены и наша восприимчивость ко вкусу резко снижается, мы заявляем, что еда безвкусна. В действительности вкус ее остается прежним. Нас озадачивает отсутствие запаха.
Отметив этот факт, следует указать на наше явное предпочтение сладкому. Такое свойство чуждо истинному плотоядному, но характерно для примата. По мере того как плоды зреют и становятся более пригодными для еды, они обычно становятся слаще. Обезьяны четко реагируют на все, что обладает таким вкусом. Подобно другим приматам, мы не в силах устоять перед «сладеньким». Наша приматская наследственность, вопреки склонности к мясному, дает себя знать в том, что мы любим все, что подслащено. Сладкое мы предпочитаем всему остальному. Недаром у нас имеются магазины «сладостей», но нет магазинов «кислостей». Плотно пообедав, мы обычно завершаем трапезу, от которой получили множество вкусовых ощущений, чем-нибудь сладким. Именно это послевкусие у нас и остается. Более показателен тот факт, что, когда нам хочется «заморить червячка» (и тем самым в известной степени приобщиться к свойственной приматам привычке есть понемногу, но часто), мы почти неизменно выбираем что-нибудь сладкое — конфеты, шоколад, мороженое или подслащенные напитки.
Склонность эта в нас настолько велика, что может натворить бед. Дело в том, что в еде нас привлекают два ее качества: питательная ценность и съедобность. В природных продуктах эти качества неотъемлемы одно от другого, но в синтетических продуктах они могут быть разделены, и это опасно. Не имеющие никакой питательной ценности продукты можно сделать чрезвычайно привлекательными для потребителя, добавив туда большое количество искусственно изготовленного вещества, придающего им сладкий вкус. Если они удовлетворяют нашу слабость, которой мы обязаны своим предкам-приматам, то мы так навалимся на лакомство, что в желудке не останется места для всего другого. В результате будет нарушена сбалансированность нашего рациона. Это особенно важно знать, когда речь идет о растущих детях. В одной из предыдущих глав я указывал на последние исследования, которые показали, что уровень предпочтения сладких запахов, а также ароматов фруктов резко падает с достижением половой зрелости, когда появляется склонность к цветочным, маслянистым и мускусным запахам. Слабостью подростков к сластям можно злоупотреблять, что зачастую и происходит.
Взрослые сталкиваются с опасностью иного рода. Поскольку пищу для них обычно готовят вкусной — гораздо вкуснее, чем еда из натуральных продуктов, — ее вкусовая привлекательность резко возрастает, что приводит к перееданию. Во многих случаях это является причиной излишнего веса, сказывающегося на здоровье. Для борьбы с ним придумываются самые немыслимые разгрузочные диеты. «Пациентам» велят есть то-то и то-то или заниматься различными физическими упражнениями. К сожалению, существует лишь одно решение проблемы — поменьше есть. Это не рецепт, а сказка, но, поскольку индивид окружен со всех сторон соблазнами, подобному совету следовать трудно даже непродолжительное время. На нашего «тяжеловеса» сваливается еще одна беда. Я уже говорил об «отвлекающих действиях» — тривиальной, ненужной деятельности, к которой прибегают для снятия напряжения в минуты стресса. Как мы убедились, одним из наиболее распространенных видов отвлекающего действия является «отвлекающая еда». Нервничая, мы глотаем все, что окажется подл рукой, или потягиваем какой-нибудь напиток, хотя жажды не испытываем. Это способно успокоить нервы, зато увеличивает наш вес ввиду «тривиального» характера отвлекающей еды. Как правило, чего-либо сладкого. Если подобная практика продолжается в течение длительного времени, это приводит к хорошо известному состоянию «озабоченности своей полнотой», в результате чего у человека появляются округлые очертания неуверенного в себе, чувствующего свою вину индивида. Для такого человека толк от уменьшающих вес процедур будет лишь в том случае, если в его поведении произойдут перемены, которые помогут ему справиться с волнениями. В данной связи стоит упомянуть о роли жевательной резинки. Этот продукт, похоже, был изобретен исключительно как отвлекающее средство. Он позволяет снять напряжение, придает нам ощущение занятости делом, не нанося вреда здоровью перееданием.
Если мы обратимся к тому, что едят нынешние голые обезьяны, то увидим, что их рацион разнообразен. Сплошь и рядом стол у приматов гораздо богаче, чем у плотоядных. Последние специализировались в области питания, первые остались приспособленцами. К примеру, в результате продолжительных полевых исследований живущей на воле популяции макак установлено, что они поедают до 119 видов растений в виде почек, побегов, листьев, фруктов, корней, коры деревьев, не говоря о всевозможных пауках, жуках, бабочках, муравьях и птичьих яйцах. Рацион типичного плотоядного более питателен, но зато и более однообразен. Став хищниками, мы ели самое лучшее, что было в обоих мирах — растительном и животном. В нашем рационе появилось сытное мясо, но мы не отказались от прежней, свойственной приматам всеядности. За последнее время, то есть за последние несколько тысячелетий, методы получения продуктов питания значительно усовершенствовались, но в основном положение не изменилось. Насколько мы можем судить, древнейшие способы ведения сельского хозяйства можно приблизительно охарактеризовать как «смешанное фермерство». Животноводство и растениеводство развивались параллельно. Даже в настоящее время, когда в наших руках вся окружающая среда с ее обитателями и растительностью, мы по-прежнему не забываем ни об одном из них. Что же помешало нам предпочесть какое-нибудь одно направление сельского хозяйства? Ответ, похоже, заключается в следующем. В условиях быстрого роста плотности населения расчет на снабжение его одним лишь мясом может привести к затруднениям, связанным с его количеством. Снабжение же населения только зерновыми культурами приведет к опасному ухудшению качества питания.
Можно предположить, что раз наши предки-приматы обходились без мясного, то на такое должны быть способны и мы. Лишь обстоятельства, связанные с окружающей средой, вынудили нас стать плотоядными, а теперь, превратившись в ее хозяев и имея в своем распоряжении хорошо отлаженное зерновое хозяйство, мы могли бы вернуться к рациону своих древних предков-приматов. По существу, это вегетарианская или, как называют себя представители одного культа, фрукторианская точка зрения, но она нашла удивительно мало сторонников. Потребность в мясе, по-видимому, укрепилась в нас чересчур глубоко. Получив возможность иметь его у себя на столе, мы не желаем отказаться от такой привычки. Показательно, что вегетарианцы редко объясняют свой выбор тем, что предпочитают растительную пищу всякой другой. Напротив, они приводят самые мудреные доводы в свое оправдание, ссылаясь на неточные данные ученых-медиков и непоследовательность философов.
Вегетарианцы по убеждению обеспечивают себе сбалансированную диету, подобно типичным приматам, используя целую гамму продуктов растительного происхождения. Но для некоторых сообществ преимущественно постный стол стал суровой необходимостью, а не выбором этического меньшинства. С развитием техники выращивания зерновых и упором на нескольких основных видах таких культур, в некоторых обществах процветает культивирование низкосортных видов сельскохозяйственных растений. Благодаря большому количеству выращиваемых зерновых стало возможным значительное увеличение народонаселения, но его зависимость от немногих хлебных культур привела к неполноценному питанию. Такие люди способны размножаться в больших количествах, но их потомство будет плохо развитым физически. Они не живут, а существуют. Подобно тому как излишнее количество вооружений может привести к катастрофе, так и злоупотребление технологией выращивания сельскохозяйственных культур может привести к катастрофе иного характера. Сообщества, лишенные необходимого сбалансированного рациона, возможно, и сумеют выжить, но им придется преодолевать вредные побочные явления, обусловленные нехваткой протеинов, минералов и витаминов, если они хотят двигаться вперед и качественно развиваться. Во всех наиболее здоровых и передовых современных обществах придерживаются сбалансированной мясорастительной диеты, и, несмотря на коренные перемены, которые произошли в области производства продуктов питания, прогрессивная голая обезьяна имеет сегодня в своем рационе, по существу, то же самое, что и ее древние предки-охотники. Отметим еще раз, что ее преобразование носит скорее видимый, чем реальный характер.
Глава седьмая
Забота о здоровье
Телу животного, непосредственно соприкасающемуся с внешней средой, здорово достается. Удивительно, как оно выдерживает такую трепку и сохраняется так долго. Это происходит благодаря чудесной системе восстановления тканей и, кроме того, благодаря тому, что животные выработали ряд особых приемов гигиены. Забота о своей наружности кажется нам пустяковым занятием по сравнению с кормежкой, борьбой за существование, бегством от противника и спариванием, но без такой заботы тело не могло бы надлежащим образом функционировать. Для таких существ, как мелкие птицы, уход за оперением — это вопрос жизни и смерти. Если перья у птицы запачкаются, она не сумеет достаточно быстро взлететь, чтобы не попасть в лапы хищника, и не сможет сохранять высокую температуру тела с наступлением холодов. Птицы целыми днями купаются, чистят перья, смазывают их, скребутся, причем эта процедура продолжительная и осуществляется в сложной последовательности. Млекопитающие не столь тщательны, но, тем не менее, подолгу чистятся, вылизывают себя, выщипывают шерсть, скребутся и трутся. Как и оперение, шерсть следует содержать в чистоте, чтобы животному было тепло. Если она сваляется и запачкается, то увеличится риск заболеть. Необходимо как можно старательнее уничтожать насекомых, паразитирующих на коже. Правила эти относятся и к приматам.
Зачастую можно наблюдать, как обезьяны, живущие на свободе, ухаживают за своей внешностью, систематически чистят шерсть, извлекая из нее частицы омертвевшей кожи и посторонние предметы. Обычно обезьяны засовывают их в рот и проглатывают, во всяком случае пробуют на вкус. Такого рода занятия могут продолжаться много минут; создается впечатление, что животное очень увлечено. Периоды ухода за внешностью могут неожиданно сменяться почесыванием тех участков тела, которые являются очагами раздражения. Большинство млекопитающих скребутся только задними лапами, но обезьяны пускают в ход как передние, так и задние. Передние конечности обезьяны идеально подходят для этого занятия. Ловкие пальцы могут пройтись по шерсти и с большой точностью определить место, которое беспокоит животное. По сравнению с когтями и копытами руки примата — идеальное приспособление для чистки. Но даже в этом случае две руки лучше, чем одна. И вот тут возникает проблема. Обезьяна может пустить в ход их обе, когда чистит ноги, бока или грудь, но ей не добраться до спины или самих рук. Кроме того, не имея зеркала, она не видит, что происходит, когда занята своей головой. Можно пустить в ход обе руки, но тогда придется действовать вслепую. Очевидно, что голова, спина и руки будут не так ухожены, как грудь, бока и ноги, если не придумать чего-нибудь особенного.
Решение проблемы — в социальном уходе, развитии взаимной дружеской помощи. Это можно наблюдать у многих видов птиц и млекопитающих, но особенно славятся такой взаимопомощью высшие приматы. У них разработана целая система сигналов, приглашающих оказать или получить такую помощь, и социальные «косметические» сеансы продолжаются долго и осуществляются с тщательностью. Когда обезьяна-«парикмахер» приближается к обезьяне-«клиенту», первая оповещает вторую о своих намерениях характерной гримасой. Она быстро-быстро причмокивает губами, зачастую высовывая язык между каждым причмокиванием. «Клиент» может сигнализировать о своей готовности принять услуги «косметолога», заняв расслабленную позу, возможно, подставляя ему для работы определенную часть тела. Как я уже объяснял в одной из предыдущих глав, причмокивание губами стало особым ритуалом, возникшим из повторяемых движений при чистке шерсти. Учащая эти движения и делая их более четко выраженными и ритмичными, стало возможно превратить их в бесспорный, хорошо заметный сигнал.
Поскольку социальный косметический уход является совместным, умиротворяющим видом деятельности, причмокивание стало сигналом дружелюбия. Если два животных хотят укрепить узы взаимной дружбы, то они могут это сделать, неоднократно ухаживая за внешностью друг друга, даже если внешний вид приятеля и не требует этого. По-видимому, нет связи между тем, сколько грязи на шкуре приятеля, и тем количеством труда, которое вложено во взаимный уход. Похоже на то, что социальный уход за внешностью стал видом деятельности, который не зависит от первоначальных стимулов. Хотя такого рода деятельность по-прежнему имеет целью поддержание меха в чистоте, она теперь носит скорее социальный, чем косметический характер. Когда два животных находятся рядом в миролюбивой позе и ухаживают друг за другом, это укрепляет межличностные связи членов группы или колонии.
Из этой системы сигналов дружелюбия возникли два отвлекающих приема — один подобострастного характера, другой — покровительственного. Если более слабое животное боится более сильного, оно может ублажать последнего, причмокивая губами, а затем займется его мехом. Такой жест ослабляет агрессивность доминирующего животного и помогает подчиненному индивиду обрести его покровительство. За оказанные услуги ему позволяют остаться в «высоком присутствии». И наоборот, если доминирующий индивид желает утишить страхи более слабого животного, он может поступить таким же образом. Причмокивая губами, он может подчеркнуть, что совсем не агрессивен. Несмотря на свой внушительный вид, более сильное животное показывает, что не желает никому причинить вреда Сигнал второго вида встречается реже, чем сигнал заискивания, просто потому, что в социальной жизни приматов востребован меньше. Редко бывает так, чтобы слабое животное имело нечто такое, что более сильное не могло бы при желании у него отобрать. Исключением из правил может быть случай, когда сильная, но бездетная самка захочет подойти к детенышу другой представительницы стада и приласкать его. При виде незнакомки малыш, естественно, пугается и прячется. В таких случаях мы можем наблюдать, как крупная самка пытается успокоить детеныша, причмокивая губами. Если такой жест успокаивает юное существо, то самка может приласкать его, потихоньку поглаживая малыша.
Если обратиться к нашему виду, то можно увидеть проявление этой свойственной приматам привычки и у нас. Но не просто в стремлении «навести марафет», но и в социальном контексте. Разумеется, разница в том, что у нас теперь нет роскошных природных шуб или меха, который нужно почистить. Когда две голые обезьяны встречаются и хотят укрепить свои дружеские отношения, они должны подыскать некое соответствие социальному уходу за внешностью знакомого, распространенному у приматов. Если мы изучим такие ситуации, в которых у других приматов можно было бы наблюдать взаимное наведение марафета, то любопытно провести сравнение. Прежде всего, причмокивание губами заменила улыбка. Ее происхождение как специального детского сигнала уже обсуждалось. Мы видели, что, не имея возможности цепляться за шерсть матери, младенец должен был выработать какой-нибудь способ привлечь к себе внимание родительницы и ублажить ее. У взрослых улыбка стала превосходным заменителем сигнала, предлагающего знакомому заняться его внешностью. Но вот благосклонное внимание завоевано. Что же дальше? Установившийся контакт нужно поддерживать. Причмокивание подкрепляется «косметическими услугами», но что подкрепляет улыбку? Правда, улыбку можно повторить и сохранить ее и после того, как установлен первый контакт. Однако необходимо еще нечто такое, что задержит внимание партнера. Необходимо нечто вроде ухода за его внешностью и последующие действия. Простые наблюдения показывают, что выход найден — это звуки, облаченные в словесную оболочку.