Финансист. Титан. Стоик Драйзер Теодор
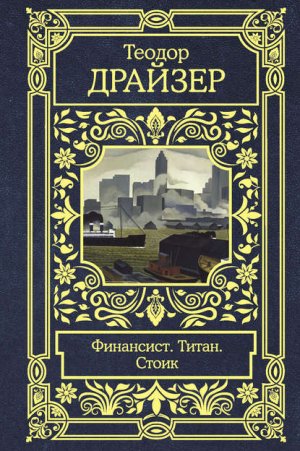
Поскольку дальнейший рассказ о Каупервуде будет связан по меньшей мере с тремя из этих «фирм», необходимо вкратце описать их деятельность. Возглавлял их Эдвард Стробик, один из наиболее энергичных приспешников Молленхауэра; это был юркий и пронырливый человек лет тридцати пяти, худой, черноволосый, черноглазый, с огромными черными усами. Одевался он щеголевато и вычурно – полосатые брюки, белый жилет, черная визитка и шелковый цилиндр. Ботинки необыкновенно вычурного фасона всегда были начищены до блеска. Своей безукоризненной внешностью он заслужил прозвище «пшюта». Вместе с тем это был довольно способный человек, и многие любили его.
Двое из коллег, мистеры Томас Уайкрофт и Хармон, не отличались столь приятной и блистательной внешностью. Хармон, в обществе на всех наводивший скуку, очень неплохо разбирался в финансовых вопросах. Долговязый и рыжеватый, с карими глазами, он, несмотря на свою меланхолическую наружность, был весьма неглуп и всегда готов пуститься в любую аферу не слишком крупного масштаба и достаточно безопасную с точки зрения Уголовного кодекса. Он не был особенно хитер, но во что бы то ни стало хотел выдвинуться.
Томас Уайкрофт, последний член этого полезного, но полупочтенного триумвирата, высокий сухопарый человек с изможденным, землистым лицом и глубоко сидящими глазами, несмотря на свою жалкую внешность, обладал недюжинным умом. По профессии литейщик, он попал в политические деятели случайно, как и Стинер, потому что сумел оказаться полезным. Ему удалось сколотить небольшое состояние благодаря участию в возглавляемом Стробиком триумвирате, занимавшемся многоразличными и довольно своеобразными делами, о которых будет рассказано ниже.
Фирмы, организованные подручными Молленхауэра еще при старом составе муниципалитета, торговали мясом, строительными материалами, фонарными столбами, щебнем – всем, что могло потребоваться городскому хозяйству. Подряд, сданный городом, не подлежит аннулированию, но, чтобы получить его, необходимо сперва «подмазать» кое-кого из членов городского самоуправления, а для этого нужны деньги. Фирма вовсе не обязана сама заниматься убоем скота или отливкой фонарных столбов. Она должна только организовать это дело, получить торговый патент, добиться от городского самоуправления подряда на поставку (о чем уж, конечно, позаботятся Стробик, Хармон и Уайкрофт), а потом передоверить подряд владельцам бойни или литейного завода, которые будут поставлять требуемое, выделив посреднической фирме соответствующую долю прибыли; доля эта, в свою очередь, будет разделена и частично передана Молленхауэру и Симпсону под видом доброхотного даяния на нужды возглавляемого ими политического клуба или объединения. Все это делалось очень просто и до известных пределов вполне законно. Владелец бойни или литейного завода не смел и мечтать о том, чтобы самому добиться подряда. Стинер или кто-либо другой, ведавший в данный момент городской кассой и за невысокие проценты дававший взаймы деньги, нужные владельцу бойни или литейного завода в обеспечение поставки или для выполнения подряда, получал не только свои один или два процента, которые клал в карман (ведь так поступали и его предшественники), но еще и изрядную долю прибылей. В качестве главного помощника Стинеру рекомендовали смирного и умевшего держать язык за зубами человека «из своих». Казначея нисколько не касалось, что Стробик, Хармон и Уайкрофт, действуя в интересах Молленхауэра, время от времени употребляли часть заимствованных у города средств совсем не на то, для чего они были взяты. Его дело было ссужать их деньгами.
Но посмотрим, что же дальше. Еще до того, как Стинер был намечен кандидатом в городские казначеи, Стробик – кстати сказать, один из его поручителей при соискании этой должности (что уже само по себе было противозаконно, так как, согласно конституции штата Пенсильвания, ни одно официальное должностное лицо не может быть поручителем за другое) – намекнул ему, что люди, содействующие его избранию, отнюдь не станут требовать от него чего-либо незаконного, но он должен быть покладист, не возражать против раздутых городских бюджетов, короче говоря, не кусать кормящую его руку. С неменьшей ясностью ему дали понять, что едва только он вступит в должность, кое-что начнет перепадать и ему. Как уже говорилось, Стинер всю свою жизнь бедствовал. Он видел, что люди, занимавшиеся политиканством, преуспевали материально, тогда как он, будучи агентом по страховым делам в продаже недвижимого имущества, едва сводил концы с концами. На его долю мелкого политического прихвостня выпадало много тяжелой работы. Другие политические деятели обзаводились прекрасными особняками в новых районах города. Устраивали увеселительные поездки в Нью-Йорк, Гаррисберг или Вашингтон. В летний сезон они развлекались в загородных отелях с женами или любовницами, а ему все еще был закрыт доступ в круг баловней судьбы. Вполне естественно, что все эти посулы увлекли его, и он был рад стараться. Наконец-то и он достигнет благосостояния.
Когда у него побывал Молленхауэр и высказался о необходимости взвинтить курс сертификатов городского займа до паритета – хотя этот разговор и не имел прямого касательства к отношениям, которые Молленхауэр поддерживал с казначеем через Стробика и других, – Стинер, услышав повелительный голос хозяина, поспешил расписаться в своем политическом раболепстве и ринулся к Стробику за более подробной информацией.
– Как бы вы поступили на моем месте? – спросил он Стробика, который уже знал о том, что Молленхауэр посетил казначея, но ждал, чтобы тот сам об этом заговорил. – Мистер Молленхауэр высказал пожелание, чтобы заем котировался на бирже и был доведен до паритета, то есть шел бы по сто долларов за сертификат!
Ни Стробик, ни Хармон, ни Уайкрофт не знали, как добиться того, чтобы сертификаты городского займа, расценивавшиеся на открытом рынке в девяносто долларов, на бирже продавались по сто, но секретарь Молленхауэра, некий Эбнер Сэнгстек, надоумил Стробика обратиться к молодому Каупервуду: как-никак с ним ведет дела Батлер, а Молленхауэр, видимо, не настаивает на привлечении к этому делу своего личного маклера, так отчего же не испробовать Каупервуда.
Вот как случилось, что Фрэнк получил приглашение зайти к Стинеру. Очутившись у него в кабинете и еще не зная, что за его спиной скрываются Молленхауэр и Симпсон, он с первого взгляда на этого скуластого человека, так странно волочившего ногу, понял, что в финансовых делах казначей сущий младенец. О, если бы стать при нем советником, его единственным консультантом на все четыре года!
– Здравствуйте, мистер Стинер, – мягко и вкрадчиво сказал Каупервуд, когда тот протянул ему руку. – Очень рад с вами познакомиться. Я, разумеется, много слышал о вас.
Стинер стал долго и нудно излагать Каупервуду, в чем состоит затруднение. Приступив издалека, то и дело запинаясь, он объяснял, как страшат его предстоящие трудности.
– Главная задача, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы добиться котировки этих сертификатов альпари. Я могу выпускать их любыми партиями и так часто, как вам будет желательно. В настоящее время я хочу выручить сумму, достаточную для погашения краткосрочных обязательств на двести тысяч долларов, а позднее – сколько удастся.
Каупервуд почувствовал себя в роли врача, выслушивающего пациента, который вовсе не болен, но страстно хочет, чтобы его успокоили, и сулит за это большой гонорар. Замысловатые хитрости фондовой биржи были для него ясны как день. Он знал, что если реализация займа безраздельно попадет в его руки, если ему удастся сохранить в тайне, что он действует в интересах города, и если, наконец, Стинер позволит ему орудовать на бирже в роли «быка», то есть скупать сертификаты для амортизационного фонда и в то же время умело продавать их при повышении курса, то он добьется блистательнейших результатов даже при самом крупном выпуске. Но он должен распоряжаться единолично и иметь собственных агентов. В голове его уже маячил план, как принудить неосмотрительных биржевиков играть на понижение: надо только заставить их поверить, что сертификатов этого займа в обращении сколько угодно и при желании они успеют скупить их. Потом они спохватятся и увидят, что достать их нельзя, что все сертификаты в руках у него, Каупервуда! Но он не сразу откроет свой секрет. О нет, ни в коем случае! Он начнет взвинчивать стоимость сертификатов до паритета, а потом пустит их в продажу. Уж тогда и он немало загребет на этом деле! Каупервуд был слишком сметлив, чтобы не догадаться, что за всем этим скрываются те же политические заправилы города и что за спиною Стинера стоят люди куда более умные и значительные. Но что с того? Как осторожно и хитро поступили они, обратившись к нему через Стинера! Возможно, что его, Каупервуда, имя начинает приобретать вес в местных политических кругах. А это немало сулит ему в будущем.
– Так вот, мистер Стинер, – произнес он, выслушав объяснения казначея и осведомившись, какую часть городского займа тот хотел бы реализовать в течение ближайшего года. – Я охотно возьмусь за это дело. Но мне нужен день или два, чтобы хорошенько все обмозговать.
– Разумеется, разумеется, мистер Каупервуд! – с готовностью согласился Стинер. – Спешить некуда. Но известите меня, как только вы придете к тому или иному решению. Кстати, какую вы взимаете комиссию?
– Видите ли, мистер Стинер, на фондовой бирже существует определенная ставка, которой мы, маклеры, обязаны придерживаться. Это четверть процента номинальной стоимости облигаций или обязательств. Правда, я могу оказаться вынужденным провести ряд фиктивных сделок – как, каких именно, я объясню вам позднее, – но с вас я за это ничего не возьму, если дело останется между нами. Я сделаю для вас все, что будет в моих силах, мистер Стинер, можете не сомневаться. Но дайте мне подумать день-другой.
Они пожали друг другу руку и расстались: Каупервуд – довольный тем, что ему предстояла крупная финансовая операция, Стинер – тем, что нашел человека, на которого можно положиться.
Глава XV
План, выработанный Каупервудом после нескольких дней размышления, будет вполне понятен каждому, кто сколько-нибудь смыслит в коммерческих и финансовых комбинациях, но останется туманным для непосвященного. Прежде всего казначей должен был депонировать городские средства в конторе Каупервуда. Далее фактически передать в распоряжение последнего или же занести в его кредит по своим книгам, с правом получения в любое время, определенные партии сертификатов городского займа, для начала – на двести тысяч долларов, так как именно такую сумму желательно было быстро реализовать, после чего Каупервуд обязывался пустить эти сертификаты в обращение и принять меры к тому, чтобы довести их до паритета. Тогда городской казначей немедленно обратится в комитет фондовой биржи с ходатайством о включении их в список котируемых ценностей, Каупервуд же употребит все свое влияние, чтобы ускорить рассмотрение этого ходатайства. После того как воспоследует соответствующее разрешение, Стинер реализует через него, и только через него, все сертификаты городского займа. Далее Стинер позволит ему покупать для амортизационного фонда столько сертификатов, сколько Каупервуд сочтет необходимым скупить, дабы повысить их цену до паритета. Чтобы добиться этого – после того как значительное количество сертификатов займа уже будет пущено в обращение, – может оказаться необходимым вновь скупить их значительными партиями и затем спустя некоторое время опять пустить в продажу. Законом, предписывающим продажу сертификатов только по номиналу, придется в известной мере пренебречь, а это значит, что фиктивные и предварительные сделки не будут приниматься в расчет, пока сертификаты не достигнут паритета.
Каупервуд дал понять Стинеру, что такой план имеет немало преимуществ. Ввиду того, что сертификаты в конечном итоге так или иначе поднимутся до паритета, ничто не мешает Стинеру, как и всякому другому, закупить их по дешевке в самом начале реализации займа и придержать, пока они не начнут повышаться в цене. Каупервуд с удовольствием откроет Стинеру кредит на любую сумму с тем, чтобы тот рассчитывался с ним в конце каждого месяца. При этом никто не потребует от него, чтобы он действительно покупал сертификаты. Каупервуд будет вести его счет на определенную умеренную маржу, скажем, в десять пунктов, таким образом, Стинер может считать, что деньги уже у него в кармане. И это не говоря уже о том, что сертификаты для амортизационного фонда можно будет закупить очень дешево, ибо Каупервуд, имея в своем распоряжении основной и резервный выпуски займа, будет выбрасывать их на рынок в нужном ему количестве как раз в такие моменты, когда решит покупать, и тем самым окажет давление на биржу. А позднее цены уже наверняка начнут подниматься. Если держать нераздельно в своих руках выпуск займа, что дает возможность произвольно вызывать на бирже повышение и понижение, то можно не сомневаться, что в конечном итоге город реализует весь свой заем альпари, причем благодаря таким искусственным колебаниям, очевидно, удастся еще и неплохо подзаработать. Каупервуд в смысле выгоды главные свои надежды возлагал именно на это обстоятельство. За все действительно проведенные им сделки по продаже сертификатов займа альпари город вознаградит его обычным куртажем[21] (это необходимо во избежание недоразумений с биржевым комитетом). Что же касается всего прочего, например, фиктивных сделок, к которым не раз придется прибегать, то он надеется сам вознаградить себя за труд, рассчитывая на свое знание биржевой игры. Если Стинеру угодно войти с ним в долю в его биржевых махинациях, он будет очень рад.
Подобная комбинация, туманная для человека непосвященного, совершенно ясна опытному биржевику. Самые разнообразные уловки искони практиковались на бирже, когда дело касалось ценностей, находящихся под нераздельным контролем одного человека или определенной группы людей. Эта комбинация ничем не отличалась от того, что позднее проделывалось с акциями «Ири», «Стандард Ойл», «медными», «сахарными», «пшеничными» и всякими другими. Каупервуд одним из первых – в бытность свою еще молодым биржевиком – понял, как устраиваются такие дела. Ко времени его первой встречи со Стинером ему было двадцать восемь лет. Когда он в последний раз «сотрудничал» с ним, ему минуло тридцать четыре.
Постройка домов для семейств старого и молодого Каупервудов и переделка фасада банкирской конторы «Каупервуд и Ко» быстро подвигались вперед. Фасад конторы был выдержан в раннем флорентийском стиле: с окнами, суживающимися кверху, с узорчатой кованой дверью между изящными резными колонками и карнизом из бурого известняка. На середине этой невысокой, но изящной и внушительной двери была искусно вычеканена тонкая, нежная рука с вознесенным пылающим факелом. Элсуорт объяснил Каупервуду, что в старину в Венеции такую руку изображали на вывесках меняльных лавок, но теперь первоначальное значение этой эмблемы позабылось.
Внутри помещение было отделано полированным деревом, узор которого воспроизводил древесный лишай. Окна сверкали множеством мелких граненых стекол – овальных, продолговатых, квадратных и круглых, расположенных по определенному, приятному для глаза, рисунку. Газовые рожки были сделаны по образцу римских светильников, а конторский сейф, как это ни странно, служил украшением: он стоял в глубине конторы на мраморном постаменте, и по его лакированной серебристо-серой поверхности было золотом выгравировано: «Каупервуд и Ко». Все помещение, выдержанное в благородно-строгом вкусе, в то же время свидетельствовало о процветании, солидности и надежности. Когда здание было готово, Каупервуд осмотрел его и с довольным видом похвалил Элсуорта:
– Мне нравится! Это очень красиво! Работать здесь – одно удовольствие. Если особняки получатся такие – это будет великолепно!
– Подождите еще хвалить, пока они не окончены! Впрочем, думаю, что вы останетесь довольны, мистер Каупервуд. Мне пришлось немало поломать себе голову над вашим домом из-за его небольших размеров. Дом вашего отца дается мне значительно легче. Но ваш…
И он пустился в описание вестибюля и гостиных, большой и малой, которые он располагал и отделывал так, чтобы они выглядели более просторными в внушительными, чем позволяли их скромные размеры.
Когда строительство было закончено, оказалось, что оба дома и в самом деле весьма эффектны, оригинальны и нисколько не похожи на заурядные особняки по соседству. Их разделяла зеленая лужайка футов в двадцать шириною. Архитектор, позаимствовав кое-что от школы Тюдоров, отказался от той вычурности, которая стала позднее отличать многие особняки Филадельфии и других американских городов. Особенно хороши были двери, расположенные в широких, низких, скупо орнаментированных арках, и три застекленных фонаря необычайной формы, один – во втором этаже у Фрэнка, два – внизу, на фасаде отцовского дома. Над фронтонами обоих домов виднелись коньки крыш: два у Фрэнка, четыре у его отца. Каждый фасад имел в первом этаже по окну в глубокой нише, образованной выступами наружной стены. Эти окна были защищены со стороны улицы низеньким парапетом, вернее балюстрадой. На ней можно было поставить горшки с вьющимися растениями и цветами, что и было сделано впоследствии, так что с улицы окна, утопающие в зелени, выглядели особенно приятно. В глубине ниш Каупервуды расставили стулья.
В нижнем этаже обоих домов были устроены зимние сады – один напротив другого, а посреди общего дворика – белый мраморный фонтан восьми футов диаметром, с мраморным купидоном, на которого ниспадали струи воды. Этот дворик, обнесенный высокой, с просветами, оградой из зеленовато-серого кирпича, специально обожженного в тон граниту, из которого был сложен дом, облицованный поверху белым мрамором, был весь засеян зеленой бархатистой травой и производил впечатление мягкого зеленого ковра. Оба дома, как это и было намечено с самого начала, соединялись галереей из зеленых колонок, застеклявшейся на зиму.
Теперь Элсуорт уже начал постепенно отделывать и обставлять комнаты в стиле разных эпох, что сыграло большую роль в развитии художественного вкуса Фрэнка Каупервуда и расширило его представление о великом мире искусств. Весьма поучительны и ценны в этом отношении были для него долгие беседы с Элсуортом о стилях и типах архитектуры и мебели, о различных породах дерева, о применении орнаментов, о добротности тканей, о правильном использовании занавесей и портьер, о фанеровке мебели и всевозможных видах паркета. Элсуорт наряду с архитектурой изучал также декоративное искусство и много размышлял над вопросом о художественном вкусе американского народа: вкус этот, как он полагал, должен будет очень развиться с течением времени. Молодому архитектору до смерти надоело преобладавшее в ту пору романское сочетание загородной виллы с особняком. Настало время для чего-то нового. Он и сам еще не знал, каково будет это новое, но пока что радовался уже и тому, что спроектированные им для Каупервудов дома были оригинальны, просты и приятны для глаза. Благодаря этим качествам они выгодно выделялись на фоне архитектуры всей остальной улицы. В доме Фрэнка, по замыслу Элсуорта, в нижнем этаже помещались столовая, зал, зимний сад и буфетная, а также главный вестибюль, внутренняя лестница и гардеробная под нею; во втором – библиотека, большая и малая гостиные, рабочий кабинет Каупервуда и будуар Лилиан, соединявшийся с гардеробной и ванной.
В третьем этаже, искусно спланированном и оборудованном ванными и гардеробными комнатами, находились детская, помещения для прислуги и несколько комнат для гостей.
Элсуорт знакомил Каупервуда с эскизами мебели, портьер, горок, шкафчиков, тумбочек и роялей самых изысканных форм. Они вдвоем обсуждали различные способы обработки дерева – жакоб, маркетри, буль и всевозможные его сорта: розовое, красное, орех, английский дуб, клен, «птичий глаз». Элсуорт объяснял, какого мастерства требует изготовление мебели «буль» и как нецелесообразна она в Филадельфии: бронзовые или черепаховые инкрустации коробятся от жары и сырости, а потом начинают пузыриться и трескаться. Рассказывал он и о сложности и дороговизне некоторых видов отделки и в конце концов предложил золоченую мебель для большой гостиной, гобеленовые панно для малой, французской, ренессанс для столовой и библиотеки, а для остальных комнат – «птичий глаз» (кое-где голубого цвета, кое-где естественной окраски), а также легкую мебель из резного ореха. Портьеры, обои и ковры, по его словам, должны были гармонировать с обивкой мебели, но не точно совпадать с нею по тонам. Рояль и нотный шкафчик в малой гостиной, а также горки, шкафчики, тумбы в зале он рекомендовал, если Фрэнка не отпугнет дороговизна, все-таки отведать в стиле «буль» или «маркетри».
Элсуорт советовал еще заказать рояль треугольной формы, так как четырехугольный наводит уныние. Каупервуд слушал его как зачарованный. Ему уже рисовался дом, благородный, уютный, изящный. Картины – если он пожелает обзавестись таковыми – должны быть оправлены в массивные резные золоченые рамы; а если он решит устроить целую картинную галерею, то под нее можно приспособить библиотеку, а книги разместить в большой гостиной на втором этаже, расположенной между библиотекой и малой гостиной. Позднее, когда у Фрэнка развилась подлинная любовь к живописи, он осуществил эту мысль.
С этого времени в нем пробудился живой интерес к произведениям искусства и к художественным изделиям – картинам, бронзе, резным безделушкам и статуэткам, которыми он заполнял шкафчики, тумбы, столики и этажерки своего нового дома. В Филадельфии вообще трудно было достать подлинно изящные вещи такого рода, а в магазинах они и вовсе отсутствовали. Правда, многие частные дома изобиловали очаровательными безделушками, привезенными из дальних путешествий, но у Каупервуда пока что было мало связей с «лучшими семьями» города. В те времена славились два американских скульптора: Пауэрс и Хосмер – у Фрэнка имелись их произведения, – но, по словам Элсуорта, это было далеко не последнее слово в искусстве, и он советовал приобрести копию какой-нибудь античной статуи. В конце концов Каупервуду удалось купить голову Давида работы Торвальдсена, которая приводила его в восторг, и несколько пейзажей Хэнта, Сюлли и Харта, в какой-то мере передававших дух современности.
Такой дом, несомненно, налагает отпечаток на своих обитателей. Мы почитаем себя индивидуумами, стоящими вне и даже выше влияния наших жилищ и вещей; но между ними и нами существует едва уловимая связь, в силу которой вещи в такой же степени отражают вас, в какой мы отражаем их. Люди и вещи взаимно сообщают друг другу свое достоинство, свою утонченность и силу: красота или ее противоположность, словно челнок на ткацком станке, снуют от одних к другим. Попробуйте перерезать нить, отделить человека от того, что по праву принадлежит ему, что уже стало для него характерным, и перед вами возникает нелепая фигура то ли счастливца, то ли неудачника – паук без паутины, который уже не станет самим собою до тех пор, покуда ему не будут возвращены его права и привилегии.
Глядя, как растет его новый дом, Каупервуд проникался сознанием своей значимости, а отношения, неожиданно завязавшиеся у него с городским казначеем, были как широко распахнутые двери в елисейские поля удачи. Он разъезжал по городу на паре горячих гнедых, чьи лоснящиеся крупы и до блеска начищенная сбруя свидетельствовали о заботливом попечении конюха и кучера. Элсуорт уже строил просторную конюшню в переулке, позади новых домов, для общего пользования обеих семей. Фрэнк обещал жене, как только они обоснуются в своем новом жилище, купить ей «викторию» – так назывался в те времена открытый и низкий четырехколесный экипаж, – ведь им придется много выезжать. Они будут давать вечера, говорил он, так как ему необходимо расширять круг своих знакомств. Вместе с сестрой Анной и братьями Джозефом и Эдвардом они будут пользоваться для приемов обоими домами. Почему бы Анне не сделать блестящую партию? Надо надеяться, что Джо и Эд тоже сумеют выгодно жениться, так как уже теперь ясно, что в коммерции они многого не достигнут. Во всяком случае, они могут попытаться.
– Разве тебе самой все это не по душе? – спросил Фрэнк после разговора о приемах.
Лилиан вяло улыбнулась.
– Я привыкну, – отвечала она.
Глава XVI
Вскоре после соглашения между казначеем Стинером и Каупервудом сложная политико-финансовая машина заработала с целью осуществления их замыслов. Двести тысяч долларов в шестипроцентных сертификатах, подлежащих погашению за десять лет, были записаны по книгам городского самоуправления на счет банкирской конторы «Каупервуд и Ко». Каупервуд начал предлагать заем небольшими партиями по цене, превышающей девяносто долларов, при этом он всеми способами внушал людям, что такое помещение капитала сулит большие выгоды. Курс сертификатов постепенно повышался, и Фрэнк сбывал их все в большем количестве, пока наконец они не поднялись до ста долларов и весь выпуск на сумму в двести тысяч долларов – две тысячи сертификатов – не разошелся мелкими партиями. Стинер был доволен. Двести сертификатов, числившиеся за ним и проданные по сто долларов за штуку, принесли ему две тысячи долларов барыша. Это был барыш незаконный, нажитый нечестным путем, но совесть не слишком мучила Стинера. Да вряд ли она и была у него. Стинеру грезилась счастливая будущность.
Трудно с полной ясностью объяснить, какая невидимая, но могучая сила сосредоточилась таким образом в руках Каупервуда. Надо не забывать, что ему шел только двадцать девятый год. Вообразите себе человека, от природы одаренного талантом финансиста и манипулирующего огромными суммами под видом акций, сертификатов, облигаций и наличных денег так же свободно, как другой манипулирует шашками или шахматами на доске. А еще лучше представьте себе мастера, овладевшего всеми тайнами шахматной игры, – прославленного шахматиста из тех, что, сидя спиной к доске, играют одновременно с четырнадцатью партнерами, поочередно объявляют ходы, помнят положение всех фигур на всех досках и неизменно выигрывают. Конечно, сравнение вполне допустимо. Чутье подсказывало ему, как поступать с деньгами – он умел депонировать их в одном месте наличными и в то же время использовать их для кредита и как базу для оборотных чеков во многих других местах. В результате обдуманного, последовательного проведения подобных операций он уже располагал покупательной способностью, раз в десять, а то и в двенадцать превышавшей первоначальную сумму, поступившую в его распоряжение. Каупервуд инстинктивно усвоил принципы игры на повышение и на понижение. Он не только в точности знал, какими способами изо дня в день, из года в год он будет подчинять своей воле снижение и повышение курса городских сертификатов – разумеется, если ему удастся сохранить свое влияние на казначея, – но также, как с помощью этого займа заручиться в банках таким кредитом, какой ему раньше и не снился. Одним из первых воспользовался создавшейся ситуацией банк его отца и расширил кредит Фрэнку. Местные политические заправилы и дельцы – Молленхауэр, Батлер, Симпсон и прочие, – убедившись в его успехах, начали спекулировать городским займом. Каупервуд стал известен Молленхауэру и Симпсону если не лично, то как человек, сумевший весьма успешно провести дело с выпуском городского займа. Говорили, что Стинер поступил очень умно, обратившись к Каупервуду. Правила фондовой биржи требовали, чтобы все сделки подытоживались к концу дня и балансировались к концу следующего; но договоренность с новым казначеем избавляла Каупервуда от соблюдения этого правила, и в его распоряжении всегда было время до первого числа следующего месяца, то есть иногда целых тридцать дней, для того чтобы отчитаться во всех сделках, связанных с выпуском займа.
Более того, это, в сущности, нельзя было даже назвать отчетом, ибо все бумаги оставались у него на руках. Поскольку размер займа был очень значителен, то значительны были и суммы, находившиеся в распоряжении Каупервуда, а так называемые трансферты[22] и балансовые сводки к концу месяца оставались простой формальностью. Фрэнк имел полную возможность пользоваться сертификатами городского займа для спекулятивных целей, депонировать их как собственные в любом банке в обеспечение ссуд и таким образом получать под них наличными до семидесяти процентов их номинальной стоимости, что он и проделывал без зазрения совести. Добытые таким путем деньги, в которых он отчитывался лишь в конце месяца, Каупервуд мог употреблять на другие биржевые операции, кроме того, они давали ему возможность занимать все новые суммы. Ресурсы его расширились теперь безгранично – пределом им служили только время да его собственные энергия и находчивость. Политические заправилы города не имели даже представления, каким золотым дном стало для Каупервуда это предприятие, ибо не подозревали всей изощренности его ума. Когда Стинер, предварительно переговорив с мэром города Стробиком и другими, сказал Каупервуду, что в течение года переведет на его имя по книгам городского самоуправления все два миллиона займа, Каупервуд не отвечал ни слова – восторг сомкнул его уста. Два миллиона! И он будет распоряжаться ими по своему усмотрению! Его пригласили финансовым консультантом, он дал совет, и этот совет был принят! Прекрасно! Каупервуд не принадлежал к людям, склонным терзаться угрызениями совести. Он по-прежнему считал себя честным финансистом. Ведь он был не более жесток и беспощаден, чем был бы всякий другой на его месте.
Необходимо оговорить, что маневры Стинера с городскими средствами не имели никакого отношения к позиции, которую местные воротилы занимали в вопросе о контроле над конными железными дорогами; этот вопрос представлял собою новую и волнующую ступень в финансовой жизни города. В нем были заинтересованы многие из ведущих финансистов и политиков, например, Молленхауэр, Батлер и Симпсон, действовавшие здесь поодиночке, каждый на свой страх и риск. На сей раз между ними не существовало сговора. Правда, поглубже вникнув в этот вопрос, они, наверное, решили бы не допускать вмешательства постороннего лица. Но тогда в Филадельфии конно-железнодорожных линий было еще так мало, что никому не приходило на ум создать крупное объединение конных железных дорог, как это было сделано позже. Тем не менее, прознав о соглашении между Стинером и Каупервудом, Стробик явился к Стинеру и изложил ему свой новый замысел. Все они немало наживутся благодаря Каупервуду, и прежде всего сам Стробик и Стинер. Что же в таком случае мешает ему и Стинеру вместе с Каупервудом в качестве их представителя – вернее, тайного представителя Стинера, ибо Стробик не имел смелости открыто участвовать в этом деле, – скупить побольше акций одной из линий конной железной дороги и обеспечить себе контроль над нею? А потом если он, Стробик, сумеет добиться от муниципалитета разрешения на прокладку новых линий, то эти новые линии, как ни верти, окажутся в их руках. Правда, Стробик надеялся впоследствии вытеснить Стинера. Ну, да там видно будет. А пока что нужно ведь кому-нибудь провести подготовительную работу, и почему, собственно, этого не может сделать Стинер? В то же время Стробик понимал, что такая «работа» требует сугубой осмотрительности, ибо его шефы, конечно, всегда начеку, и, если они обнаружат, что он впутался в подобное дело ради личной выгоды, они лишат его возможности продолжать политическую деятельность, благодаря которой он только и мог наживаться. Не следует забывать, что любая организация, например, компания, владеющая одной из уже действующих городских линий, имела право ходатайствовать перед муниципалитетом о разрешении удлинять пути. Это шло на пользу благоустройству города, и потому ходатайство подлежало удовлетворению. Вдобавок Стробик не может одновременно являться акционером конной железной дороги и мэром города. Иное дело, когда Каупервуд частным порядком действует в интересах Стинера!
Примечательно, что этот план, который Стинер от имени Стробика излагал Каупервуду, в корне видоизменял позицию последнего по отношению к городским властям. Несмотря на то что с Эдвардом Батлером Каупервуд вел дела лишь частным порядком, как его агент, и несмотря также на то, что он ни разу не виделся ни с Молленхауэром, ни с Симпсоном, он все же догадывался, что, оперируя с городским займом, фактически работает на них. С другой стороны, когда Стинер явился к нему и предложил исподволь скупать акции конных железных дорог, Фрэнк по его поведению сразу понял, что тут дело нечисто и что Стинер и сам считает свою затею противозаконной.
– Скажите-ка, Каупервуд, – начал городской казначей в то утро, когда он впервые заговорил об этом деле (они сидели в кабинете Стинера в старом здании ратуши, на углу улиц Шестой и Честнат, и казначей, предвидя огромные барыши, пребывал в благодушнейшем настроении), – нет ли в обращении бумаг какой-нибудь конной железной дороги, которые можно было бы скупить, чтобы впоследствии, при наличии достаточного капитала, прибрать к рукам эту дорогу?
Каупервуд знал, что такие бумаги имеются. Его быстрый ум давно уже учуял, какие возможности кроются в них. Омнибусы мало-помалу исчезали. Лучшие маршруты конки были уже захвачены. Тем не менее улиц оставалось еще достаточно, а город разрастался не по дням, а по часам. Прирост населения сулил в будущем большие перспективы. Можно было рискнуть и заплатить любую сумму за уже существующие короткие линии, если имелась возможность выждать и впоследствии удлинить их, проложив пути в более оживленных и богатых районах. В голове Каупервуда уже зародилась теория «бесконечной цепи», или «приемлемой формулы», как это было названо впоследствии, заключавшейся в следующем: скупив то или иное имущество с большой рассрочкой платежа, выпустить акции или облигации на сумму, достаточную не только для того, чтобы удовлетворить продавца, но и для того, чтобы вознаградить себя за труды, не говоря уже о приобретении таким путем избытка средств, которые можно будет вложить в другие подобные же предприятия, затем, базируясь на них, выпустить новые акции, и так далее до бесконечности! Позднее это стало обычным деловым приемом, но в ту пору было новинкой, и Каупервуд хранил свою идею в тайне. Тем не менее он обрадовался, когда Стинер заговорил с ним, ибо финансирование конных железных дорог было его мечтой и он не сомневался, что, однажды прибрав их к рукам, в дальнейшем блестяще поведет это дело.
– Да, разумеется, Джордж, – сдержанно отвечал он, – есть две-три линии, на которых, имея деньги, можно со временем неплохо заработать. Я уже заметил, что на бирже кто-нибудь нет-нет да и предложит пакеты их акций. Нам следовало бы скупить эти акции, а там посмотрим: может быть, и еще кто-нибудь из держателей вздумает продать свой пакет. Наиболее интересным предложением мне сейчас кажутся линии Грин-стрит и Коутс-стрит. Будь у меня тысяч триста-четыреста, которые я мог бы постепенно вкладывать в это дело, я бы ими занялся. Для контроля над железной дорогой требуется каких-нибудь тридцать процентов акционерного капитала. Большинство акций распылено среди мелких держателей, которые никогда не бывают на общих собраниях и не принимают участия в голосовании. Тысяч двухсот или трехсот, по-моему, хватило бы на то, чтобы полностью забрать в свои руки контроль над дорогой.
Он назвал еще одну линию, которую со временем можно было бы захватить тем же способом.
Стинер задумался.
– Это очень большие деньги, – нерешительно произнес он. – Ну хорошо, мы еще поговорим в другой раз, – но тут же отправился советоваться со Стробиком.
Каупервуд знал, что у Стинера нет двухсот или трехсот тысяч, которые он мог бы вложить в дело. Раздобыть такие деньги он мог только одним путем, а именно: изъять их из городской казны, поступившись процентами. Но едва ли он в одиночку отважится на такое дело. Кто-нибудь стоит за его спиной – и кто же, как не Молленхауэр, Симпсон или, возможно, даже Батлер; насчет последнего у Каупервуда не было полной уверенности, если, конечно, и здесь втихомолку не орудует «триумвират». Да и что удивительного? Политические заправилы всегда черпали из городской казны, и Каупервуд сейчас думал лишь о том, как он должен вести себя в этом деле. Что, собственно, может угрожать ему, если авантюра Стинера увенчается успехом? А какие основания предполагать, что она провалится? Но даже и в этом случае ведь он, Каупервуд, действует только как агент! Вдобавок он понимал, что, манипулируя этими деньгами в интересах Стинера, он, при благоприятном стечении обстоятельств, сможет и сам для себя добиться контроля над несколькими линиями.
Больше всего он интересовался линией, недавно проложенной вблизи от его нового дома, – так называемой линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Каупервуду иногда случалось пользоваться ею, когда он поздно задерживался где-нибудь или не хотел ждать экипажа. Она проходила по двум оживленным улицам, застроенным красными кирпичными домами, и со временем, когда город разрастется, несомненно, должна была стать очень доходной. Но сейчас она еще слишком коротка. Вот если бы заполучить эту линию и связать ее с линиями Батлера, Молленхауэра или Симпсона – как только он закрепит их за ними, – тогда можно будет добиться от законодательного собрания разрешения на дальнейшее строительство. Фрэнку уже мерещился концерн, в который входят Батлер, Молленхауэр, Симпсон и он сам. В таком составе они смогут добиться чего угодно. Но Батлер не филантроп. Для того чтобы разговаривать с ним, надо иметь солидный козырь на руках. Он должен воочию убедиться в заманчивости подобной комбинации. Кроме того, Каупервуд был агентом Батлера по скупке акций конных железных дорог, и если именно эта линия сулила такие барыши, Батлер, естественно, мог заинтересоваться, почему акции ее не были предложены прежде всего ему. Лучше подождать, решил Фрэнк, пока дорога фактически не станет его, Каупервуда, собственностью. Тогда дело другое; тогда он будет разговаривать с Батлером как капиталист с капиталистом. В мечтах ему уже рисовалась целая сеть городских железных дорог, которую контролируют немногие дельцы, а еще лучше он один, Каупервуд.
Глава XVII
С течением времени Фрэнк Каупервуд и Эйлин Батлер ближе узнали друг друга. Вечно занятый своими делами, круг которых все расширялся, он не мог уделять ей столько внимания, сколько ему хотелось, но в истекшем году часто ее видел. Эйлин минуло уже девятнадцать лет, она повзрослела, и взгляды ее сделались более самостоятельными. Так, например, она стала различать хороший и дурной вкус в устройстве и убранстве дома.
– Папа, неужели мы всегда будем жить в этом хлеву? – однажды вечером обратилась она к отцу, когда за обеденным столом собралась вся семья.
– А чем плох этот дом, любопытно узнать? – отозвался Батлер, который сидел, вплотную придвинувшись к столу и заткнув салфетку за ворот, что он всегда делал, когда за обедом не было посторонних. – Не вижу в нем ничего дурного. Нам с матерью здесь совсем неплохо живется.
– Ах, папа, это отвратительный дом, ты сам знаешь! – вмешалась Нора; ей исполнилось семнадцать лет, и она была такой же бойкой, как ее сестра, но только еще меньше знала жизнь. – Все говорят это в один голос. Ты только посмотри, сколько чудесных домов вокруг.
– Все говорят! Все говорят! А кто эти «все», хотел бы я знать? – иронически, хотя и не без раздражения осведомился Батлер. – Мне, например, он нравится. Насильно здесь никого жить не заставляют. Кто они такие, эти «все», скажите на милость? И чем это так плох мой дом?
Вопрос о доме поднимался не впервые, и обсуждение его всякий раз либо сводилось к тому же самому, если только Батлер не отмалчивался, ограничиваясь своей иронической ирландской усмешкой. В этот вечер, однако, такой маневр ему не удался.
– Ты и сам прекрасно знаешь, папа, что дом никуда не годится, – решительно заявила Эйлин. – Так чего же ты сердишься? Дом старый, некрасивый, грязный! Мебель вся разваливается. А этот рояль – просто старая рухлядь, которую давно пора выбросить. Я больше на нем играть не стану. У Каупервудов, например…
– Дом старый? Вот как! – воскликнул Батлер, и его ирландский акцент стал еще резче под влиянием гнева, который он сам разжигал в себе. – Грязный, вот как! И какая это мебель у нас разваливается? Покажи, сделай милость, где она разваливается?
Он уже собирался придраться к ее попытке сравнять их с Каупервудами, но не успел, так как вмешалась миссис Батлер. Это была полная, широколицая ирландка, почти всегда улыбающаяся, с серыми глазами, теперь уже изрядно выцветшими, и рыжеватыми волосами, потускневшими от седины. На левой ее щеке, возле нижней губы, красовалась большая бородавка.
– Дети, дети, – воскликнула она (мистер Батлер, несмотря на все свои успехи в коммерции и политике, был для нее все тот же ребенок), – чтой-то вы ссоритесь! Хватит уж. Передайте отцу помидоры.
За обедом прислуживала горничная-ирландка, но блюда тем не менее передавались от одного к другому. Над столом низко висела аляповато разукрашенная люстра с шестнадцатью газовыми рожками в виде белых фарфоровых свечей – еще одно оскорбление для эстетического чувства Эйлин.
– Мама, сколько раз я просила тебя не говорить «чтой-то»! – умоляющим голосом произнесла Нора, которую очень огорчали ошибки в речи матери. – Помнишь, ты обещала последить за собой?
– А кто тебе позволил учить мать, как ей разговаривать! – вскипел Батлер от этой неожиданной дерзости. – Изволь зарубить себе на носу, что твоя мать говорила так, когда тебя еще и на свете не было. И ежели б она не работала всю жизнь как каторжная, у тебя не было бы изящных манер, которыми ты сейчас перед ней выхваляешься! Заруби это себе на носу, слышишь? Она в тысячу раз лучше всех твоих приятельниц, нахалка ты эдакая!
– Мама, слышишь, как он меня называет? – захныкала Нора, прячась за плечо матери и притворяясь испуганной и оскорбленной.
– Эдди! Эдди! – укоризненно обратилась миссис Батлер к мужу. – Нора, детка моя, ты ведь знаешь, что он этого не думает. Правда?
Она ласково погладила по голове свою «малышку». Выпад против ее малограмотного словечка нисколько ее не обидел.
Батлер уже и сам сожалел, что назвал свою младшую дочь нахалкой. Но эти дети – Господи Боже мой! – право же, они могут вывести из терпения. Ну чем, скажите на милость, нехорош для них этот дом?
– Не стоит, право же, поднимать такой шум за столом, – заметил Кэлем, довольно красивый юноша с черными, тщательно приглаженными, расчесанными на косой пробор волосами и короткими жесткими усиками. Нос у него был чуть вздернутый, уши немного оттопыривались, но в общем он был привлекателен в очень неглуп.
И он, и Оуэн – оба видели, что дом вправду плох и скверно обставлен, но отцу и матери все здесь нравилось, а потому благоразумие и забота о мире в семье предписывали им хранить молчание.
– А меня возмущает, что нам приходится жить в такой старой лачуге, когда люди куда беднее нас живут в прекрасных домах. Даже какие-то Каупервуды…
– Ну заладила – Каупервуды да Каупервуды! Чего ты привязалась к этим Каупервудам? – крикнул Батлер, повернув к сидевшей подле него Эйлин свое широкое побагровевшее лицо.
– Но ведь даже их дом намного лучше нашего, хотя Каупервуд всего только твой агент!
– Каупервуды! Каупервуды! Не желаю я о них слышать! Я не собираюсь идти на выучку к Каупервудам! Пускай у них невесть какой прекрасный дом! Мне-то что за дело? Мой дом – это мой дом! Я желаю жить здесь! Я слишком долго жил в этом доме, чтобы вдруг, за здорово живешь, съезжать отсюда! Если тебе здесь не нравится, ты прекрасно знаешь, что я тебя задерживать не стану! Переезжай куда тебе угодно! А я отсюда не тронусь!
Когда в семье происходили такие перепалки, разгоравшиеся по самому пустячному поводу, Батлер имел обыкновение угрожающе размахивать руками под самым носом у жены и детей.
– Ну уж будь уверен, я скоро уберусь отсюда! – отвечала Эйлин. – Слава тебе Господи, мне не придется здесь век вековать!
В ее воображении промелькнули прекрасная гостиная, библиотека и будуары в домах у Каупервудов, отделка которых, по словам Анны, уже приближалась к концу. А какой у Каупервудов очаровательный треугольный рояль, отделанный золотом и покрытый розовым и голубым лаком! Почему бы им не иметь таких же прекрасных вещей? Они, наверно, раз в десять богаче. Но ее отец, которого она любила всем сердцем, был человек старого закала. Правильно говорят о нем люди – неотесанный ирландец-подрядчик. Никакого проку от его богатства! Вот это-то и бесило Эйлин: почему бы ему не быть богатым и в то же время современным и утонченным? Тогда они могли бы… Ах, да что пользы расстраиваться! Пока она зависит от отца и матери, ее жизнь будет идти по-старому. Остается только ждать. Выходом из положения было бы замужество – хорошая партия. Но за кого же ей выйти замуж?
– Ну, я думаю, на сегодня хватит препирательств! – примирительно заметила миссис Батлер, невозмутимая и терпеливая, как сама судьба. Она отлично знала, что так расстраивает Эйлин.
– Но почему бы нам не обзавестись хорошим домом? – настаивала та.
– Или хотя бы переделать этот, – шепнула Нора матери.
– Тсс! Помолчи! Всему свое время, – ответила миссис Батлер Норе. – Вот посмотришь, когда-нибудь мы так и сделаем. А теперь беги да садись за уроки. Хватит болтать!
Нора встала и вышла из комнаты. Эйлин затихла. Ее отец попросту упрямый, несносный человек. Но все-таки он славный! Она надула губки, чтобы заставить его пожалеть о своих словах.
– Ну, полно, – сказал Батлер, когда все вышли из-за стола; он понимал, что дочь сердита на него и что нужно ее чем-нибудь задобрить. – Сыграй-ка мне на рояле, да только что-нибудь хорошенькое!
Он предпочитал шумные, бравурные пьесы, в которых проявлялись талант и техника дочери, приводившие его в изумление. Вот, значит, что дало ей воспитание: как быстро и искусно играет она эти трудные вещи!
– Можешь купить себе новый рояль, если хочешь. Сходи в магазин и выбери. По мне, и этот хорош, но раз тебе он не нравится, делай как знаешь.
Эйлин слегка сжала его руку. К чему спорить с отцом? Что даст новый рояль, если изменения требует весь дом, вся семейная атмосфера? Все же она стала играть Шумана, Шуберта, Оффенбаха, Шопена, а старик расхаживал по комнате и задумчиво улыбался. Некоторые вещи Эйлин исполняла с подлинной страстностью и проникновением, ибо, несмотря на свою физическую силу, избыток энергии и задор, она умела тонко чувствовать. Но отец ничего этого не замечал. Он смотрел на нее, на свою блестящую, здоровую, обворожительно красивую дочь, и думал о том, как сложится ее жизнь. Какой-нибудь богатый человек женится на ней – благовоспитанный, очень богатый молодой человек с задатками дельца, – а он, отец, оставит ей кучу денег.
По случаю новоселья у Каупервудов устроили большой прием: сначала гости должны были собраться у Фрэнка, а позднее, для танцев, перейти в дом старого Каупервуда, более роскошный и обширный. В нижнем этаже его помещались большая и малая гостиные, комната, где стоял рояль, и зимний сад. Элсуорт так спланировал эти помещения, что их можно было превратить в один зал, достаточно просторный для концертов, танцев или променадов в перерывах между танцами, – одним словом, для любой цели, в какой может возникнуть надобность при большом стечении гостей. Молодой и старый Каупервуды с самого начала строительства предполагали совместно пользоваться обоими домами. Обе семьи обслуживали те же прачки, горничные и садовник. Фрэнк пригласил к своим детям гувернантку. Однако не все было поставлено на широкую ногу: дворецкий, например, совмещал свои обязанности с обязанностями камердинера Генри Каупервуда, он нарезал мясо во время обеда, руководил другими слугами и работал по мере надобности то в одном, то в другом доме. Общая конюшня находилась под присмотром конюха и кучера, а когда требовались два экипажа одновременно, оба они садились на козлы. В общем, это была удобная и экономная система хозяйства.
Приготовления к приему рассматривались Каупервудом как вопрос чрезвычайной важности, ибо из деловых соображений необходимо было пригласить избранное общество. Поэтому после долгих размышлений на прием в доме Фрэнка – с последующим переходом в дом старого Каупервуда – решено было пригласить всех заранее занесенных в список, где значились мистер и миссис Тай, Стинеры, Батлеры, Молленхауэры и представители более избранных кругов, как, например, Артур Рабверс, миссис Сенека Дэвис, Тренор Дрейк с женой, молодые Дрексели и Кларки, с которыми был знаком Фрэнк. Каупервуды не очень надеялись, что эти светские люди соблаговолят пожаловать, но приглашения им все же следовало послать. Позднее вечером предполагался съезд еще более почтенной публики; этот второй список предусматривал знакомых Анны, миссис Каупервуд, Эдварда и Джозефа и всех, кого наметил Фрэнк. Второй список считался главным. Сливки общества, цвет молодежи, все, на кого только можно было воздействовать просьбой, нажимом или уговором, должны были откликнуться на приглашение.
Нельзя было не пригласить Батлеров, родителей и детей, и на дневной, и на вечерний приемы, поскольку Фрэнк явно симпатизировал им, хотя присутствие стариков Батлеров и было очень нежелательно. Даже Эйлин, как правильно думал Фрэнк, казалась Анне и Лилиан не совсем подходящей для собиравшегося у них общества: обсуждая список, они много говорили о ней.
– Она какая-то шалая, – заметила Анна невестке, дойдя до имени Эйлин. – Бог знает что о себе воображает, а между тем не умеет даже как следует держаться. А ее отец! Да-а!.. С таким папашей я бы была тише воды ниже травы!
Миссис Каупервуд, сидевшая за письменным столиком в своем новом будуаре, слегка приподняла брови и сказала:
– Поверь, Анна, я иногда очень сожалею, что дела Фрэнка вынуждают меня общаться с такими людьми. Миссис Батлер… Боже, какая это скука! Сердце у нее доброе, но до чего же она невежественна! А Эйлин просто неотесанная девчонка. И развязна до невозможности. Она приходит к нам и тотчас садится за рояль, особенно когда дома Фрэнк. Мне, в конце концов, безразлично, как она себя ведет, но Фрэнка это, по-моему, раздражает. И пьесы она выбирает какие-то бравурные. Никогда не исполнит ничего изящного и серьезного.
– Мне очень не по душе ее манера одеваться, – в тон ей отозвалась Анна. – И охота же нацеплять на себя такие экстравагантные вещи! На днях я встретила ее, когда она каталась и сама правила. Ах, я жалею, что ты не видела этой картины! Вообрази только: пунцовый жакет «зуав» с широкой черной каймой и шляпа с огромным пунцовым пером и пунцовыми лентами почти до талии. Подходящий наряд для катания! И какой самоуверенный вид. А руки! Посмотрела бы ты, как она держала руки, – вот так, слегка согнув в кистях!.. – Анна показала, как Эйлин это делала. – Длинные желтые перчатки, в одной руке вожжи, а в другой кнут. Между прочим, когда она сама правит лошадью, то мчится сломя голову, а слуга Уильям только подскакивает на запятках! Нет, я жалею, что ты не видела ее! Бог ты мой, как много она о себе воображает! – Анна хихикнула презрительно и насмешливо.
– И все же нам придется пригласить ее; я не вижу, как этого избежать. Но я заранее представляю себе ее поведение: будет расхаживать по комнатам, задирая нос и позируя!
– Право, не понимаю, как можно так держать себя, – подхватила Анна. – Вот Нора мне нравится! Она куда симпатичнее. И ничего особенного о себе не воображает.
– Мне тоже нравится Нора, – подтвердила миссис Каупервуд. – Она очень мила, и, на мой взгляд, ее спокойная красота куда более привлекательна.
– О, разумеется! Я вполне согласна с тобой!
Интересно, однако, что именно Эйлин приковывала к себе все их внимание и возбуждала любопытство своими экстравагантностями. В какой-то мере они судили о ней справедливо, что, впрочем, не мешало Эйлин быть действительно красивой, а умом и силой характера значительно превосходить окружающих. Эйлин, безмерно честолюбивая, обращала на себя внимание – а многих и раздражала – тем, что бравировала недостатками, которые внутренне старалась побороть в себе. Девушку эту возмущало, что люди считают ее родителей – и не без основания – недостойными избранного общества и что это распространяется и на нее. Нет, она ни в чем никому не уступает! Вот, например, Каупервуд, такой способный, быстро выдвигающийся в обществе человек, понимает это. С течением времени Эйлин сблизилась с ним. Он всегда мило обходился с нею и охотно разговаривал. Когда бы он ни появлялся у них или ни встречал ее у себя в доме, он находил случай обменяться с ней несколькими словами. Обычно он близко подходил к ней и смотрел на нее весело и дружелюбно.
– Ну, как поживаете, Эйлин? – спрашивал он, и она ловила устремленный на нее ласковый взгляд. – Как отец, как мама? Катались верхом? Это хорошо. Я вас сегодня видел. Вы были обворожительны.
– О, что вы, мистер Каупервуд!
– Право, вы были чудо как хороши! Вам очень идет амазонка. А ваши золотистые волосы я узнаю издалека.
– Нет, вы не должны говорить мне этого! Вы сделаете меня тщеславной, а родители и без того корят меня тщеславием.
– Не слушайте их! Я вам говорю, что вы были очаровательны, и это правда. Впрочем, вы всегда очаровательны.
– О!
Счастливый вздох вырвался у нее из груди. Краска залила ей щеки. Мистер Каупервуд знает, что говорит. Он все знает, и он такой сильный человек! Многие восхищаются им, в том числе ее отец, мать и, как она слыхала, даже мистер Молленхауэр и мистер Симпсон. А какой у него красивый дом, какая прекрасная контора! Но главное: его спокойная целеустремленность уравновешивала мятущуюся в ней силу.
Итак, Эйлин с сестрой получили приглашение, а папаше и мамаше Батлер в самой деликатной форме дали понять, что бал по окончании приема устраивается преимущественно для молодежи.
К Каупервудам съехалось множество народу. Гостей то и дело представляли друг другу. Хозяева с должной скромностью объясняли, как удалось Элсуорту разрешить стоявшие перед ним трудные задачи. Общество прогуливалось по крытой галерее и рассматривало оба дома. Многие из приглашенных были давно знакомы между собой. Они мило беседовали в библиотеках и столовых. Кто-то острил, кто-то похлопывал по плечу приятеля, в другой группе рассказывали забавные анекдоты, а когда день сменился вечером, гости разъехались по домам.
Эйлин в костюме из синего шелка с бархатной пелеринкой такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид. Ее рыжевато-золотистые волосы были уложены под шляпой в огромный шиньон, а один локон ниспадал на плечо. Эйлин от природы вовсе не была такой вызывающе смелой, какой она казалась, но ей нравилось, чтобы люди именно так думали о ней.
– Вы сегодня изумительны, – сказал Каупервуд, когда она проходила мимо.
– Вечером я буду еще лучше! – последовал ответ.
Легкой, горделивой походкой она прошла в столовую и скрылась за дверью. Нора с матерью задержались, разговаривая с миссис Каупервуд.
– Ах, до чего же у вас красиво! – восхищалась миссис Батлер. – Ух и счастливы вы будете здесь, помяните мое слово! Когда мой Эдди купил дом, где мы сейчас живем, я так и выложила ему напрямик: «Знаешь, Эдди, этот дом уж больно хорош для нас, ей-богу!» А как вы думаете, что он мне ответил? «Нора, – говорит, – ни на этом, ни на том свете нет ничего слишком хорошего для тебя!» Сказал – и чмок меня в губы! Вы только подумайте, такой верзила, а ведет себя, как малый ребенок!
– По-моему, это премило, миссис Батлер, – отозвалась миссис Каупервуд, нервно оглядываясь, как бы их кто-нибудь не услышал.
– Мама очень любит рассказывать такие истории, – вмешалась Нора. – Пойдем, мама, посмотрим столовую!
– Ну, дай вам Бог счастья в новом доме. Я вот всю жизнь была счастлива в своем. И вам того же желаю, от всей души!
И миссис Батлер, добродушно улыбаясь, вперевалочку вышла из комнаты.
Между семью и восемью часами вечера Каупервуды наспех пообедали в семейном кругу.
В девять снова начали съезжаться гости, но теперь это была яркая и пестрая толпа: девушки в сиреневых, кремовых, розовых и серебристо-серых платьях торопливо сбрасывали кружевные шали и просторные доломаны на руки кавалеров, одетых в строгие черные костюмы. На холодной улице то и дело хлопали дверцы подъезжавших экипажей. Миссис Каупервуд с мужем и Анна встречали гостей у двери зала, а старые Каупервуды с сыновьями Джозефом и Эдвардом приветствовали их на другом его конце. Лилиан выглядела очаровательной в платье цвета увядающей розы со шлейфом и глубоким четырехугольным вырезом на шее, из-под которого выглядывала прелестная кружевная блузка. Ее лицо и фигура все еще были красивы, но она уже утратила ту свежесть и нежность, которые несколько лет назад пленили Фрэнка. Анна Каупервуд не была хороша собой, хотя ее нельзя было назвать и некрасивой – маленькая, смуглая, со вздернутым носиком и живыми черными глазами. Лицо ее выражало независимость, настойчивость, ум и – увы – несколько заносчивое отношение к людям. Одета она была с большим вкусом. Черное платье, усыпанное сверкающими блестками, очень шло ей, несмотря на ее смуглую кожу, так же как и красная роза в волосах. У Анны были нежные, приятно округлые руки и плечи. Лукавые глаза, бойкие манеры, остроумие и находчивость в разговоре придавали ей известную обаятельность, хотя, как она сама говаривала, все это было ни к чему: «Мужчинам нравятся куклы!»
Вместе со всей этой толпой молодежи явились и сестры Батлер – Эйлин и Нора. Эйлин сбросила на руки своему брату Оуэну тонкую шаль из черных кружев и черный шелковый доломан. Нору сопровождал Кэлем – стройный, подтянутый, улыбающийся молодой ирландец, весь вид которого говорил о том, что он способен сделать отличную карьеру. На Норе было еще сравнительно короткое, едва закрывавшее щиколотки воздушное платье из белого шелка с бледно-сиреневым узором и крохотными, сиреневыми же, бантиками на кружевных воланах кринолина. Широкая лиловая лента стягивала ее талию, волосы были схвачены таким же бантом. Возбужденная, с сияющими глазами, Нора выглядела прелестно.
Но за ней шла ее сестра в головокружительном туалете из черного атласа, покрытого чешуей серебристо-красных блесток. Ее округлые, прекрасные руки и плечи были обнажены, корсаж на груди и на спине вырезан так низко, как только позволяло приличие. Статная фигура Эйлин с высокой грудью и несколько широкими бедрами в то же время отличалась мягкой гармоничностью. Низкий треугольный вырез корсажа и черный с серебряными прожилками тюль, украшавший платье, делали ее еще более эффектной. Бело-розовая, полная и словно точеная шея девушки оттенялась ожерельем из граненого темного янтаря. Прелесть ее здорового и нежного румянца подчеркивалась крохотной черной мушкой, прилепленной на щеке. Рыжевато-золотистые волосы были искусно взбиты надо лбом, сзади весь этот каскад золота, заплетенный в две толстые косы, был уложен в черную, спускавшуюся на шею сетку, слегка подведенные брови оттеняли необычный цвет ее волос. Среди гостей Эйлин выглядела несколько слишком вызывающей, но объяснялось это не столько ее туалетом, сколько жизненной силой, бившей в ней через край. Умение показать себя в выгодном свете для Эйлин значило бы притушить свою яркость, физическую и душевную. Но жизнь всегда толкала ее к прямо противоположным действиям.
– Лилиан!
Анна тихонько дотронулась до руки невестки. Ее очень огорчало, что Эйлин тоже в черном и куда интереснее их обеих.
– Я вижу, – вполголоса отозвалась та.
– Вот вы и вернулись! – обратилась она к Эйлин. – На улице, верно, холодно?
– Право, я не заметила. Как у вас здесь прелестно!
Она обвела глазами комнату, залитую мягким светом, и толпу гостей.
Нора тотчас же принялась болтать с Анной.
– Вы знаете, я уж думала, что так и не сумею натянуть на себя это платье! Противная Эйлин ни за что не хотела мне помочь!
Эйлин быстро прошла туда, где вместе с матерью стоял Фрэнк. Она спустила с руки атласную ленту, державшую шлейф, и расправила его нетерпеливым движением. Несмотря на всю ее прирожденную заносчивость, в глазах у нее появилось молящее и преданное выражение, как у шотландской овчарки, ровные зубы ослепительно блеснули.
Каупервуд прекрасно понял ее, как понимал всякое породистое животное.
– У меня нет слов сказать вам, как вы прелестны! – шепнул он ей так, словно между ними существовали какие-то давние, им одним известные отношения. – Вы – вся огонь и песня!
Он и сам не знал, почему фраза эта сорвалась с его губ. Склонности к поэзии в нем, собственно, не было. Заранее он не готовился, но едва только он завидел Эйлин в вестибюле, все его мысли и чувства забились и заиграли, как норовистые кони. Появление этой девушки заставило его стиснуть зубы, полузакрыть глаза. Все мышцы его невольно напряглись, а выражение лица по мере приближения Эйлин делалось все решительнее, мужественнее, суровее.
Но обеих сестер тотчас же окружили молодые люди, жаждавшие быть им представленными, записаться на танец, и Каупервуд на время потерял Эйлин из виду.
Глава XVIII
Зерно всякой жизненной перемены трудно постигнуть, ибо оно глубоко коренится в самом человеке. Стоило миссис Каупервуд и Анне упомянуть о бале, как Эйлин ощутила желание блеснуть на нем ярче, чем это удавалось ей до сих пор, несмотря на все богатство ее отца. Общество, в котором ей предстояло появиться, было несравненно более изысканным и требовательным, чем то, в котором она обычно вращалась. Кроме того, Каупервуд значил теперь для нее очень много, и уже ничто на свете не могло заставить ее не думать о нем.
Час назад, когда Эйлин переодевалась, он все время стоял перед ее мысленным взором. Она и о своем туалете заботилась главным образом для него. Она не могла забыть тех минут, когда он смотрел на нее пытливым, ласковым взглядом. Однажды он похвалил ее руки. Сегодня он сказал, что она «изумительна», и она подумала, как легко ей будет произвести на него вечером еще более сильное впечатление, показать ему, как она хороша на самом деле.
Время от восьми до девяти вечера Эйлин провела перед зеркалом, размышляя о том, что ей надеть, и лишь в четверть десятого была наконец совсем готова. Ее платяной шкаф – весьма обширный и громоздкий – был снабжен двумя высокими зеркалами, третье было вделано в дверь гардеробной. Эйлин стояла перед этим зеркалом, смотрела на свои обнаженные руки и плечи, на свою стройную фигуру, задумчиво рассматривала то ямочку на левом плече, то подвязки с гранатами и серебряными застежками в виде сердечек, на которых она сегодня остановила свой выбор. Корсет вначале не удавалось затянуть достаточно туго, и Эйлин сердилась на свою горничную Кетлин Келли. Потом все ее внимание поглотила прическа, и она немало повозилась, прежде чем решила окончательно, как уложить волосы. Эйлин подвела брови, слегка взбила волосы – пусть лежат свободно и оттеняют лоб. Маникюрными ножницами она нарезала кружочки из черного пластыря и стала прилеплять их на щеки. Наконец был найден нужный размер мушки в подходящее место. Она поворачивала голову из стороны в сторону, оценивая общий эффект от прически, подведенных бровей, плеч с ямочками и мушки. О, если бы сейчас ее видел какой-нибудь мужчина! Но кто? Эта мысль, словно испуганная мышка, проворно юркнула назад в нору. Несмотря на всю решительность своего характера, Эйлин страшилась мысли о нем, единственном, о ее мужчине.
Затем она занялась выбором платья. Кетлин разложила перед нею целых пять; Эйлин лишь недавно познала радость и гордость, доставляемые этими вещами, и с разрешения отца и матери вся отдалась нарядам. Она долго осматривала золотисто-желтое шелковое платье с бретелями из кремовых кружев и шлейфом, расшитым таинственно поблескивавшими гранатами, но отложила его в сторону. Затем принялась с удовольствием разглядывать шелковое платье в белую и черную полоску, которые, сливаясь, создавали прелестный серый тон, но как ни велик был соблазн, все же в конце концов отказалась и от него. Среди разложенных перед нею туалетов было платье каштанового цвета с лифом и оборками из белого шелка, еще одно из роскошного кремового атласа и, наконец, черное с блестками, на котором Эйлин и остановила свой выбор. Правда, сначала она примерила кремовое атласное, думая, что вряд ли найдет более подходящее, но оказалось, что ее подведенные брови и мушка не гармонируют с ним. Тогда она надела черное шелковое с серебристо-красной чешуей, и – о радость! – оно сразу рассеяло все ее сомнения. Серебристый тюль, кокетливо драпировавший бедра, сразу пленил ее. Тюлевая отделка тогда только начинала входить в моду; еще не признанная более консервативными модницами, она приводила в восторг Эйлин. Трепет пробежал по ее телу от шелеста этого черного наряда, она выпрямилась и слегка запрокинула голову; платье на ней сидело прекрасно. А когда Кетлин, по ее требованию, еще туже затянула корсет, она приподняла шлейф, перекинула его через руку и снова осмотрела себя в зеркале. Чего-то всетаки недоставало. Ну конечно! Надо что-нибудь надеть на шею. Красные кораллы? Они выглядели слишком просто. Нитку жемчуга? Тоже не подходит. У нее имелось еще ожерелье из миниатюрных камей, оправленных в серебро, – подарок матери – и бриллиантовое колье, собственно, принадлежавшее миссис Батлер, но ни то, ни другое не шло к ее туалету. Наконец она вспомнила о своем ожерелье из темного янтаря, никогда ей особенно не нравившемся, и – ах, до чего же кстати оно пришлось! Каким нежным, гладким и белым казался ее подбородок на этом фоне! Она с довольным видом провела рукой по шее, велела подать себе черную кружевную мантилью и надела длинный доломан из черного шелка на красной подкладке – туалет был закончен.
Бальный зал к ее приходу был уже полон. Молодые люди и девушки, которых там увидела Эйлин, показались ей очень интересными; ее тотчас же обступили поклонники. Наиболее предприимчивые и смелые из этих молодых людей сразу почувствовали, что в этой девушке таится какой-то страстный призыв, жгучая радость существования. Они окружили ее, как голодные мухи слетаются на мед.
Но когда ее список кавалеров начал быстро заполняться, у нее мелькнула мысль, что скоро не останется ни одного танца для мистера Каупервуда, если он пожелает танцевать с нею.
Каупервуд, встречая последних гостей, размышлял о том, какая тонкая и сложная штука взаимоотношения полов. Два пола! Он не был уверен, что этими взаимоотношениями управляет какой-нибудь закон. По сравнению с Эйлин Батлер его жена казалась бесцветной и явно немолодой, а когда он сам станет на десять лет старше, она будет и вовсе стара.
– О да, Элсуорту очень удались эти два дома, он даже превзошел наши ожидания! – говорил Каупервуд молодому банкиру Генри Хэйл-Сэндерсону. – Правда, его задачу облегчала возможность сочетать их между собой, но с моим ему пришлось, конечно, труднее, он ведь более скромных размеров. Отцовский дом просторнее. Я уже и так говорю, что Элсуорт поселил меня в пристройке!
Старый Каупервуд с приятелями удалился в столовую своего великолепного дома, радуясь возможности скрыться от толпы гостей. Фрэнку пришлось заменить его, да он и сам этого хотел. Теперь ему, может быть, удастся потанцевать с Эйлин. Жена не большая охотница до танцев, но надо будет разок пригласить и ее. Вон там ему улыбается миссис Сенека Дэвис – и Эйлин тоже. Черт возьми, как она хороша! Что за девушка!
– Надо полагать, все ваши танцы уже расписаны? Разрешите взглянуть?
Фрэнк остановился перед нею, и она протянула ему крохотную книжечку с голубым обрезом и золотой монограммой. В зале заиграл оркестр. Скоро начнутся танцы. Вдоль стен и за пальмами уже были расставлены легкие золоченые стулья.
Фрэнк посмотрел ей в глаза – в эти взволнованные, упоенные и жаждущие жизни глаза.
– Да у вас уже все заполнено! Дайте взглянуть. Девятый, десятый, одиннадцатый. Что ж, пожалуй, хватит. Вряд ли мне удастся много танцевать. А ведь приятно иметь такой успех!
– Я не совсем уверена насчет третьего танца. Мне кажется, я что-то спутала. Если хотите, я могу оставить его для вас.
Эйлин сказала неправду. Она ничего не спутала.
– Вы, вероятно, не слишком интересуетесь этим вашим кавалером, – заметил Фрэнк и слегка покраснел.
– Нет.
Эйлин тоже вспыхнула.
– Чудесно! Когда объявят танец, я найду вас. Вы – прелесть. Но я вас боюсь.
Он бросил на нее быстрый испытующий взгляд и отошел. Грудь Эйлин вздымалась. Как трудно иногда бывает дышать в таком нагретом воздухе!
Во время танцев партнершами Фрэнка были сначала жена, затем миссис Дэвис и миссис Уокер – ему изредка удавалось взглянуть на Эйлин, и каждый раз его наполняло радостное ощущение ее силы, ее красоты и бурной энергии – всего, чему он вообще не умел противостоять, а в этот вечер особенно. Как она еще молода, эта девушка! Как обворожительна! И какие бы колкости ни отпускала его жена по ее адресу, он чувствовал, что она больше соответствует его прямолинейной, активной, не ведающей сомнений натуре, чем любая другая женщина. Она несколько простодушна – этого он не мог не видеть, – но, с другой стороны, потребуется совсем немного усилий, чтобы научить ее многое понимать. Она производила на него впечатление чего-то очень большого – не в физическом смысле, конечно, хотя и была почти одного с ним роста, а в эмоциональном. Она вся проникнута жизнелюбием. Танцуя, Эйлин часто проносилась мимо него с сияющим взглядом, полураскрыв рот и обнажая в улыбке ослепительно-белые зубы, и Каупервуд всякий раз испытывал еще незнакомое ему чувство острого восхищения; его неодолимо тянуло к ней. Вся она, каждое ее движение было исполнено прелести.
– Так как же, Эйлин, свободен у вас следующий танец? – спросил он, подходя к ней перед началом третьего тура.
Она только что кончила танцевать и сидела со своим кавалером в дальнем углу большой гостиной, навощенный паркет которой блестел, как зеркало. Несколько искусно расставленных пальм образовали в этом углу подобие зеленого грота.
– Я надеюсь, вы извините меня? – учтиво добавил Фрэнк, вежливо обращаясь к кавалеру Эйлин.
– Разумеется, – отвечал молодой человек, вставая.
– Да, этот танец свободен, – сказала Эйлин. – Давайте посидим здесь; скоро уже начнется. Вы ничего не имеете против? – обратилась она к своему прежнему партнеру, одарив его ослепительной улыбкой.
– Помилуйте! Я уже получил величайшее удовольствие, протанцевав с вами вальс!
Он ушел. Каупервуд сел подле нее.
– Если не ошибаюсь, это молодой Ледокс? Я видел, как вы танцевали с ним. Вы, кажется, любите танцевать?
– Люблю до безумия.
– Не могу этого сказать о себе. Хотя это, верно, увлекательное занятие. Все зависит от того, с кем танцуешь. Миссис Каупервуд тоже не большая охотница до танцев.
Упоминание о Лилиан заставило девушку почувствовать свое превосходство над нею.
– По-моему, вы очень хорошо танцуете. Я тоже наблюдала за вами.
Позднее Эйлин укоряла себя за эти слова. Они прозвучали вызывающе, почти дерзко.
– Это правда? Вы наблюдали за мной?
– Да!
Фрэнк был сильно взволнован, и его мысли туманились: Эйлин невольно вторгалась в его жизнь – вернее, вторглась бы, если бы он это допустил; поэтому его слова звучали как-то даже робко. Он думал о том, что бы такое сказать, подыскивал выражения, которые хоть немного могли бы сблизить их, но не находил. А высказать ему хотелось многое.
– Как это мило с вашей стороны, – произнес он после довольно долгого молчания. – Но что побудило вас наблюдать за мной?
Фрэнк посмотрел на нее с легкой усмешкой. Снова заиграла музыка. Танцоры начали подниматься со своих мест. Он тоже встал.
Каупервуд не думал вкладывать в свой вопрос какое-либо серьезное значение, но сейчас, когда Эйлин стояла так близко, совсем рядом с ним, он пристально посмотрел ей в глаза и с мягкой настойчивостью переспросил:
– Так что же вас к этому побудило?
Они вышли из-под сени пальм. Правой рукой Фрэнк обвил ее талию. Левой он держал ее вытянутую правую руку – ладонь в ладони. Левая рука Эйлин покоилась у него на плече, она стояла вплотную подле него и смотрела ему в глаза. Когда они закружились в ритмическом вихре вальса, она отвела взор и опустила глаза, не отвечая на вопрос Фрэнка. Ее движения были легки и воздушны, как полет бабочки. Фрэнк и сам ощутил какую-то внезапную легкость, словно электрический ток передавшуюся от нее. Ему захотелось поспорить с ней гибкостью тела. Ее руки, сверканье серебристо-красных блесток на черном платье, плотно облегавшем тело, ее шея и золотые волосы туманили его разум. Она дышала здоровьем, молодостью и казалась ему поистине прекрасной.
– Вы мне все еще не ответили, – напомнил Фрэнк.
– Какая прелестная музыка!
Он сжал ее руку.
Эйлин робко подняла на него глаза: несмотря на всю свою веселую, задорную силу, она боялась его. Он явно превосходил всех здесь присутствующих. Сейчас, во время танца, когда он был так близко от нее, он казался ей удивительно интересным, но нервы ее сдали, и она почувствовала желание убежать без оглядки.
– Ну что ж, нет так нет, – улыбнулся он чуть-чуть насмешливо.
Фрэнк вообразил, что ей нравится такой тон разговора, нравится, что он поддразнивает ее намеками на свое затаенное чувство, на свое неодолимое влечение к ней. Но к чему приведет такое объяснение?
– Я просто хотела посмотреть, хорошо ли вы танцуете, – несколько сухо ответила Эйлин.
Испуганная тем, что между ними происходило, она постаралась сдержать свое чувство. Фрэнк заметил эту перемену и улыбнулся. Как приятно танцевать с ней! Никогда он не думал, что в танцах может быть столько прелести!
– Я вам нравлюсь? – неожиданно спросил он как раз в тот миг, когда оркестр умолк.
Трепет пробежал по всему телу Эйлин при этом вопросе. Кусок льда, сунутый за ворот, не заставил бы ее вздрогнуть сильнее. Вопрос, казалось бы, бестактный, но тон, которым он был задан, исключал всякую мысль о бестактности. Эйлин быстро подняла глаза, в упор посмотрела на Каупервуда, но не могла выдержать его взгляда.
– Да, конечно, – ответила она, стараясь сдержать дрожь в голосе, обрадованная, что музыка уже замолкла и сейчас можно будет отойти от него.
– Вы так нравитесь мне, – признался Каупервуд, – что я непременно должен узнать, нравлюсь ли я вам хоть немного.
В его голосе звучала и мольба, и нежность, и даже грусть.
– Да, конечно, – повторила она, стряхнув охватившее ее было оцепенение. – И вы это знаете.
– Мне нужно, чтобы вы были расположены ко мне, – продолжал он тем же тоном. – Мне нужен человек, с которым я мог бы говорить откровенно. Раньше я об этом не думал, но теперь мне это необходимо. Вы не знаете, как вы прелестны!
– Не надо, – перебила его Эйлин. – Я не должна… Боже мой, что я делаю.
Она увидела приближавшегося к ней молодого человека и продолжала:
– Я должна извиниться перед ним. Этот танец был обещан ему.
Каупервуд понял и отошел. Ему стало жарко, нервы его были напряжены. Он понимал, что совершил – или по крайней мере задумал – вероломный поступок. Согласно кодексу общественной морали, он не имел права на такое поведение. Оно противоречило раз и навсегда установленным нормам, как их понимали все вокруг – ее отец, например, или его родители, или любой представитель их среды. Как бы часто ни нарушались тайком эти нормы, они всегда оставались в силе. Однажды, еще в школе, кто-то из его соучеников, когда речь зашла о человеке, погубившем девушку, изрек:
– Так не поступают!
Как бы там ни было, но после всего происшедшего образ Эйлин неотступно стоял перед ним. И хотя ему тотчас пришло на ум, что эта история может до крайности запутать его общественное и финансовое положение, он все же с каким-то странным интересом следил за тем, как сам умышленно, планомерно, хуже того – с восторгом разжигал в себе пламя страсти. Раздувать огонь, который может со временем уничтожить его самого, – и делать это искусно и преднамеренно!
Эйлин, скучая, играла веером и слушала, что говорит ей молодой черноволосый студент-юрист с тонким лицом. Завидев вдали Нору, она попросила у него извинения и подошла к сестре.






