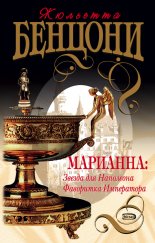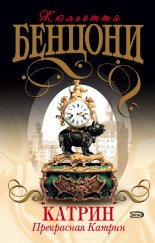Гуси-гуси, га-га-га... Крапивин Владислав
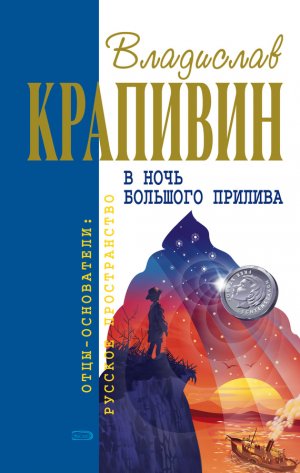
Часть первая
Казенный дом
Белая черта
Клавдия выпросила машину и укатила на Побережье. На целый месяц. То есть это Корнелий так объяснял у себя в бюро: выпросила. И все, кажется, верили. Кроме Рибалтера, конечно. Рибалтер же зацвел ехидной улыбочкой:
– Ну-ну. Похлопала тебя по животику и решила: «Лапочка, тебе полезно немножко поездить на монорельсе и походить пешком. А то смотри, котик, где твоя талия…» А?
Привычная проницательность Рибалтера на сей раз почему-то всерьез разозлила Корнелия. Он бросил в коллегу пластиковым стаканом с карандашами.
– Когда-нибудь доиграешься со своим языком… Безында лысая…
Рибалтер, естественно, ржал, но в глазах мелькнула растерянность. Ругательство «безында» ему, кажется, было незнакомо. А Корнелий и сам не понял, с чего вдруг пришло на ум это бранное словечко школьных времен. Свои ученические годы старший консультант рекламного бюро «Общая радость» Корнелий Глас вспоминал крайне редко. Тоски по «розовому детству» никогда не испытывал. Особенно сейчас, на сорок втором году бренного существования и почти через четверть века после окончания славного мужского государственного колледжа в благословенном городе Руте.
А монорельс и пешие прогулки – это и в самом деле оказалось неплохо. Через неделю Корнелий стал себя чувствовать моложе и веселее. Потолкаться среди пассажиров, поболтать с попутчиками, пока вагон свистит от Центра до Южного Вала, – одно удовольствие. И дорога от станции к дому – тоже. Ходьбы всего десять минут. Путь идет вдоль заросших остатков древнего крепостного вала, мимо садов и коттеджей (обилие и веселый вид которых свидетельствуют, без сомнения, о стабильности и процветании общества).
В пятницу работу закончили к обеду, и в три часа Корнелий вышел уже из вагона.
День стоял чудесный. Безветренный, ласково-жаркий, настоянный на запахах клумбовых растений. Сады дремали. На плитах тротуара лениво шевелились круглые солнечные пятна. За изгородями журчали влагораспылители. Все было хорошо. И даже когда из боковой аллеи на тротуар выкатились трое растрепанных загорелых пацанят, Корнелий глянул на них без обычного раздражения. Усмехнулся: «У, безынды…»
Самый маленький и тощий мальчишка, расставив руки и ноги, держался внутри широкого голубого обруча (видимо, среза пластиковой бочки), двое других толкали это колесо. Все трое весело вопили. Они проскочили рядом с Корнелием – пришлось посторониться. Он заметил, что один мальчишка – рыжий и щербатый. Но и это не испортило Корнелию настроения, хотя известно, что встретить щербатого и рыжего – не к добру.
Никаких, даже мелких, неприятностей не ожидалось. Наоборот! Впереди два выходных. И то, что Клавдия далеко и будет далеко еще три недели, скажем прямо, тоже неплохо. Сейчас Корнелий придет, поплещется под душем, приготовит земляничный коктейль с иголочками льда, потом поваляется в гамаке на террасе и полистает «Всемирную панораму» и «Голос народа», которые достал из ящика утром, но посмотреть не успел. Затем, специально утомившись от послеобеденной жары, он опустит на окнах фильтры «лунный вечер зимой», нагонит кондиционером зябкого воздуха, закутается в плед, включит камин, откупорит бутылочку солоноватого и жгучего «Флибустьера» и сядет смотреть одиннадцатый выпуск сериала «Виль-изгнанник». Показывать будут, видимо, как Виль Горнер после своих приключений на море проник, неузнанный, в родной город, куда ему было запрещено возвращаться под страхом виселицы.
Конечно, чепуха, коммерческая лента. Но ведь смотрится, черт возьми! Как выпуск – так улицы пустеют. Видимо, недостает чего-то нашему благополучному бытию, если так тянет к экранному риску и приключениям… Впрочем, потому и тянет, что они экранные (Корнелий позволял себе иногда этакое ироническое философствование). Едва ли кто-то из восхищенных зрителей пожелал бы оказаться сам в лапах святейшего инквизитора или в компании зловеще-галантного пиратского адмирала Луи Тубрандера. И однако же что-то шевелится в душе, когда снова несется из ящика песенка неунывающего Виля и герой очередной раз неутомимо скрещивает звенящую рапиру с дюжиной вражеских клинков.
Может, в каждом из нас, в самой глубине существа, все-таки тайно живет вот такой Виль Горнер? Может, это остатки наследственной памяти, еле слышный голос предков, для которых шпага была привычна, как фломастер для нынешних специалистов рекламного творчества? Или просто хочется «чего попроще», позанятнее? Рибалтер как-то хихикнул: «Все мы не прочь потрепаться о Гамлете, а кино предпочитаем про Робин Гуда…»
Ну и что? Чем он плох, Робин Гуд-то?
Все знают, как делается «видяшка», и все же, когда смотришь, начинаешь верить понемногу, что были славные времена. Такие, когда честное слово было нерушимым, друзья – железными, любовь – горячей и вечной, а смысл жизни состоял в риске и поисках приключений.
Особенно хорошо смотреть и верить, когда сидишь у камина с «Флибустьером» и знаешь – никто не закричит из соседней комнаты: «Лапочка, ты не хочешь помочь мне наладить соковыжималку?!» Никто не усядется напротив и не станет допытываться: «Котик, это и есть Виль Горнер? Но ведь в прошлой серии его играл, кажется, Рене Хмель, а это Рэм Соната!» (и сдерживаешь себя до такой степени, что цветная голограмма экрана делается плоской и черно-белой).
Но сегодня Корнелию ничто не помешает насладиться двухчасовой серией «Изгнанника». Погонями, дуэлями и прочими элементами зрелища, достойного мужчин.
- Господа, мы пришли не на танцы!
- Будем краткими – время бежит.
- Секунданты, разметьте дистанцию
- И покрепче забейте пыжи!
- Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля!
- Ля! Ля! Ля!
С этой бодрой и, безусловно, достойной мужчины киномелодией Корнелий и приблизился к дому.
В двадцати шагах от решетчато-бетонной зеленой изгороди он вскинул над плечом ладонь. Со стороны могло показаться, что это какой-то ритуальный жест. Словно хозяин приветствует свое жилище (и вправду – полностью свое: полтора месяца назад господин Глас выплатил последний взнос за коттедж, участок и гараж!). Но на самом деле Корнелий просто освобождал из манжета и поворачивал к калитке запястье – чтобы уловитель-привратник издалека поймал излучение индекса.
Электроника сработала, как всегда, без отказа, глухая калитка с шорохом отошла. И Корнелий Глас неторопливо ступил на свою суверенную территорию. Ласково голубели среди плюща идеально чистые стекла. Цвел шиповник. Над подстриженным газоном искрился миниатюрный фонтан.
Корнелий мельком, через плечо, глянул на почтовый ящик. Просто так, зная, что там пусто. Газеты и журналы пришли утром, а писем ждать было не от кого. Клавдия, если и вспомнит, писать не станет, позвонит. Дочь Алла тоже предпочитает телефон: регулярно дает о себе знать раз в месяц…
Тем не менее за решетчатым оконцем ящика светлела бумага. Корнелий остановился. Тупым, несильным коготком царапнуло беспокойство. Бумага была желтовато-серая, казенная. На такой печатались квитанции, счета, извещения. На таком же листке была оттиснута повестка на сборы муниципальной милиции, которые Корнелий Глас «оттрубил» последний раз два года назад.
Что? Неужели опять? Полтора месяца казармы под начальством какого-нибудь кретина из корпуса уланов! Вроде старшего штатт-капрала Дуго Лобмана. Как он, скотина, тешил свою солдафонскую душу, измываясь над «господами интеллигентами»!
Да ну, чепуха! После сорока уже не призывают… Небось какой-нибудь бюллетень муниципалитета…
Успокоив себя, Корнелий дернул дверцу. Дернул все-таки нервно. Листок скользнул мимо пальцев, упал на серую замшу башмака. Бумага была склеена вдвое. Еще не нагнувшись, Корнелий прочитал единственное жирное слово:
ПРЕДПИСАНИЕ
Присев, он разорвал ленточку. И, медленно выпрямляясь, стал читать…
«Г-ну Корнелию Гласу из Руты… № 43-тр… С прискорбием извещаем Вас, что в связи с нарушением общественного порядка (неправильный переход улицы 12 марта с. г.) Вы были внесены в штрафной список по графе 1/1 000 000 и 8 августа с. г. Машина юридической службы «ЮМ-3» при розыгрыше номеров данного списка указала Ваш индекс УМФ-Х 111344…»
Господи, что за чушь!
Такого не бывает…
Но ведь написано!
Слабея, он прислонился к бетонному столбу калитки.
Да нет, ерунда… Здесь что-то не то. Путаница чья-то…
Листок трепыхался в пальцах, как от ветра. В казенных бумагах не бывает ошибок… Но почему это именно с ним?! С какой стати?!
«…На основании данного выбора Машины, Вы являетесь виновным в совершенном нарушении и подлежите смертной казни, производимой в административном порядке…»
Святые Хранители, да что это такое!..
Ну, в самом деле был случай. Он торопился на вечеринку к Рибалтеру и перебежал улицу Короля Наттона (абсолютно пустую!) чуть в стороне от светофора. И какой-то постовой улан-новобранец, коротышка с надутой от важности рожей, засвистел, замахал светящейся палкой. Нацелил, идиот, уловитель индекса.
– Господин, задержитесь, вы нарушили!.. Ага, вот ваш индекс, зафиксируем… Получаете, сударь, шансик из миллиона. Немного на первый раз, но советую впредь быть осторожнее. Честь имею…
Корнелий с деланным сокрушением развел руками. И он, и улан прекрасно понимали, что такое на практике миллионный шанс. Не в пример вероятнее казалась гибель от прямого попадания метеорита или редчайшей болезни «африканский волос». О происшествии на перекрестке Корнелий весело рассказал на вечеринке, и все посмеялись. У некоторых было по нескольку включений в штрафные списки, и не только в миллионные. Специалист по торговому дизайну Виктор Буга, например, недавно влетел в «сотку» – за то, что на своем «Флюгшифе» наехал на цоколь памятника премьеру Крону. Ну и что – один шанс из ста! Пронесло, разумеется…
Кто-то, зевнув, сказал:
– Все это чепуха. Миллионные списки вообще не рассматриваются. Сколько времени надо, чтобы набрать миллион нарушителей, составить программу…
Знатоки юридических тонкостей возразили, что делается это не так. Просто на диск с миллионом пустых ячеек вносятся врассыпную индексы тех, кто попал в нарушители за последние полгода. А потом лазерный искатель бежит по диску и наугад останавливается на одной из ячеек. Чаще всего, разумеется, на пустой. Лишь несносный Рибалтер похлопал Корнелия по плечу и сказал, что теперь тому будет сниться этот искатель в виде костлявого пальца, который шарит по списку, выискивая индекс человека по фамилии Глас. Корнелия на миг пробрало холодком. Он обругал Рибалтера, трахнул полстакана коньяку и больше о «костлявом искателе» никогда не вспоминал…
И вот…
Да нет же, нет! Наверно, он что-то не понял! Тут не так написано, не про то! И вообще это сон…
«Для вышеупомянутой процедуры Вам надлежит 14 августа с. г. к 10 часам утра явиться в муниципальную тюрьму г. Реттерберга. Перед явкой необходимо принять ванну, побриться, надеть чистое белье. Провожающим Вас лицам не следует пересекать белую черту, нанесенную на дорожном покрытии в 100 метрах от тюремной зоны.
Урна с Вашим прахом будет доставлена членам Вашей семьи или другим лицам (по указанию) на дом в трехдневный после акции срок. Если Вы одиноки, погребение будет осуществлено в городском колумбарии общего типа за счет муниципалитета…»
Я! Не! хо-чу!
Корнелий, раздирая тонкий тетраклон пиджака, спиной сполз по столбу калитки. Сел в траву. Ноги остро согнулись. На обтянутое брючиной колено села желтая бабочка.
– Я не хочу, – убедительно сказал ей Корнелий. Потом заорал: – Пошла!!
Дернулся, чтобы вскочить, но опять мгновенно ослаб. Затем вспыхнула ослепительная надежда (почти уверенность!), что на листке – совсем не то! Весь этот ужас ему просто показался!
Он вскинул бумагу к лицу.
«…Право наследования автоматически передается ближайшим родственникам, причем распределение имущества между ними производится юридической Машиной в соответствии с существующим законодательством. Если Вы не имеете родственников, можете распорядиться имуществом при Вашей регистрации по прибытии в муниципальную тюрьму.
Муниципалитет предупреждает Вас, что при неявке в тюрьму и попытке уклониться от предписанной акции Вы будете доставлены под конвоем и подвергнуты казни по уголовному разряду в соответствии со статьей 100/3 действующего законодательства. В этом случае Ваше имущество подлежит конфискации и родственники лишаются права наследования».
И все. Больше ни слова. Ни лазейки, ни крошечной щелочки для надежды. Никакой зацепочки. Фиолетовая печать юридического отдела муниципалитета, витиеватый росчерк делопроизводителя.
Но не может же быть, чтобы все это вправду… А, вот в чем дело! Это не ему! Почта перепутала ящик!
Корнелий метнулся глазами к началу «Предписания».
«Г-ну Корнелию Гласу из Руты… С прискорбием извещаем Вас, что…»
Желтая бабочка все кружилась неподалеку, и Корнелий всем нутром своим ощутил, насколько же она счастливее его… В школе учили, кажется, что бабочки живут совсем недолго. И все-таки эта будет, наверно, еще летать, когда его, Корнелия, уже…
«О-о-о-о…» – тяжкий, выматывающий, все заглушающий страх рухнул вязким грузом. Корнелий упал ничком. Тут же стал на четвереньки, и его стошнило.
С минуту он стоял так, поматывая головой… и чувствуя, что становится легче. Спокойнее как-то.
Опасливо прислушиваясь к себе, Корнелий медленно встал. Страх и правда ослабел. Но Корнелий был уже совсем другой. И другими глазами смотрел на все вокруг…
Загребая башмаками траву, он пошел в дом. Двери из рифленого стекла, как всегда, предупредительно разошлись. Корнелий удивленно и горестно замер на крыльце. Как? Разве он еще хозяин здесь? И этот светло-серый дом с террасой, с высокой финской крышей под искусственной оранжевой черепицей – его? И электроника по-прежнему послушна ему?
Ах да! Ведь в тюрьму для «вышеупомянутой процедуры» ему надо идти только завтра. А сегодня… Да! Сегодня (ха-ха-ха!) он, Корнелий Глас, еще полноценный и полноправный член общества. Индекс его не заблокирован. Можно собрать сослуживцев с Рибалтером во главе и, не заботясь о сбережениях (на последний вечер хватит!), устроить в шикарном подвале «Под зеленой башней» прощальный пир. Или, наоборот, в одиночку отправиться бродить по улицам, заходя в кафе, в киноавтоматы, присаживаясь у стоек открытых баров и вообще «срывая цветы удовольствия» вечернего города…
Корнелий, медленно переставляя ноги, вошел в гостиную и упал вниз лицом на диван, который глубоко подался под ним ласковой пушистой мякотью. Как любил Корнелий бухаться на этот диван, приходя с работы! Раньше…
Он лежал, зарываясь лицом в шелковистую шкуру обивки, а мысли бежали без перерыва, сами по себе.
Да, сегодня он все может. Будто и нет на нем смертного клейма! Может развлекаться, шуметь, смотреть «Виля-изгнанника», трепаться по телефону, делать коктейли, взять напрокат машину и поехать на пляжи Лунного озера. Одного не может «г-н Корнелий Глас из Руты» – сбежать, исчезнуть, спастись. Если завтра в десять часов утра он не отдаст себя в руки исполнителей закона, по всей стране включатся могучие «уши». Вездесущие локаторы юридической службы. У них уловители индексов – не то что у калитки или, скажем, кассовых автоматов. «Уши» чуют излучение за много миль. И корпус уланов – постоянно на страже, эти ребята свое дело знают.
Да и куда бежать? За границу? Но пограничным постам наверняка известны заранее индексы тех, кого не следует выпускать из самого счастливого на планете государства.
…О, индексы! Величайшее изобретение, положившее начало эре стабильности!
Сперва были просто браслеты с излучателями. Хочешь – носи, хочешь – сними и спрячь. Потом браслеты стали обязательными. И никто не возражал, кроме небольших групп экстремистов, привычно вопящих о свободе личности (такие находятся во все времена во всякой стране, когда речь заходит о всеобщем благе). А лет за тридцать до рождения Корнелия Гласа вместо браслетов была введена всеобщая индексикация. Новорожденному вводили в левое запястье раствор стимулятора. Эта чудесная жидкость (о ней первое время даже поэмы писали!) вступала в контакт с организмом и вызывала постоянное биоизлучение. Причем характеристика излучения у каждого человека была неповторима, как рисунок на коже пальцев.
«Борцы за свободу личности» опять подняли крик, и, уступая им, демократическое правительство объявило, что каждая семья сама вправе решать: делать ребенку индексикацию или снабдить его браслетом. Но вскоре об этом решении просто-напросто забыли. Родителей, не согласных с индексикацией, было столь ничтожное число, что не стоило их принимать во внимание. А со временем они перевелись вообще.
Да и какой нормальный человек станет спорить с собственным счастьем и счастьем детей. Индекс – это основа жизни. Это сумма изначального обеспечения и государственной страховки, положенная тебе от рождения. Это постоянный медицинский контроль. Это ненадобность всяких документов. У каждого носителя индекса есть в Центральном государственном информатории персональный диск, на котором записано об этом человеке абсолютно все: от группы крови и оценок за каждый класс школы до любимого блюда и уровня контактности с окружающими.
Ты поступаешь на службу, и электронный контролер кадров за доли секунды набирает о тебе сумму сведений и сообщает – годишься или нет. И, если не годишься, дает совет, куда с твоими способностями лучше пойти. Если, не дай Бог, ты попадаешь в больницу из-за простуды, автокатастрофы или неумеренного возлияния, врач в мгновение ока узнает всю твою медицинскую подноготную и во всеоружии принимается за бесплатный квалифицированный ремонт. Если заказываешь в баре «У тетушки» фужер «Калейдоскопа» с мятным трюфелем, кассовый автомат сам вычитает из записанной на диске твоей наличности нужную сумму – без всяких пошлых чаевых и возни с бумажками и медяками…
А могучие нейроэлектронные мозги Всеобщего административного Контроля и Управления по наблюдению за лояльностью неусыпно варят свои государственные мысли, чтобы каждый гражданин Западной Федерации мог занять в жизни место, достойное своих знаний, трудолюбия и склонностей. Ибо нет ничего важнее устройства счастливых человеческих судеб…
К нынешнему времени без живых индексов, со старомодными браслетами-излучателями, остались лишь старцы, помнившие эпоху так называемой «Космической революции и всеобщего прогресса».
В детские годы Корнелия понятие «прогресс» все чаще заменялось термином «стабильность». Стабильность во всем – в экономике, в семейной жизни, в технике, в характерах, в науке, в деловито-бодрой работе и в неизменно веселом разнообразии отдыха. Человек рождается на свет единожды и вправе прожить свой век без потрясений и с минимальным числом печальных дней.
Стабильность становилась основой бытия. О ней писали как о средстве от всех несчастий. Это слово дети слышали намного раньше, чем начинали понимать во всей полноте. И однажды четвероклассник Корнелий спросил:
– Папа, а все-таки что такое стабильность?
– Это очень просто. Это значит – твердое постоянство, – с готовностью откликнулся отец. – Вот возьмем пример из аптечно-медицинской практики. Если проявить неточность, то…
Шеф-наладчик строгих провизорских автоматов, он во время работы вынужден был молчать, чтобы не отвлекаться, и потому любил порассуждать в семейном кругу.
Корнелий – мальчик покладистый и терпеливый – выслушал пространные объяснения с должным выражением внимания. И под конец узнал, что недавно в журнале «Орбита быта» группа каких-то явных шизофреников из Национальной Академии выступила с открытым письмом, где утверждала, что стабильность в нашем обществе противопоставляется идеям научного развития и ведет к всеобщей энтропии…
Это сообщение папы – тридцатидвухлетнего провизора-электронщика и потомственного интеллигента – Корнелий не понял совершенно. А тут еще вмешалась мама:
– Да провались оно, это научное развитие! Мало нам еще, да? Едва не довели Планету до цепной реакции…
Что такое цепная реакция, Корнелий, конечно, знал. Но в тот момент слова эти вызвали у него не картину всепланетного взрыва, а воспоминание о недавнем горестном событии в школе.
Перед уроками, когда многие уже собрались в классе, Пальчик сказал:
– Дыня, давай проверим твою реакцию. С цепочкой. Хочешь?
Дыня – это была кличка Корнелия. Никакого испытания реакции Дыня, разумеется, не хотел. За ласково-уменьшительным прозвищем Пальчика крылась зловещая сущность. Как и за его обманчивой внешностью. У Пальчика было чистенькое лицо, кукольные голубые глазки и крошечный, похожий на сосок, рот. Этим ртом, красным и мокрым, он часто причмокивал, будто целовал воздух. Причмокивал перед тем, как сделать кому-нибудь гадость. А сделав ее, он как-то не по-мальчишечьи хихикал – будто выталкивал выдохами шарики липкого нечистого воздуха:
– Х-хё, х-хё, х-хё…
Но Пальчик был не только гад. Он был еще и самый главный в классе. Потому что его боялись.
А Корнелий по кличке Дыня был «муля».
Муля – это личность, которую все шпыняют и презирают. Это самый затюканный человек в классе, козел отпущения. Становились мулями обычно те, кто при стычках с одноклассниками не умел дать сдачи. Боязливость не прощалась. Так же, как не прощались и некоторые другие качества: чрезмерная начитанность, излишнее послушание перед учителями и неумение прыгать через гимнастического «верблюда». Традиции и нравы в государственном мужском колледже города Руты оставались незыблемыми в течение десятилетий.
Корнелий Глас, на свою беду, был не только боязлив, но и кругловат (недаром Дыня). Впрочем, ни боязливость его, ни упитанность, ни мешковатость на уроках гимнастики не были чрезмерными. При каких-то иных колебаниях судьбы Корнелий вполне мог остаться в школе равным среди равных. Но во втором классе в потасовке с Эдиком Кабанчиком он не выдержал и, хлюпая расквашенным носом, разревелся да еще (хватило же ума!) пообещал сквозь слезы «рассказать мадам Каролине, как ты, Кабан вонючий, первый ко всем лезешь». Немедленно был он лишен всякого сочувствия и удостоился позорной песенки:
- Муля-дуля, паровоз,
- В голове один навоз…
И началась жизнь изгоя. Особенно тяжко стало в четвертом классе, когда там появился и взял в крепкие руки власть безжалостный Пальчик…
Сейчас Пальчик в упор глядел на Дыню фаянсово-голубыми глазками и наматывал на мизинец тонкую цепочку с амулетом – отлитым из желтого сплава кулачком с вытянутым указательным пальцем. Согласия на эксперимент он и не ждал, все решил сам.
Зрители стали кружком. Пальчик сел на пол, раскинув ноги, напустил перед собой из баллончика детской клизмы лужицу (кто-то захихикал).
– Ш-ша, дети, – сказал Пальчик. – Дайте губку. Дыня будет вытирать ею воду, а я щелкать его цепочкой по руке. Если с пяти раз вытрет – меняемся местами. Такая игра, на быстроту.
Дыне куда деваться? Криво улыбаясь, взял губку, которой с доски стирали надписи. Сел на корточки. Лужица была всего размером с блюдце. А губка – большая. Дыня примерился, все затихли. Дыня сделал обманное движение, цепочка свистнула, ударила об пол, а Дыня одним махом размазал воду в длинную полосу.
– Молодец, – сказал Пальчик. – Жми дальше.
При второй попытке цепочка скользнула по обшлагу. Через двойную ткань – почти не больно. Дыня осмелел и в третий раз прозевал: стальные колечки рассекли на запястье кожу. Корнелий взвизгнул, бросил губку, прижал ссадину к губам.
– А ты как думал? – серьезно произнес Пальчик. – Риск есть риск. Все по-честному.
Корнелий стиснул зубы, сощурил мокрые глаза и двумя рывками крепко растер воду по паркету. И прижал руку к животу, потому что на тыльной стороне ладони алели еще две полоски.
– Не вышло! – вопили послушные Пальчику болельщики. – Не насухо вытер!
– Ш-ша, – оборвал Пальчик. – Вытер нормально. Надо по справедливости. Теперь я…
Они поменялись местами. Снова появилась лужица.
– Лейте больше, – распорядился Пальчик. – Мне все равно. А ты, Дыня, лупи от души, не бойся, я злиться не буду. Я одним движением затру. Не верите? Спорим. Если не получится, дарю тебе, Дыня, цепочку с кулаком!
Корнелий сидел, раскинув ноги, вода блестела у него между развернутых коленей. Рука болела так, что Дыня забыл про осторожность и готовился врезать цепочкой по кисти Пальчика от души. Крепко сжимал в ладони металлический кулачок.
– Э, постой, – добродушно сказал Пальчик. – Ноги-то сделай пошире. Вот так… – Он деловито взял Корнелия за щиколотки и вдруг сильно рванул на себя.
Дыня, запрокинувшись, проехал по паркету и, размазав воду собственным задом, стукнулся об пол затылком.
Пальчик встал над ним, отряхивая ладони.
– Видели? Вытер одним движением. Скажете, не честно?
Все радостно завопили, что честно. Ура Пальчику!
Из последних сил давя в себе слезы, Корнелий встал. Не сдержал злости, швырнул цепочку с амулетом в грудь Пальчику. Но тот не стал его бить за это, сказал великодушно:
– Ничего, Дыня, не переживай. Лучше иди, посуши штанишки.
На Корнелии были новенькие, первый раз надетые брюки – в точности как у Джимми Макферсона из кино «Стрелки’ желтой прерии». Из толстого, с бронзовым отливом, вельвета, с витым поясом и чеканными пряжками на широких кожаных помочах. Корнелий наивно надеялся, что этот мужественный наряд в какой-то степени повысит его авторитет. А что получилось! Толстая ткань будет сырой целый день, а сосед по парте Юлька Сачок на каждом уроке станет поднимать руку:
– Господин учитель, пусть Корнелий Глас выйдет, а то под ним почему-то мокро…
Представив это, Корнелий не выдержал и все-таки заплакал…
Господи, почему опять вспоминается школьное время? Какой теперь в этом смысл?.. И в бюро сегодня отчего-то вспомнилось ругательство детских времен… Может, неспроста? Может, был в этом какой-то зловещий намек?.. И эти трое мальчишек на дороге, причем один – рыжий и щербатый!
Не все ли равно теперь?
Теперь вообще ничто не имеет значения.
«Святые Хранители, за что же это мне? Чем я хуже других?»
Корнелий всхлипнул, оторвал от душного дивана лицо. Понял, что в свесившейся с дивана руке все еще держит листок-предписание. Дернулся от новой нелепой надежды, что все приснилось, и опять кинулся читать.
«Г-ну Корнелию Гласу из Руты… С прискорбием извещаем Вас…»
«С прискорбием»! Сволочи! Они будут жить, жрать, пить, гоготать над анекдотами, а он…
По какому праву?!
Корнелий сел, уперся кулаками в диван. В зеркале напротив увидел свое дикое мокрое лицо. Зажмурился.
Под зеркалом затрещал телефон. Опять с какой-то дикой надеждой Корнелий бросился к аппарату, схватил трубку.
– Ну, как настроение? – спросил хихикающий голос Рибалтера. – Успокоился? Или снова будешь бросаться стак…
– Пошел к черту, гадина! – взревел Корнелий и рванул из стены шнур. И обмер, осознав, что порвал первую нить из тех, которые связывают его с жизнью.
Но он не хотел рвать!
Это его жизнь! Кто имеет право ее отобрать?!
А может, попробовать на прокатной машине с разгона прорваться через пограничный кордон? Как в кино «Резидент уходит навсегда»!..
Но в сопредельном Юр-Тогосе та же система индексов. И кроме того, Корнелий Глас никак не тянет на роль политэмигранта. А что касается простых беженцев и уголовных преступников, то есть международная конвенция о выдаче…
Вот именно, «уголовных преступников»… Если он попытается бежать, в этот разряд его и занесут. То, что конфискуют имущество и дом, – наплевать. И у Клавдии, и у дочери есть свои накопления, они женщины многомудрые. Но если его схватят (а все равно схватят!) – казнь по уголовному разряду.
Эту жуткую процедуру Корнелий видел на экране. В гулком бетонном зале осужденного со скованными руками и завязанными глазами ставят на колени у края квадратной ямы, в глубине которой торчит лента транспортера. Из динамика раскатисто звучат слова приговора, а затем – назидание всем видящим эту сцену и краткая молитва. Выстраивается шеренга улан – в масках и с черными траурными повязками на рукавах парадных малиновых мундиров. Гремит оглушительный и дымный залп карабинов. И то, что секунду назад было человеком, валится в яму, транспортер уносит останки в адский зев крематория (зев этот был показан во весь экран)…
Правда, передача была не документальная, а серия фильма «Дороги неправых», но знатоки утверждали, что все показано с полнейшей точностью…
А с «административными» как? Говорят, что безболезненно и почти незаметно. Пилюля там какая-то или еще что-то подобное. Потому что «административный» – он ведь в общем-то и не виноват. Он по жребию расплачивается за крошечные нарушения и недосмотры многих тысяч беззаботных сограждан. Один – в поучительный пример многим.
Но почему этот один – именно он, Корнелий Глас, которому так славно жилось на Планете до недавнего часа? Который никому не хотел зла?
Корнелий замычал и опять почувствовал тяжелую тошноту. Кинулся в туалет. Оттуда вышел через несколько минут, измученный и почти примирившийся с неизбежным. Он так ослабел, будто осталась от него одна оболочка. Хватаясь за косяки, побрел в гостиную, где, как алтарь, возвышалась «Регина» – могучая установка со стереоэкраном высшего класса – предмет открытой зависти ехидного Рибалтера. Бухнулся в кресло – такое же ласково-податливое, как диван. Тихонько заплакал – такое родное было кресло, будто живое существо. Сколько вечеров он провел в нем перед экраном… А сегодня – последний…
А если разобраться – какая разница: сегодня или потом? Все равно какой-нибудь вечер был бы последним. Может, оно и лучше, что вот так, сразу, без всяких затяжных болезней и притворного сочувствия Клавдии, дочери и сослуживцев?
А почему притворного?.. «Ладно, не валяй дурака, – сумрачно сказал себе Корнелий, – хотя бы сейчас…»
Любил ли он Клавдию? Ну, наверно, вначале – да… Хотя, по правде говоря, женитьба была не столько из-за пылких чувств, сколько из-за желания иметь уютный угол с хозяйкой… Ну и что? Жили не хуже других. Как положено, появилось дитя, Клавдия назвала дочку Аллой. Корнелий некоторое время умилялся, таскал на руках мокро-розового младенца, подавляя порой крепкую досаду от излишней крикливости чада. Но потом вдруг поймал себя на мысли, что так до конца и не проникся ощущением, что эта девочка – его дочь. Он, конечно, тревожился во время ее младенческих хворей, случалось, проверял оценки, когда пошла в школу. Но Алла, очень скоро ставшая маленькой копией мамы, относилась к отцу с той же ноткой снисходительности, что и Клавдия к мужу. В семь лет она впервые, следом за матерью, назвала Корнелия Котиком. Корнелий пожал плечами и с минутной грустью подумал, что его отцовские обязанности, пожалуй, окончены.
Далее все пошло очень быстро. Алла стремительно превратилась в неотличимую от других современно-стандартных красоток девицу (на улице он ее и не узнал бы), окончила курсы младших сотрудников при газетном концерне «Либериум» и с первым мужем укатила в приморский Нейгафен. Там скоропалительно вышла замуж второй раз – кажется, за органиста из какого-то оркестра.
Клавдия все это восприняла как должное, Корнелий следом за ней – тоже.
– Теперь, в конце концов, мы можем пожить и для себя, – сказала ему Клавдия.
Корнелий кивнул. Он никогда не спорил с женой. И не повышал голоса, даже если к горлу подкатывало тяжкое раздражение. Не потому, что щадил тонкую натуру супруги (какая холера с ней сделается?), а интуитивно берег собственный спокойный настрой. Психанешь на две минуты, а потом входишь в «мирное русло» целый час. Это ведь не на службе, где полаялся с Рибалтером, а через пять минут с ним же травишь анекдоты или сговариваешься заглянуть вечером в приятное заведение «мадам Лизы».
Что касается «жизни для себя», то Корнелий и так был занят этим на сто процентов. Не для Клавдии же, в конце концов, и не для преподобной красавицы Аллы вкалывал он в своем рекламбюро над сверхурочными заказами, копил валюту для взносов за этот дом. Клавдии говорил: «К черту эти поездки на Юг… То есть отправляйся, если хочется, а я закончу комплекс витрин для «Музыкальных джунглей». Клавдия чмокала его ниже уха: «Ты у меня умница. Ты у меня добрый…»
А он был не умница и не добрый, а просто домосед по натуре. И свободное, без Клавдии, бытие в своем доме почитал за лучший отдых. А мир, который многие любят наблюдать из окна туристского автобуса, ничуть не хуже выглядел на стереоэкране…
Но скоро, совсем скоро ничего не будет! Ни экрана, ни мира, ни даже Клавдии!..
Однако эта мысль, толкнувшись в сознании, не вызвала прежнего отчаяния. Видно, мозг был так вымотан недавней тоской и ужасом, что уже не отзывался эхом на неотвратимое и страшное.
Корнелий устало подивился собственному равнодушию и глянул на часы.
Что? С момента, как он увидел в ящике предписание, прошло всего сорок минут?
Целый век прошел! Потому что сейчас в кресле сидел совсем иной Корнелий. Передумавший гору непосильных мыслей, прошедший через отчаяние, изнуряющий страх, горькое отречение от жизни и примирение с безжалостной судьбой…
По-прежнему палило сквозь окна солнце. Свесившейся с подлокотника рукой Корнелий повел по краю низкого пульта. Двинул рычажок. Голубые фильтры «лунный вечер зимой» послушно заслонили Корнелия от знойного августа. Еще движение пальца – и загудел кондиционер. Все было под рукой, все было послушно. «Можно жить, не вставая из кресла», – говорил иногда Корнелий и с удовольствием нащупывал кнопку включения «Регины».
…Только чтобы отменить, отключить завтрашнее, никакой кнопки не найдешь…
Боясь, что эта мысль вернет прежний ужас, Корнелий зашарил пальцами с другой стороны кресла. Опустилась крышка низкого бара. Под руку попала тяжелая квадратная бутылка. «Дракон». Жгучий концентрат для «мужских» коктейлей. Прекрасно!
Крепкими зубами (Корнелий так гордился ими! Где они будут завтра?) он вырвал высокую пробку, сплюнул сургуч. Приложил горлышко к губам. Нёбо, язык и миндалины обожгло. Горячий ток пошел до пяток. Вот так! Еще… И пусть все катится в преисподнюю. Как там говорил шутник-проповедник из фильма «Береговое братство»? «Крематорий хорош хотя бы тем, что это не самое холодное место на Планете…» Ха-ха…
Ощущение ожога прошло, а бодрость (хотя и слабенькая, нервная) осталась.
Ставя бутылку, Корнелий тыльной стороной ладони задел твердый переплет какой-то книги. Клавдия вечно сует в бар что попало!.. Ба, да это семейный альбом! Тут наверняка очередная проделка судьбы. Символическое совпадение: вспомни, мол, Корнелий Глас, напоследок всю свою жизнь. Простись…
А он не будет! Черта с два! Не будет, вот и все!..
Хотя почему? Это даже любопытно. И вообще… «Кончать надо достойно». Кажется, именно так говорил в прошлой серии капитан Буйтешлер, храбрый соперник Виля-изгнанника?
Да. И Корнелий тоже… достойно. В последние часы надо это самое… оставаться личностью.
Черт, а внутри в самом деле настоящее пекло. Никогда он не глотал чистого «Дракона». «Х-хё, х-хё, х-хё», – как любил смеяться симпатичный Пальчик… Тьфу, опять лезут в башку воспоминания. Впрочем, это естественно. «Вся жизнь пронеслась перед его внутренним взором…» В альбоме тоже вся жизнь. Благодаря стараниям Клавдии…
Вот – родители… Они ушли в лучший мир почти одновременно, десять лет назад… (А может, он в самом деле есть, лучший мир? Скоро узнаем… Х-хё, х-хё, х-хё…) Корнелий погоревал об отце и матери, но, по правде говоря, он даже в детские годы не был привязан к ним слишком сильно. По странностям своего характера Корнелий напоминал кошку, которая, говорят, привязывается не столько к людям, сколько к месту, где живет. По родному своему дому (трехкомнатной квартире в двухэтажном казенном коттедже на Старолужской улице) он отчаянно тосковал, если его отправляли на школьную загородную дачу или в летний пансионат («Мадам Каролина, а муля, то есть Корнелий Глас, вечером опять ревел в подушку!»). Но почти не скучал по родителям, когда те уезжали куда-нибудь, оставляя сына с покладистой, добродушной соседкой.
Может, с той поры и завелась у Корнелия мечта о собственном и удобном доме как о главной цели жизни? Может, потому для него это кресло роднее, чем Клавдия? (Х-хё, х-хё, х-хё…)
А вот он сам на карточке! Четвероклассник Корнелий Глас, в тех самых злополучных штанах с медными пряжками в виде скрещенных револьверов. Штаны, только что купленные, еще не оскверненные подлой шуткой гнусного Пальчика…
А может, это и не Корнелий? В самом деле, какое-то круглолицее лупоглазое существо ростом чуть выше старого резного стула, у которого оно стоит!.. Где тот стул? И где тот четвероклассник? В нынешнем Корнелии от этого пухлого, приоткрывшего рот мальчика не осталось ни одного атома – в силу известного круговорота веществ. А если так, то какой смысл в таких снимках и воспоминаниях?
Он никогда не понимал тех, кто умилялся школьными годами. Что в них, в этих годах? Обиды, унижения, страх перед плохой отметкой, «трясучка» перед экзаменами, полное бесправие в жизни. И смутная, полустертая, но не исчезающая насовсем память о предательстве из-за вечной своей трусости…
Господи, да что он, хуже других был? Хуже этой сволочи Пальчика или его вечного адъютанта Гуки Клапана? Оба давно уже прошли по уголовному разряду за грабежи с утонченным зверством. Оба кончили век в бетонном подвале (трах! – синий дым, стук тела, кряхтенье поднатужившегося транспортера). Не спас их «последний шанс» (кажется, один из двадцати четырех), который после приговора суда милостиво назначает осужденным юридическая Машина.
Она, Машина-то, не лишена гуманности: в нее специальный блок вставлен. Даже самому отпетому злодею, приговоренному людским судом к высшей каре, дает проблеск надежды. Хоть крохотный, но дает. И, говорят, в этом случае осужденный сам перед казнью последний раз испытывает судьбу: тянет из назначенного числа билетиков один. Трясущейся рукой (Корнелий видел это на экране) человек шарит среди бумажных трубочек, положенных в уланскую фуражку, с отчаянным упованием на спасительное чудо.
Увы, такая надежда – лишь для уголовников. У «административного» Корнелия не будет ее. У него и без того было огромное число счастливых шансов – целый миллион без одного. Кто же виноват, что лазерный искатель уперся именно в ячейку с индексом Корнелия Гласа?
Да, а кто вообще во всем этом виноват?
Кто придумал идиотскую штрафную систему, когда за нарушение любых правил и законов наказание одно – смерть?
Придумал, говорят, Административный Кибернетический Центр – мозг всего государства, хранитель стабильности и общего благополучия. Четко все разработал, стервец! За мелкие проступки вероятность казни совсем крошечная, символическая. За крупные – и шанс побольше: пусть виновный попереживает. А с уголовниками чего церемониться? Им по закону обычно припаивали такой приговор, что даже для мелких жуликов дело пахло крематорием всерьез: один смертный шанс из десяти. У матерых преступников шансов на спасение меньше половины. А у самых отпетых – всего ничего…
Мудрая система! Комментаторы вещали с экранов, что народ принял ее с восторгом – так же, как в свое время всеобщую индексикацию! Во-первых, гарантия полной справедливости и объективности – Машина не ошибается. Во-вторых, страх сурового возмездия (пусть даже при самой малой вероятности) сразу укрепил общественную нравственность и снизил преступность – так, по крайней мере, утверждал с экрана Заместитель Министра национального правопорядка. (Правда, через месяц после этого он был обвинен во взяточничестве и приговорен по уголовному разряду с шансами пятьдесят на пятьдесят, но это лишь подтвердило беспристрастность Машины; Министру, впрочем, повезло, он вытянул «счастливый билетик» и мирно ушел в отставку.)
А какая экономия общественных денег! Расходы на содержание тюрем и стражи упали в десятки раз! Ведь сейчас тюрьмы нужны только для того, чтобы держать там редких осужденных самый короткий срок – от приговора до казни…
А сколько времени там проведет Корнелий? Наверно, это – сразу. Чего долго возиться-то? И скорее всего, завтрашнего вечера он уже не увидит…
Давя в себе вновь колыхнувшийся тоскливый ужас, Корнелий сделал еще глоток. И вспомнил, что хотел прожить последние часы достойно. И спокойно. Сейчас он включит экран и посмотрит одиннадцатую серию «Виля-изгнанника». А потом… он… Нет, сперва это… выключить кондиционер. А то, не ровен час, и простуду схватишь. Простуду? Х-хё, х-хё, х-хё…
…Очнулся он утром. С отчаянной головной болью и тошнотой. И сразу, несмотря на тяжкое страдание похмелья, вспомнил все. Все, что сегодня его ждет!
Но мука была такая, что гибель не казалась страшной. В самом деле! Чем терпеть такое, лучше уж… ничего не терпеть! Краешком сознания Корнелий обрадовался этой спасительной мысли. Чем скорее все кончится, тем лучше!
Но ведь надо еще добрести туда.
Он разлепил веки, которые словно были из жидкого асфальта. От фильтров «лунный вечер зимой» в комнате стоял синий тоскливый полусвет. Белый листок с предписанием (он валялся на ковре) казался голубым.
Корнелий застонал и поднялся. От резкого головокружения стал на четвереньки. Поднялся опять. Согнулся, засеменил в туалет. Его долго и вхолостую выворачивало над раковиной.
Он думал обо всем механически. Ни о чем не надо заботиться. Электроника сама отключит все приборы и поставит дом на режим «хозяева в отъезде». Муниципалитет сообщит Клавдии о случившемся (она бурно возрыдает и быстренько успокоится; Алла – та и рыдать не будет, она современно-сдержанна). Бюро перечислит жене старшего консультанта Гласа зарплату за последнюю неделю. Что еще? Все, пожалуй. Ничего его не держит в этом мире. Позвонить кому-нибудь, попрощаться? Телефон оборван. Да и тошно звонить. Было бы мучительно стыдно признаваться кому-то в случившемся. Хотя, казалось бы, не все ли равно? И в чем он виноват?
Стыд, что кто-то узнает о его скорой казни, был не менее тошнотворным, чем похмелье. Именно поэтому Корнелий заставил себя побриться: чтобы люди на улице по его виду не догадались, что с ним случилось и куда он идет. (Впрочем, и в предписании велено – побриться.)
Бритва ласково мурлыкала в ладони, и Корнелий ощутил сентиментальную жалость расставания с этой похожей на доверчивого котенка машинкой. Потом он вспомнил: в бумаге велено – быть помытым и в чистом белье. Открыл в ванной краны.
Ванну он сделал чересчур горячей, а потом – от ненависти к себе – открыл холодный душ. И принудил себя стоять под ним, стоять, обмирая…
Это была ошибка. Ледяные струи (и наверно, подспудная, неистребимая мысль о близком конце) почти прогнали похмелье. Осталась лишь слабость с дрожью в ногах. Иногда она вырастала так, что делалась похожей на обморок. И непонятно уже было: или это обмирание от алкогольной отравы, или очередной наплыв изнурительного страха.
Постанывая, поматывая головой, Корнелий кое-как вытерся, оделся. Взял в шкафу летний бежевый костюм, выбрал свежую рубашку и даже галстук. Тут опять навалилось обморочное бессилие. Он лег животом на спинку кресла, перегнулся. Кое-как достал на полу бутылку с остатками «Дракона». Задавив тошноту, глотнул. Внутри словно распустился горячий бутон. Голову продрало колючей щеткой. Корнелий резко выпрямился и, не глядя по сторонам, вышел.
– Удачи тебе, Корнелий, – добродушно сказал ему в спину автомат-привратник. С шорохом задвинулась калитка.
Было около девяти утра. Жара еще не наступила, от газонов и кустов пахло свежестью. Посвистывали птицы. Корнелий никогда не знал их названия.
«И никогда не узнаю», – подумал он. Однако без нового страха, просто с горечью. Впрочем, и горечи большой не было. В Корнелии словно что-то отключилось. Остатки отравления выветрились, хотя голова еще немного кружилась. Сильнее других чувств была боязнь встретить знакомых. Станут здороваться, спрашивать: куда так рано собрался в выходной. И придется отвечать, сочинять что-то…
Но никто не встретился по дороге до станции. Вагон монорельса был тоже почти пуст. Отрешенно глядя в окно, Корнелий доехал до станции «Девять Щитов». Серебристо-голубой купол храма со слегка выгнутой ладонью на вершине поднимался над холмом, над лестницами и гущей деревьев.
Не помогут Корнелию Хранители со своими щитами.
Он спустился на улицу, ведущую от холма.
Улица была почти без деревьев, с пыльными двухэтажными домами третьераз рядных контор, лавок, прачечных и похоронных бюро. Потом с двух сторон потянулись глухие бетонные стены складов. Этот непроницаемый бетон будто начал стискивать мозг и сердце. Но Корнелий не сбивал мерного шага. Он чувствовал: если запнется, остановится, страх стремительно вырастет и толкнет в паническое, бессмысленное бегство. И тогда что? Свистки, крики мегафонов, уланы на своих черных одноколесных мотоциклах… Его, растрепанного, исцарапанного, вытаскивают из кустов… Наручники… Толпа любопытных, в ней знакомые. И стыд, стыд…
Впрочем, это думала как бы одна половина мозга, а вторая равномерно отмечала шаги.
Зажатая складами улица сделала резкий поворот, и Корнелий с размаха остановился перед белой чертой – словно грудью грянулся о стену.
Вот она!..
Белая, шириной в ладонь линия пересекала от края до края пыльный асфальт. Перед ней, белилами же, была сделана по трафарету надпись:
СТОП!
ДАЛЬШЕ ПРОХОД ТОЛЬКО С ПРЕДПИСАНИЕМ.
Сердце опять ушло в тошнотворную пропасть, задергалось редко и с разной силой (кажется, у врачей это называется «сердечная недостаточность»?). Тем не менее Корнелий машинально потрогал карман с предписанием – так перед посадкой в аэролайнер проверяют, на месте ли билет.