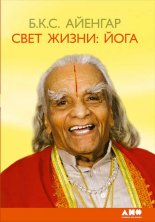Как писать о современном искусстве Уильямс Гильда

На протяжении XX века традиционная прежде задача художественного критика «судить» об искусстве уступила первенство задаче его «интерпретации», допускающей различные, порой взаимоисключающие толкования[38]. «Интерпретатор» объясняет, почему он считает данное произведение «хорошим», но признает и другие точки зрения, в том числе и точку зрения читателя. Не менее важна для сегодняшней критики «контекстуализация», очерчивающая информационную сеть, в которую вплетено произведение:
Из чего оно состоит?
Как оно вписывается в эволюцию художника?
Что уже было сказано о нем и о подобном ему искусстве?
Что происходило вокруг в период его создания?
Контекст может прояснить условия, которые подтолкнули художника к его решениям. Критику редко удается представить факты, связанные с его темой, без упущений, но попытаться необходимо: это составляет основу любого исследовательского текста по искусству, будь то двухстрочная аннотация на музейной этикетке или объемистая диссертация.
Некоторые считают, что произведение искусства обращается к простому субъективному опыту и не требует «чтения», то есть извлечения и словесного выражения его смысла. Согласно этой концепции, текст «переводит» визуальный и эмоциональный опыт в чистое творческое письмо, не связанное никакими обязательствами по отношению к произведению, художнику или зрителю. «Критика сама по себе – искусство»[39], – заметила Сьюзен Морган вслед за Оскаром Уайльдом (1856–1900), который сто с лишним лет назад афористически обыграл слова из еще более старого трактата о функциях художественной критики. По мнению его автора, миссия художественного критика состоит в том, чтобы «увидеть вещь такой, какая она есть». Уайльд иронически переиначил это высказывание:
Цель критика – увидеть вещь не такой, какая она есть[40].
Оскар Уайльд
Отмеченная Уайльдом преобразующая функция письма об искусстве, которое вольно как угодно отклоняться от произведения, лишь бы дать на него оригинальную реплику, допускалась в качестве законной с первых шагов художественной критики, например в пылких текстах Дени Дидро (1713–1784). Не только критик, но и философ, драматург, энциклопедист, Дидро без колебаний перетолковывал картины в пандан почудившимся ему загадочным скрытым смыслам. Описывая полотно Жан-Батиста Грёза «Девушка, оплакивающая мертвую птичку» (1765), героиня которого горюет над трупиком канарейки, он высказал предположение, что мертвая птичка символизирует отчаяние девушки, утратившей добродетель[41]. Во времена Дидро догадка о том, что произведение несет в себе скрытый смысл, читающийся не сразу, была смелым шагом. Сегодня свобода интерпретации, которой пользуются художественные критики, несравненно шире. В ХХI веке откликнуться на произведение искусства можно в любом жанре, будь то научная фантастика или политический манифест, философский трактат или киносценарий, лирическая песня или компьютерная программа, дневниковая запись или оперное либретто.
Дитя, некогда рожденное в любви художественной критикой и литературой, не так давно вернулось в моду как «новый жанр» критического письма. На самом деле этот жанр опробовал еще Гийом Аполлинер в «Убиенном поэте» (1916), а сравнительно недавно его подхватили увлеченные искусством прозаики вроде Линн Тиллман, активной участницы нью-йоркской арт-сцены с конца семидесятых. В журнале Cabinet, выходящем с 2000 года в стиле Wuderkammer[1] и содержащем, по определению редакторов, «образцы идей», вообще лишь изредка встречается слово «искусство»[42]. Но когда в 2008 году одна из его авторов – писатель, редактор и кинорежиссер Крис Краус получила премию Фрэнка Джуэта Матера (одну из самых престижных наград в области художественной критики, присуждаемую Американской ассоциацией художественных колледжей), это стало свидетельством академического признания гибридных форм письма об искусстве – в данном случае причудливого стиля, в котором переплетены элементы автобиографии, биографии художника, критики и художественной прозы. При всей кажущейся вольности и несерьезности «критической беллетристики» ее лучшие образцы демонстрируют продуманную структуру, полет мысли и вместе с тем строгость стиля, какие нечасто встретишь в более традиционной критике.
Куда больше чем Гринбергу и журналу October вместе взятым критики-литераторы и новаторы формы обязаны литературоведу и эссеисту первой половины ХХ века Вальтеру Беньямину (1892–1940). Удивительное размышление Беньямина о небольшой изящной акварели Пауля Клее «Angelus Novus» (1920), написанное около 75 лет назад, остается блестящим примером визионерского текста об искусстве:
У Клее есть картина под названием «Angelus Novus». На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас – цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами [1] и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая [2], наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал.
Текст 1. Вальтер Беньямин. О понятии истории. 1940
Беньямин придает колоссальный масштаб этой, по правде говоря, совсем скромной фигурке, которая выходит по его воле на авансцену вселенской трагедии. Ангел в одиночку противостоит ходу «прогресса» и сохраняет прах бесчисленных историй, сваливающихся к его ногам. Этот текст не судит об акварели Клее и не ставит его ни в какой контекст: лист, между прочим, принадлежал Беньямину, и, должно быть, тот долго всматривался в него, прежде чем странный человечек пришел в движение. Беньямин почти бредит: на листе нет никаких «громоздящихся руин» [1], ни «шквального ветра из Рая» [2], – все это лишь плод его вдохновенного вымысла. Его самого в этом тексте куда больше, чем Клее, и начинающим критикам довольно опасно идти подобным путем. (Однако если вы чувствуете в себе незаурядный интеллект, смелое воображение и писательское мастерство, подобные тем, которыми обладал Беньямин, тогда прочь сонения – пишите так, чего бы это ни стоило. И немедленно бросьте эту книгу: она вам не нужна.)
Ил. 3. Пауль Клее. Angelus Novus. 1920
Некоторые, впрочем, высказывают сомнения в самой возможности поэтического «перевода» художественного опыта на язык слов вслед за влиятельным литературным критиком пятидесятых годов Полом де Маном, который оспаривал взаимную переводимость дисциплин. По его мнению, разрыв между миром «духа» и миром «чувствующей субстанции» непреодолим[43]. Главной мишенью критики де Мана является старинная практика экфрасиса.
Экфрасис – «литературное описание произведения изобразительного искусства» (словарь Мерриама-Вебстера), то есть перевод одной дисциплины (искусство) на язык другой (литературы).
«Письмо об искусстве – все равно что танец на тему архитектуры или вязание на тему музыки», – говорят некоторые, подчеркивая абсурдность подобных усилий[44]. С этой точки зрения любая художественная критика является компенсаторной практикой, обреченной на несоответствие своему предмету. Например, «перевод» на язык слов политического искусства может быть обвинен в предательском смягчении его посыла, нормализующем средствами языка заключенный в произведении протест[45].
Существует давняя традиция критиков-поэтов[46]:
Шарль Бодлер;
Гийом Аполлинер;
Гарольд Розенберг;
Фрэнк О’Хара;
Ричард Бартоломью;
Джон Эшбери;
Жак Дюпен;
Картер Рэтклифф;
Питер Шелдал;
Гордон Берн;
Джон Яу;
Барри Швабски;
Тим Гриффин.
Тексты этих авторов могут показаться вам слишком замысловатыми, но – возможно, как раз благодаря их пиетету как перед искусством, так и перед литературным письмом, – они порой создают образцы самой что ни на сеть проницательной критики. Некоторые художники хорошо пишут не только о своем творчестве, но и о творчестве коллег. Среди лучших образцов критики такого рода я бы назвала (в числе прочих) статьи, которые писали в шестидесятых годах минималисты Дональд Джадд и Роберт Моррис.
5. Критика без границ
С учетом того что знание в текстовой форме считается сегодня практически необходимым сопровождением любого искусства, волей-неволей напрашиваются вопросы:
Присуще ли значение произведению искусства как некое ядро, которое должен извлечь из него внимательный зритель или критик?
Не производится ли это значение самим критиком?
Не пытаются ли критические тексты, как утверждают скептики, лишь загипнотизировать читателя, превращая заурядные вещи в драгоценности путем своего рода заклинания – повторения специальных терминов?
Верно ли, что критики пробуждают произведения искусства к жизни своими словами и текстами?
Или художественная критика всего лишь паразитирует на искусстве, присоединяясь к тому, что без нее чувствует себя только лучше?
Или, наконец, она служит искусству помощницей, сопровождая его, словно преданный пес-поводырь?
Несут ли критики ответственность перед искусством? Никакого признанного канона оценки искусства более не существует, и тексты критиков целиком и полностью следуют их собственным суждениям и критериям. На кого они должны ориентироваться прежде всего – на художников или на читателей? Штатный критик журнала frieze Дэн Фокс, раздраженный (по его собственным словам) потоком пустопорожних публикаций вокруг выставки Altermodern (2009; куратор Николя Буррио) в галерее Тейт Модерн, заявил:
Критики несут ответственность перед читателями: они обязаны объяснить, почему предмет их осуждения плох, прежде чем перечеркивать его безапелляционной фразой; они обязаны привести факты; они обязаны описать произведение – прежде чем критиковать видеофильм, нужно потратить время на его просмотр, как бы долго он ни длился[47].
Методы критика, его этические устои и убеждения важны не меньше, чем проницательность, выбор художника или изящество стиля. По признанию Яна Верворта, толчком к письму служит для него чувство долга перед художественным опытом[48]. Критики, глубоко погруженные в искусство и наделенные даром красноречия, могут помочь художникам прояснить и развить свои идеи: тогда они становятся соратниками художников, а уже не просто сторонними наблюдателями. Так или иначе, долг критиков перед читателями и перед искусством – соблюдать точность. (В одном плохо вычитанном блоге фотография перформанса Кароли Шнееман «Meat Joy» – «Радость мяса» [1964], в котором полуобнаженная Шнееман принимала вызывающие позы, была ошибочно – хотя соблазн ошибки понятен – подписана «Meet Joy» – «Встречайте радость».)
В 1926 году поэт, романист, политический публицист и попутчик сюрреалистов Луи Арагон писал, обращаясь к критикам: вы – «болваны, мерзавцы, негодяи и свиньи. Ни один из вас, будь он выбритым клопом или бородатой вошью, не сможет безнаказанно закопаться среди журнальных страниц, испещренных двусмысленной писаниной»[49]. Возможно, сегодняшние критики не так могущественны, как прежде, но их и не так сильно презирают. Находясь почти в самом низу экономической пирамиды современного искусства, критики не столь чувствительны к его бумам и кризисам. Когда арт-рынок на подъеме, критикам есть о чем писать, а беспокоиться особенно не о чем. Как пишет Борис Гройс, поскольку никто не вкладывается в критику и никто ее не читает, авторы могут наслаждаться полной свободой высказывания, сковывая себя минимальными обязательствами или не сковывая никакими[50].
Если оставить в стороне слабые арт-блоги с их бессмысленными комментариями и неточной информацией, то в целом, как мне кажется, независимая сетевая журналистика благоприятствует письму об искусстве как никакому другому (см. Интернет-сайты и блоги по искусству, с. 353). Сетевые критики, почему-то более раскованные, чем те, кто доверяет свои слова бумаге, уже ввели в оборот беспрецедентный формат, сочетающий в себе информативность, основанную на сведениях из первых рук, осведомленность в современном искусстве и подчеркнуто личное мнение, которое может исходить как от штатного автора, так и от читателя-комментатора. Когда мысли, высказываемые таким комментатором, убедительны и обоснованны, он получает законное место в широком дискуссионном поле современного искусства наряду с критиками-профессионалами[51]. Если к зарождению критики привела, в общем и целом, демократизация художественного опыта после Великой французской революции, то интернет с его общедоступностью и отсутствием границ может открыть новые пути перед многоголосой художественной критикой XXI века.
Глава II
Практика. Как писать о современном искусстве?
Художественная критика – это антология примеров[52].
Мария Фуско, Майкл Ньюман, Адриан Рифкин, Ив Ломакс. 2011
1. «Причина плохих текстов – страх»
Так считает писатель-фантаст Стивен Кинг, и, возможно, для письма об искусстве его наблюдение по поводу прозы в жанре «хорор» справедливо вдвойне[53]. Чаще всего самые беспредметные пресс-релизы, самые заумные академические эссе и самые сбивающие с толку сопроводительные тексты к выставкам пишут самые запуганные новички – студенты художественных колледжей, стажеры и ассистенты кафедр, чьи художественно-критические зубы еще только режутся. Не обладая опытом, они боятся:
прозвучать лупо;
проявить необразованность;
упустить главное;
понять что-то неправильно;
высказать нелепое мнение;
разочаровать руководителя;
сделать неверный выбор;
озадачить художника;
уйти в сторону от темы;
проявить излишнюю прямоту.
Именно страх ответствен за встречающиеся нам то и дело неконкретные, двусмысленные характеристики искусства, которые я называю «йети»:
«знакомый и в то же время таинственный»;
«интригующий и одновременно тревожный»;
«грубый, но утонченный»;
«успокаивающий и вместе с тем будоражащий».
Эти взаимоисключающие пары прилагательных, которые призваны страховать друг друга, говорят о том, что, терзаемый сомнениями и не решающийся остановиться на чем-то одном, автор прячется за неоднозначностью своего предмета. Подобно одноименному чудищу с огромными лапами, «йети» неуловимы и, как только к ним присмотришься, растворяются в пустоте. Обычно слабый текст терпит провал вовсе не потому, что автор смело выражает свой незрелый художественный опыт. Нет, неоперившегося критика настолько тяготит эта задача – вдумчиво написать о своем личном опыте, – что, как правило, он отступается, даже за нее не взявшись. Он начинает издалека, делает тысячу оговорок, цепляется за «концептуальный» шаблон («как того требует гринбергианская догма…») или «актуальную» тему («учитывая сложность жизни в нашу дигитальную эру…»). Будьте смелее, смотрите на искусство и старайтесь просто писать о том, что знаете. Как только вы поверите в себя и накопите багаж знаний, ваши тексты преобразятся!
Описание художественного опыта, как и описание секса, склонно к смущенному многословию. Никто не преуспевает в письме об искусстве с ходу. Почитайте комментарии к арт-блогам или записи в книге отзывов какой-нибудь галереи, и вы сразу почувствуете, как пишут об искусстве непрофессионалы:
«Спасибо! Все просто замечательно! »
«На что только уходят деньги налогоплательщиков!»
«Великолепный способ работы с проволокой!»[54]
Первая попытка содержательно написать об искусстве всегда мучительна. Разумеется, можно взять за образец какой-нибудь пресс-релиз или текст с интернет-сайта и написать что-то вроде: «Фотографии Синди Шерман деконструируют мужской взгляд». Однако избитый арт-жаргон одинаково бесполезен для автора и скучен для читателя.
Часто тексты новичков начинаются с оборотов, подобных такому: «Как только я вошел в галерею, мой взгляд привлекло…» Затем, порой даже не удосужившись описать выставку, автор напрочь забывает об искусстве и уносится мыслями куда-то в сторону: речь уже идет только о нем самом, а не о предмете, который вязнет в ворохе туманных мыслей, анекдотов, незрелых интерпретаций, безосновательных ассоциаций и прочих свидетельств сомнений по поводу того:
с чего начать;
сколько работ – и какие именно – обсуждать;
чем закончить;
как уравновесить описание работ и факты о художнике/выставке;
где вставить в текст собственные догадки.
Пытаясь «объять необъятное», новичок судорожно перебирает множество затертых отвлеченных понятий, например:
подрыв;
раскол;
формальные проблемы;
смещение;
отчуждение;
сегодняшний дигитальный мир.
Термины врезаются друг в друга и разлетаются по сторонам, как сталкивающиеся автомобили, поднимая пыль неразрешенных вопросов. С приближением последнего абзаца измотанный автор – понимая, что горючее на исходе, – наспех пришивает к получившемуся тексту заключение, полностью или частично его опровергающее. Исходные впечатления необъяснимо преображаются или, наоборот, отбрасываются выводом, согласно которому произведение, или выставка, или событие вовсе не таковы, как можно было решить поначалу. По загадочной причине они оказываются не поверхностными, а глубокими, не странными, а вполне традиционными. Плоское и в то же время объемное, открытое и вместе с тем закрытое, живопись и в то же время фотография, субъективное и вместе с тем академичное – и так до бесконечности: в надежде выразить свою мысль автор цепляет к ней все подряд, при этом подчас ухитряясь не упомянуть ни единой работы, ошибиться в имени художника (хорошо, если единожды) и забыть указать под текстом собственное.
Подобный бестолковый текст был когда-нибудь написан каждым из нас; нет ничего постыдного в том, чтобы с трудом делать первые шаги. Таков уж обязательный для всякого автора обряд посвящения, но он соответствует самой начальной стадии его пути, которую стоит поскорее преодолеть, поскольку текст такого уровня:
не отражает и не углубляет художественный опыт, а лишь переносит его на бумагу;
не имеет отношения к искусству, а лишь характеризует своего автора;
не позволяет читателю проследить, почему были сделаны изложенные в нем выводы;
не показывает, как художественный опыт меняется по мере его осмысления (а между тем даже плохое искусство станет еще более поверхностным и скучным, если вы заставите себя уделить ему достаточно времени).
Начните писать с того места, где текст новичка заканчивается. Отбросьте первые три абзаца и сохраните только последний, но при этом расширьте описательное вступление. Как только вы почувствуете, что начинаете вникать в произведение, о котором пишете, большую часть преамбулы тоже можно будет сократить и впредь отталкиваться от своей главной мысли. Она-то и должна стать началом вашего текста.
На самом деле о любом художественно-критическом тексте можно сказать, что он «не имеет отношения к искусству, а лишь характеризует своего автора». Злые рецензии по большей части отражают дурное настроение автора (причем плохое искусство способно усилить начинающуюся мигрень). По мере совершенствования вы научитесь смягчать или подчеркивать эту неизбежную связь. Но будьте осторожны: доверяясь перепадам настроения, можно испортить себе характер. Вместе с тем невнимание авторов к своему «шестому чувству» порождает боґльшую часть пустой и неинтересной критики. Там, где ваше мнение не требуется, например в текстах для музейных этикеток или для сайтов арт-институций, дайте своему эго отдохнуть и займитесь сбором информации и фактов. Что важно всегда, так это хорошо знать то, о чем пишете.
Более ста лет назад был написан один замечательный критический текст, который цитируют до сих пор. В этом шедевре всего лишь десяток слов, и он приписывается (есть и другие претенденты) автору XIX века по имени Люсьен Сольве, якобы так охарактеризовавшему картину Гойи «Портрет семьи Карла IV» (около 1800; ил. 4): «Семейство булочника, который крупно выиграл в лотерею»[55]. В этом лаконичном определении заключено многое: оно говорит о том, как выглядит произведение, что оно значит и о чем заставляет задуматься. Августейшее общество, изображенное Гойей, представилось Сольве как «семейство бакалейщика <…> в удачный день»; окончательный вид формула приобрела позднее.
Cтарайтесь писать проще. «Опускайте ненужные слова»[56].
Почемуэта отточенная реплика середины XIX века может служить примером для начинающего критика сегодня? По целому ряду причин:
Во фразе использовано всего несколько слов, причем самых простых. Она не говорит: «Ничто не мешает нам, политически подкованным наблюдателям, представить себе другую, не столь обеспеченную семью, члены которой всегда занимались отнюдь не королевским делом – например, торговлей выпечкой на улице, – но теперь, вытянув счастливый билет, получили возможность насладиться богатством и роскошью, которые им, никак не ожидавшим этого, подарила щедрая судьба».
То, что мы видим (многочисленное, пышно разодетое семейство), четко связано с предлагаемым значением (ничего «королевского» в изображенных людях нет, им просто повезло). Глядя на картину, мы не теряемся в догадках по поводу того, как все это пришло в голову Сольве: его слова понятны нам сразу, и благодаря их остроумию наше удовольствие от картины возрастает.
Фраза состоит из тщательно подобранных слов – в основном конкретных существительных. Поначалу Сольве метко назвал короля «бакалейщиком», но более поздний вариант «булочник» оказался еще более хлестким, так как он заостряет внимание на рыхлом, как тесто, лице короля и на руке королевы, не лишенной сходства с батоном. Мысли, высказанные автором о картине, поддерживаются сочными деталями, которые подметил Гойя и ясно видим мы.
Произведение помещено в более общий контекст. Слово «лотерея» бьет не в бровь, а в глаз. Политический посыл Гойи вполне мог бы быть таким: «Эта семья не избрана богом! Это обычные люди, которые случайно вытянули счастливый билет и с тех пор правят страной из поколения в поколение. Восстанем же против этого!»[57] Неожиданностью подобного везения может объясняться испуганный, остановившийся взгляд на заплывшем складками лице королевы, да и вытаращенные глаза остальных персонажей, словно застигнутых врасплох. Чем пристальнее мы смотрим на картину, тем более созвучными ей кажутся нам слова критика.
Фраза не исключает иных прочтений картины. Подобно художнику, критик безбоязненно высказал свое мнение, пойдя на риск. Его неожиданное суждение интригует зрителя, побуждая истолковать полотно Гойи по-своему. Идея Сольве впечатляет, но она не является истиной в последней инстанции, а, напротив, предлагает сразиться с автором в остроумии и проницательности.
Ил. 4. Франсиско Гойя. Портрет семьи Карла IV. Ок. 1800
Разумеется, сила суждения Сольве обусловлена выдающимися достоинствами картины Гойи. В этом смысле художественные критики всегда остаются заложниками вечного коэффициента искусства, согласно которому, по определению Питера Пледженса, «на 10 % хорошего искусства приходится 90 % дряни»[58]. Написать умный, полезный текст о невыразительной, лишенной вдохновения работе – задача не из легких. Скорее всего, такой текст прозвучит как образец дешевого красноречия, каковым и будет в действительности. Старайтесь, по крайней мере поначалу, писать о художниках, которых вы по-настоящему цените и в чье искусство верите: это избавит вас от необходимости притворяться. А если все же пришлось иметь дело с неудачной работой, пишите об этом прямо и с удовольствием. Притворство редко идет на пользу письму.
Возьмите за правило избегать высокопарных и широковещательных заявлений вроде следующих:
«Это искусство переворачивает все представления о визуальном опыте»;
«Это видео заставляет пересмотреть наши взгляды на гендерную идентичность»;
«Глядя на эти работы, мы задумываемся о самом нашем бытии и спрашиваем себя, где пролегает граница между реальностью и вымыслом».
Соблюдайте меру. Лишь изредка искусство и поэзия рождают откровения такой силы, и уже наверняка на них неспособна передержанная фотография бультерьера, сделанная художником – его хозяином – на «Поляроид». Не стоит перегружать ее подобными надеждами. Стремясь поддержать искусство, не стоит падать ниц перед ним.
Прежде чем браться писать об искусстве, определитесь, во-первых, в том, насколько в данном случае важно ваше мнение, и, во-вторых, достаточно ли вы знаете, чтобы ваш текст стоило читать. Будь этот текст объясняющим (основанным на фактах), оценивающим (основанным на мнении) или сочетающим оба качества, он удастся лишь в том случае, если вы сумеете обосновать свои слова (см. с. 72).
Три задачи коммуникативного текста об искусстве
Все авторы, пишущие об искусстве, умеют высказаться о нем (это легкая часть задачи). Хорошие авторы умеют объяснить, почему они высказываются именно так, и привести в свою защиту убедительные доводы (это трудная часть задачи, более подробно рассмотренная в главе «Как обосновывать свои идеи», с. 72). У любого коммуникативного текста об искусстве есть три задачи, которым соответствуют три вопроса:
Вопрос 1: Что это? (На что это похоже? Как это сделано? Что произошло?)
Задача 1: Опишите произведение искусства кратко и конкретно. Сосредоточьтесь на ключевых деталях или решениях, найденных художником, – например, на выборе материалов, размеров работы, ее персонажей, участников или места ее осуществления. Отбрасывайте все несущественное, не углубляйтесь в мелочи, не превращайте описание в скучное и усложняющее задачу 2 перечисление.
Вопрос 2: Что это может значить? (Какой смысл заключает в себе произведение?)
Задача 2: Соедините точки линиями: покажите читателю, где в произведении заключена значимая идея. Слабые авторы присваивают произведениям большие смыслы, но не объясняют читателю, как эти смыслы выражены в них материально (см. задачу 1) и что в них может быть ценно для зрителя (см. задачу 3).
Вопрос 3: Какое это имеет отношение к миру в целом? (Что произведение прибавляет к миру – и прибавляет ли что-либо? Или, попросту, что из этого?)
Задача 3: Приведите доводы и истолкуйте результаты задач 1 и 2. Ответ на заключительный вопрос – «Что из этого?» – должен четко утверждать определенную мысль. И помните, что достижения искусства, даже хорошего, могут быть скромными. Это нормально.
Вот короткий отрывок из статьи, написанной критиком и куратором Окуи Энвезором для каталога выставки:
В конце семидесятых годов [Крейги] Хорсфилд начал одно из самых оригинальных и основательных художественных исследований фундаментальной связи между фотографией и временем. Вооружившись крупноформатной фотокамерой, Хорсфилд отправился в Польшу, где еще не началась эпоха «Солидарности», – в промышленный город Краков, переживавший тогда кризис индустрии и рост волнений трудящихся [2]. Результатом поездки стала серия безыскусных, подчеркнуто – подчас до театральности – антигероических черно-белых фотографий: портреты, виды безлюдных улиц и индустриальных объектов [1]. Эти фотографии большого формата, играющие на контрасте резких холодных светов и бархатистых теней, подчеркивают непреложную фактичность сюжета, будь то унылая улица в тусклом свете фонарей, голый фабричный пол или люди – молодые мужчины и женщины, рабочие или влюбленные [1]. Художник работал так, словно был призван в свидетели медленного конца эпохи [3], а вместе с ней и целой категории людей, вскоре сметенных силой перемен <…>. Их лица суровы и непреклонны, они стоят перед нами, словно осужденные [3].
Текст 2. Окуи Энвезор. Мемориальные документы: архив как медитация о времени (в изд.: Archive Fever: Photography between History and the Monument, 2008).
Почему этот текст соответствует основным требованиям коммуникативного письма об искусстве? Он отвечает на все три вопроса (см. с. 67).
Вопрос 1: Что это? На что это похоже?
Ответ: Энвезор описывает сюжеты, размеры и технику фотографий [1].
Вопрос 2: Что это может значить?
Ответ: Энвезор кратко объясняет суть проекта художника [2].
Вопрос 3: Какое это имеет отношение к миру в целом?
Ответ: Энвезор выдвигает оригинальную интерпретацию, согласно которой «оригинальное художественное исследование» Хорсфилда не только зафиксировало конец эпохи, но и увековечило тех, кому было суждено уйти вместе с ней: люди и вещи на фотографиях кажутся смирившимися со смертной участью [3].
Поборников сухого журналистского стиля могут смутить такие обороты, как «связь между фотографией и временем» или «до театральности антигероические», однако Энвезор постоянно возвращается к работам, сверяя с ними движение своей мысли и удерживаясь от беспредметности. Он обосновывает свою интерпретацию, шаг за шагом проводя вас по пути своего знания и мысли, но в то же время не запрещая вам не согласиться с его выводами и истолковать портреты Хорсфилда (ил. 5) по-своему.
Даже Вальтер Беньямин в своей более чем отвлеченной интерпретации акварели Пауля Клее «Angelus Novus» объясняет, что делает маленького улыбающегося ангела ключевым образом в его философии истории (см. с. 49, ил. 3). Все три задачи коммуникативного текста об искусстве получают решение.
Вопрос 1: Что это? На что это похоже?
Ответ: «У Клее есть картина под названием „Angelus Novus“. На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит».
Вопрос 2: Что это может значить?
Ответ: «Так должен выглядеть ангел истории».
Вопрос 3: Какое это имеет отношение к миру в целом?
Ответ: «…он видит сплошную катастрофу <…>, [которая и есть] то, что мы называем прогрессом»: «прогресс» всегда разрушает то, что некогда было целым, оставляя за собой руины погибших историй.
Ил. 5. Крейги Хорсфилд. Лешек и Магда Мьерва. Краков, улица Навойки. Июль 1984 (печать 1990)
Конечно, это чисто умозрительные рассуждения, но Беньямин убедительно связывает свое переосмысление всей истории в целом со стоящей перед его взором фигуркой, нарисованной Клее.
2. Как обосновывать свои идеи
Начинающих авторов обычно ставит в тупик необходимость правильно соотнести описание, собранные факты и личное мнение (или фантазию). Возможны и другие вопросы:
Коль скоро речь идет об искусстве, разве не вправе я написать все, что придет в голову?
Разве мое мнение как таковое не так же ценно, как чье бы то ни было?
Зачем проводить исследование?
Но я полагаю, что уж если вы читаете эту книгу, то ваша цель – научиться писать об искусстве убедительно и по существу, а не просто черкать в книге отзывов галереи: «Спасибо! Классно! ». Разница заключается в обосновании.
Обоснование объясняет, откуда взялись ваши идеи: узнав об этом, читатель поймет ваши слова, тогда как в противном случае ему грозит раздражение. Именно обоснование отличает содержательный текст, позволяющий посмотреть на искусство свежим взглядом, от напыщенного пресс-релиза, полного излияний о том, насколько оно прекрасно и притягательно. Фраза о «семействе булочника, который крупно выиграл в лотерею» служит превосходным комментарием к портрету кисти Гойи именно потому, что она обоснованна. Я вижу, откуда автор почерпнул свою мысль: пухлые конечности и мощные шеи членов королевской семьи выдают в них людей, которые злоупотребляют углеводами, а всевозможные ордена и медали на неестественно большой груди короля сияют так, будто куплены позавчера. (О том, как описывали эту работу различные авторы, в том числе и Люсьен Сольве, см. с. 63). Обоснование превращает воду пустословия в вино. Обосновывать мысли об искусстве можно:
исходя из фактов или исторических реалий: как академическое эссе, так и добротная журналистика требуют исследования;
исходя из визуальной информации, содержащейся в самом произведении.
Хороший автор так или иначе обосновывает свои идеи, тщательно изучая вопрос и логически связывая произведение со своим текстом. Сочетаясь в самых разных пропорциях, два вида фактов – материальные факты, заключенные в произведении, и факты из его истории, – придают убедительность художественной мысли.
Такой подход лежит в основе академических текстов. Нижеследующий отрывок из книги историка искусства Томаса Кроу пронизан достоверными историческими сведениями:
Живописцы и скульпторы, формировавшиеся в Калифорнии, прошли через ту же маргинализацию [1], что и Джонс и Раушенберг в Нью-Йорке, только в их распоряжении не было устойчивой инфраструктуры галерей, меценатов и зрителей, которая могла бы дать реальную надежду на успех в обществе. Их узкая публика чаще всего, особенно в Сан-Франциско, пересекалась с кругом любителей экспериментальной поэзии, и в обоих случаях большинство составляли сами художники и поэты. Пара, которую составили поэт Роберт Данкан (1919–1988) и художник Джесс (род. 1923 [умер в 2004. – Пер.]), ярко свидетельствует об этом взаимодействии двух искусств с начала пятидесятых. Данкан заявил о себе в 1944 году, опубликовав в нью-йоркском журнале Politics статью «Гомосексуалист в обществе» [2], в которой доказывал, что открытая гомосексуальность стала возможной благодаря гей-писателям и их искусству <…>. Джесс в начале пятидесятых годов обратился к табуированным дотоле темам [3], создавая коллажи из фрагментов местной повседневной прессы. На одном из первых его коллажей, «Мышиная сказка» (1951–1954) (ил. 6), большая обнаженная фигура в манере Сальвадора Дали составлена из десятков миниатюрных мужских фигурок и лиц [3].
Текст 3. Томас Кроу. Из книги «Восход шестидесятых» («The Rise of the Sixties», 1996).
В аргументированных текстах, как у Кроу, четко обосновываются даже абстрактные понятия вроде «маргинализации» [1]. В данном случае речь идет о преследованиях, которым Данкан подвергся после публикации в 1944 году статьи в защиту открыто гомосексуальной литературы [2]. Но наряду с историческими фактами поддержкой идей может служить и визуальная информация. Кроу останавливается на конкретной работе Джесса – коллаже «Мышиная сказка» – и отмечает в ней элементы, которые вызвали негативную реакцию [3]. Текст Кроу – великолепный образец искусствоведческого письма: он изобилует всевозможными сведениями (точно приводятся названия работ, даты, публикации), и эти сведения составляют основу авторской концепции. Здесь работает каждое слово.
Ил. 6. Джесс. Мышиная сказка 1951–1954
В хорошем академическом тексте каждое предложение вводит новую информацию и подкрепляет авторский посыл. «Водой» же называют многословный текст, перегруженный:
штампами и несущественными сведениями;
необязательными словами и бессмысленными повторами;
общеизвестными фактами и общепринятыми идеями;
случайными ссылкам и перечислениями имен;
понятийной «начинкой» и неуместным теоретизированием.
«Вода» ослабляет текст, вызывая у читателя больше вопросов, чем ответов.
«Вода»: «Помимо важных и известных художников, живших тогда в Нью-Йорке…»
Вопрос: Какие важные и известные художники имеются в виду?
Ответ: Обоснованый текст: «…Джонс и Раушенберг в Нью-Йорке…»
«Вода»: «Калифорнийские художники пользовались меньшим признанием, чем их коллеги с Атлантического побережья».
Вопрос: Почему калифорнийские художники пользовались меньшим признанием, чем нью-йоркские?
Ответ: Обоснованный текст: «…в их распоряжении не было устойчивой инфраструктуры галерей, меценатов и зрителей…»
«Вода»: «В творчестве такой нетрадиционной пары, как Роберт Данкан и Джесс…»
Вопросы: Кто такие Роберт Данкан и Джесс? Когда они активно работали в искусстве? Почему о них идет речь в тексте?
Ответ: Обоснованный текст: «Пара, которую составили поэт Роберт Данкан (1919–1988) и художник Джесс (род. 1923), ярко свидетельствует об этом взаимодействии двух искусств [визуального и поэтического. – Г. У.] с начала пятидесятых».
Стройте свой текст логично, двигайтесь от общего к частному, сначала выдвигая тезис («Живописцы и скульпторы, формировавшиеся в Калифорнии, прошли через ту же маргинализацию…»), а затем подтверждая его фактами (ссылками на статьи, конкретные произведения, исторические реалии). Затем очистите текст от самоочевидных фраз.
Сумбурный текст обычно получается, когда автор пишет первое, что придет в голову. Самое простое и действенное средство против этого – больше читать, больше смотреть, собирать больше информации. И – больше думать.
В моем следующем примере проанализирован текст Розалинд Краусс, входящей в число наиболее влиятельных современных критиков и историков искусства, хотя ее работы неизменно вызывают споры. Текст посвящен Синди Шерман – выдающейся художнице, которая, к несчастью, часто становится мишенью шаблонного «анализа» уровня первого курса художественного колледжа, состоящего из банальных рассуждений о «мужском взгляде» и «маскараде».
Вклад, который Краусс, начиная с семидесятых годов, внесла в историю и теорию искусства, поистине огромен (см. Библиотечка по современному искусству, с. 348). По результатам моего собственного неформального опроса, мало кто в нашей области вызывает такую поляризацию мнений: для многих тексты Краусс – недосягаемая вершина серьезной художественной критики; другие видят в них вырождение критики в скучную и заумную дисциплину. Я не буду присоединяться к стану ее ниспровергателей: очень многому стоит у нее поучиться. Краусс по-настоящему любит искусство – недаром она столько времени посвящает его изучению, так много думает о нем, не упуская малейшие детали, входя во все закоулки визуальности и требуя от своих читателей немалого усердия, чтобы следовать за своей мыслью. Совсем не обязательно преклоняться перед бескомпромиссным стилем Краусс, но нужно по достоинству оценить, насколько внимательно и вдумчиво она смотрит на искусство.
В этом эссе из сборника «Холостяки» Краусс критикует заполонивший литературу о Шерман штамп «мужского взгляда», детально сравнивая две работы из серии «Кадры из фильма без названия»:
Разумеется, у Шерман мы найдем широкий набор женщин как объектов наблюдения и массу примеров сопутствующего конструирования объективом зрителя, заместителем которого и выступает фотокамера. С самого начала своего проекта, в «Кадре из фильма без названия № 2» (1977), она обозначает присутствие невидимого чужака [1]. На фотографии девушка, завернувшаяся в полотенце, стоит перед зеркалом в ванной, касаясь одной рукой плеча и следя за своим жестом в отражении [4]. Дверной косяк у левой рамки снимка помещает смотрящего вовне этой комнаты. Однако куда более симптоматично то, что как скрытый наблюдатель этот зритель конструируется при помощи такого означающего, как зернистость [5]: оно сообщает изображению некоторую размытость <…>.
Однако уже «Кадр из фильма без названия № 81» (1979) отличается необычайной глубиной резкости [6], и, соответственно, /дистанция/ исчезает – хотя кадр заблокирован дверным проемом, а это подразумевает, что зритель опять рассматривает женщину извне того пространства, которое она занимает физически. Как и в других случаях, все здесь говорит о том, что женщина находится в ванной, и она так же почти раздета: на ней – лишь полупрозрачная ночная сорочка. Однако перспектива, устанавливаемая фокусным расстоянием, создает полное впечатление, что ее взгляд на себя в зеркало, минуя собственное отражение, устремлен также на наблюдателя [2]. Это значит, что в противовес идее /дистанции/ тут задействовано означаемое /связи/, и на уровне нарратива выделяется и другое означаемое – а именно возможность того, что эта женщина перед тем, как отправиться спать, болтает с кем-то (быть может, с подругой) [3] в комнате за порогом ванной.
Текст 4. Розалинд Краусс. Синди Шерман. Без названия (в изд.: Cindy Sherman 1975–1993, 1993).
Допустим, я, как и многие, озадачена, чем /дистанция/ отличается от просто дистанции. Тем не менее Краусс внимательно прослеживает визуальные факты, чтобы показать, насколько по-разному работают две фотографии Шерман: одна подразумевает вуайеризм, а другая – сговор. В «Кадре из фильма без названия № 2» (ил. 7) за женщиной подглядывают из укрытия и, возможно, с угрозой [1]. А в «Кадре из фильма без названия № 81» (ил. 8) женщина знает, что на нее смотрят, и находится с тем или той, кто на нее смотрит, в некоем контакте [2]. Краусс заостряет внимание на том, что на обеих фотографиях дверь частично обрамляет фигуру женщины и тем самым указывает, что наблюдатель находится за пределами ванной комнаты. Она четко различает два подразумеваемых взгляда: взгляд «невидимого чужака» и взгляд кого-то, о чьем присутствии женщине хорошо известно, – «быть может, подруги» [3].
Говоря о «Кадре из фильма без названия № 2», Краусс приводит имеющиеся на фотографии указания на то, что за женщиной, возможно, тайно следят:
блондинка полностью поглощена своими движениями и, по всей видимости, в этот момент не помнит ни о чем другом [4];
фотография не очень резкая. Это наводит на мысль о том, что она снята кем-то украдкой и (добавлю от себя) при помощи объектива c сильным увеличением [5].
Ил. 7–8. Синди Шерман. Кадры из фильма без названия. № 2. 1977; № 81. 1980
Далее Краусс описывает отличия «Кадра из фильма без названия № 81»:
брюнетка смотрит мимо своего отражения в зеркале; возможно, она перебрасывается репликами с наблюдателем [2, 3];
качество изображения [6] говорит о том, что его не пришлось снимать издалека.
Опираясь на эти детали и особенности фотографического стиля, Краусс выходит на более общий вопрос: почему мы должны исходить из того, что любое изображение женщины в одиночестве позиционирует ее в качестве «объекта»? Если присмотреться, то нетрудно заметить, что далеко не все женщины на фотографиях Шерман находятся в уязвимом положении по отношению к «наблюдателю» c камерой – будь то мужчина, женщина или штатив.
И Кроу, и Краусс показывают в тексте, как они пришли к своим выводам, которые могут следовать из исторических фактов (например, из эпизодов биографии художника вроде статьи Роберта Данкана, подвергшейся цензуре, в тексте Кроу) или из визуального опта (у Кроу это гомоэротический сюжет коллажа Джесса, у Краусс – отличия двух фотографий Шерман в качестве съемки и в композиционном решении). Можете не сомневаться в том, что другой автор, решив иначе истолковать те же произведения, найдет в них другие симптоматичные детали и приведет другие исторические факты в подтверждение собственной позиции. Приведенные отрывки из текстов ведущих американских ученых не дают идеальных интерпретаций работ художников, о которых в них говорится, но служат примерами хорошо аргументированного письма об искусстве.
Помимо прочего, текст Розалинд Краусс о Синди Шерман прекрасно демонстрирует, что разные работы одного и того же художника могут быть устроены по-разному. Помните об этом, когда в следующий раз услышите рассуждения о «фотографии Гурски», не уточняющие, что именно имеется в виду – снимок скотобойни на американском Среднем Западе или панорама Токийской биржи. Столь же обманчивы могут быть речи о «портретах Пейтон», ведь портрет Джорджии О’Кифф работы Элизабет Пейтон совсем не то же самое, что ее же портрет Кита Ричардса. За редким исключением разные работы одного художника не взаимозаменяемы. Конечно, можно сказать в каком-нибудь выступлении на арт-ярмарке о «фантастической атмосфере картин Лайзы Юскавадж» или о «сюрреализме инсталляций Ду Ху Са», и все же подумайте лишний раз, стоит ли ради красного словца «сваливать» в одну кучу все творчество художника. Хороший критик уделяет внимание каждой работе и отмечает как ее родство с другими, так и ее отличие.
Старайтесь сохранить свежесть взгляда, рассматривайте каждое произведение в отдельности. Указывайте в тексте, какой именно анимационный фильм Уильяма Кентриджа или какую именно скульптуру Субодха Гупты вы имеете в виду. Если ваши впечатления в обзоре выставки слились в однородную массу и вам не удалось выделить ни одной конкретной работы с указанием ее названия и даты, вернитесь и еще раз внимательно осмотрите экспозицию. И еще: группируйте работы обдуманно.
Вот небольшое упражнение, которое поможет вам развить внимание к отдельным произведениям. Ниже приводятся оперативные комментарии для сетевого журнала, написанные критиком Джерри Солцем во время очень насыщенной командировки, когда он освещал три арт-ярмарки подряд. Солц сосредоточился на нескольких работах, понравившихся ему больше всего:
Aнна-Белла Папп. Посвящается Дэвиду. 2012 (ил. 9)
Вещь из серии, включающей шестнадцать работ, которые лежали на столах, – то ли миниатюрных глиняных пейзажей, то ли картин, то ли метафизических карт. Каждая – отдельный мир, особая композиция и в то же время – просто плитка. Чудесное автономное пространство в духе Моранди. Мне нравится.
Мартин Вонг. Это не то, что вы думаете? Тогда что это? 1984 (ил. 10)
Художник, умерший молодым в 1999 году, недооценен и заслуживает большего, чем полагают многие. Замысловатая техника с использованием кирпича заставляет увидеть в этой картине плод любовного труда, образец плоской скульптуры и еще стену из воспоминаний автора.
Текст 5. Джерри Солц. Двадцать вещей, которые понравились мне на арт-ярмарках (New York Magazine, 2013).
Хотя эти комментарии в формате «Твиттера», позволяющие судить об интенсивности работы штатных обозревателей, не следует принимать за полноценную художественную критику, анализ их сжатого формата может помочь вам сфокусировать взгляд и развить навык интуитивного осмысления искусства. Попробуйте последовать их примеру:
Четко определите свои приоритеты. Будьте конкретны, искренни, пишите своими словами.
Ясно изложите свои мысли, используя не более сорока слов. Поместите над текстом изображение работы и проверьте: обогащают ли ваши слова ее восприятие, не противоречат ли они ей, не кажется ли, что они с ней не связаны?
Посоветуйтесь с другом о своем тексте. Ясен ли ему смысл?
Ил. 9. Aнна-Белла Папп. Посвящается Дэвиду. 2012
Ил. 10. Мартин Вонг. Это не то, что вы думаете? Тогда что это? 1984
Это упражнение может помочь вам писать кратко и предметно, не впадая в бессодержательный арт-жаргон.
Попробуйте написать короткий отзыв на понравившееся произведение. Используйте минимум слов: объясните, почему работа понравилась вам, ответив в двух-трех строках на три стандартных вопроса: что это? что это может значить? и что из этого?
Окуи Энвезор в своей статье о Крейги Хорсфилде рассказывает читателю, что именно он увидел на фотографиях и почему пришел к их достаточно неожиданной интерпретации: мужчины и женщины выглядят на снимках Хорсфилда, «словно осужденные». (cм. текст 3, с. 73, ил. 5). Теперь обратимся к тексту легендарного критика и историка искусства Дэвида Сильвестра. В статье, написанной им несколько десятилетий назад для журнала Modern Painters, идеи обосновываются не ссылкой на фактические сведения, а логикой:
Когда Пикассо начал делать скульптуры из отходов [1], Дюшан создал конструкцию из готовых изделий. Это было велосипедное колесо, вниз головой закрепленное на табурете [1]. Так оказались объединены две вещи, сыгравшие ключевую роль в обретении человеком господствующего положения на планете и в его обособлении от «зверей полевых» [2]: табурет позволяет человеку сидеть не на земле, а над нею и где бы ему ни заблагорассудилось, а колесо дает ему возможность перемещаться самому и перемещать предметы. Табурет и колесо стоят у истоков нашей цивилизации, но Дюшан лишил их практической пользы. Пикассо взял мусор и превратил его в полезные предметы – например, в музыкальные инструменты. Дюшан взял полезные предметы – табурет и колесо – и сделал их бесполезными [3].
Текст 6. Дэвид Сильвестр. Пикассо и Дюшан (1978/1992).
Сильвестр делает довольно сильные заявления: по его мнению, и скульптуры Пикассо из отходов, и реди-мейды Дюшана выражают отличие человека от прочих живых существ, но выражают его противоположными способами. Это довольно сложная идея, но Сильвестр сумел сделать ее понятной, позволив читателю проследить ход своей мысли шаг за шагом. Он не перескакивает от посылки – «…Пикассо начал делать скульптуры из отходов <…>, Дюшан создал конструкцию из готовых изделий» – к выводу: эти художники представляют два противоположных подхода к таким фундаментальным темам, как искусство, полезность и отношения между человечеством и животным миром. Он распутывает клубок своей мысли постепенно, показывает ее нам в развитии и заодно отвечает на все три стандартных вопроса коммуникативного письма об искусстве: