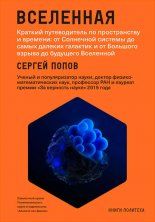О границах науки Катасонов Владимир

© Катасонов В. Н., 2017
© Издательский дом «Познание», 2017
Предисловие автора
Предлагаемый сборник содержит статьи, касающиеся разных вопросов естествознания, но объединенные общим умонастроением, которое можно бы было выразить словами: науке не все доступно. Не непонятно, ибо это только внешние границы науки, которые постоянно расширяются, а именно недоступно, то есть наука не знает, как подступиться к этим вопросам. Для того чтобы подступиться к ним, науке нужно отказаться от собственного метода: от претензии на безличную объективность, принудительную доказательность, от сектантского игнорирования ряда важных аспектов общечеловеческого опыта, в том числе и религиозного. Отказ от этого означал бы самоубийство науки в той форме, в которой ее задумали Ф. Бэкон, Р. Декарт и другие отважные умы XVII столетия.
Актуальность подобной критики науки следует не только из того, что на всех этапах ее исторического бытия параллельно с ней всегда существовали и другие формы гнозиса. Кроме этого, есть еще и внутренние причины, обусловленные в том числе теснейшей связью новоевропейской науки с нашей цивилизацией, построенной на научных технологиях.
Бог создал человека по Своему образу и подобию, в частности, наделил его способностью творить. В новоевропейской цивилизации по сравнению с другими историческими эпохами человек беспрецедентно широко и глубоко раскрыл свои творческие способности. Он не просто подчиняет себе природу – на основе научных технологий он стремится создать новую, пытается улучшить существующую природу, он конкурирует с Самим Творцом этого мира. Что-то из этого необходимо, что-то удается, но безудержная погоня за комфортом все более оборачивается своей противоположностью: отравление природы, прогрессирующее уничтожение целых видов биологических организмов, задыхающиеся от отходов своей жизнедеятельности мегаполисы, глобальный экологический кризис…
Начиная с последней четверти XX века наука стремительно движется в новом направлении, развивая информационные и биотехнологии. На их основе человек надеется изменить свой собственный образ, тот антропологический тип, в рамках которого человек существовал от создания мира. Вместе с тем утопические посулы бесконечного познания, завоевания Вселенной и технологического бессмертия соблазняют далеко не всех. Раздаются и более осторожные голоса: не навреди, разрушить легко, но пути назад может и не быть… Везде мы видим одну и ту же проблему: уровень нравственного сознания человечества не соответствует открытым им энергиям и технологиям.
Все это требует серьезного и вдумчивого рассмотрения самих возможностей науки, ее природы, ее соотношения с другими формами гнозиса и связанными с ними формами человеческого бытия. В представленном сборнике читатель найдет посвященные этой теме статьи автора, напечатанные в различных периодических и непериодических изданиях за последний десяток лет.
Особую благодарность нужно выразить Ректору Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Митрополиту Волоколамскому Илариону за поддержку издания этой книги и включения ее в библиотеку аспирантуры.
Автор высказывает свою глубокую благодарность всем, кто помог выходу в свет этой книги: иеромонаху Иоанну (Копейкину), иеромонаху Афанасию (Микрюкову), монаху Максиму, В. И. Демкову, Н. В. Апреликовой.
Предисловие рецензента
Книга Катасонова В. Н. «О границах науки» посвящена актуальной теме природы современной науки, выступающей в образе математического естествознания. Успехи последнего приводят к тому, что даже и многие гуманитарные науки с завистью поглядывают на физику, химию, биологию и т. д., стараются и внутри самих себя начать применять математические методы. Директива И. Канта, сказавшего, что в дисциплине столько науки, сколько в ней математики, как будто-бы оказывается безусловно верной. Но так кажется только поверхностному взгляду. В. Н. Катасонов показывает, что даже и в самом современном естествознании вопрос о «непостижимой эффективности математики», по существу, висит в воздухе (статья «Ахиллесова пята новоевропейской науки»). Да и внутри самой новоевропейской математики, оперирующей с понятиями актуально бесконечных множеств, не «все благополучно». Апории, связанные с актуальной бесконечностью, открытые еще в Античной науке, переоткрытые вновь внутри теории множеств на рубеже XIX – XX веков, не преодолены и по сегодняшний день. Теорема Геделя о неполноте дала нам новый взгляд на эти апории: человек в своей теоретической деятельности может задавать такие вопросы, на которые невозможно найти ответа в рамках традиционного логического дискурса (статья «Концепция актуальной бесконечности как «научная икона Божества»). В книге критически разбираются многие ставшие уже как-бы очевидными представления современной науки: понятие информации (статья «Информация и реальность»), методического исследования (статья «Методизм и прозрения»), технологий (статья «Цивилизационный кризис XX столетия и Православие (о границах технологического мышления)») и др., показывается условность этих понятий, обсуждаются границы их применений. Эти границы задаются теми философскими, метафизическими представлениями, без которых наука не может существовать. В отдельных статьях В. Н. Катасонов подробно разбирает проблему соотношения религиозных представлений и науки (например, статья «Наука и религия (возможности новой методологии исследования)»). Автор показывает, что наука существует не в культурном вакууме, а теснейшим образом связана с общими установками новоевропейской цивилизации. В книге обсуждаются также социологические аспекты научных технологий (например, статья «Наука и утопия»).
Актуальные вопросы философии науки рассматриваются В. Н. Катасоновым на обширном историко-философском и философско-богословском материале. Наследие Платона, Аристотеля, пифагорейцев, Галилея, Декарта, Лейбница, Бергсона рассматривается в книге наряду с идеями русской религиозной философии, московской философско-математической школы, аритмологи Н. В. Бугаева, П. А. Флоренского и других отечественных мыслителей. Обширный материал по истории и философии науки, интерпретированный автором, крайне полезен в качестве пособия для молодых ученых, сдающих ныне в качестве кандидатского экзамена вместо философии вновь введенную и небывалую ранее дисциплину под названием «история и философия науки».
Книга написана на высоком научном уровне. Автор профессионально обсуждает научные, философские и богословские темы. Нельзя не отметить таланта автора, умение объяснять сложные философские и научные понятия доступным и грамотным языком.
Книга будет полезна философам науки, преподавателям, ученым естествоиспытателям, богословам, аспирантам и студентам, – всем, кто интересуется природой современной науки, ее генезисом и ее судьбой.
Заслуженный профессор Московского университета,М. А. Маслин, доктор философских наук
I. Физика, математика и метафизика нашей цивилизации
Цивилизацию нашу справедливо называют техногенной, основанной на технике, особом искусственном мире, созданном человеком за последние четыре столетия. Степень присутствия этого искусственного мира в нашей жизни настолько велика, что в нем почти не остается ничего естественного: способ передвижения, климат, питание, информация, отдых, обучение и т. д. – все опосредовано машиной, всевозможными техническими изобретениями. И вместе с тем все естественное получает в нашем мире все большую цену: его становится все меньше и меньше. И эта асфальтовая дорожка, и этот металлический забор, и эти кусты смородины, и эти розовые флоксы – все уже есть продукт технологической обработки, индустрии: добывающей, обрабатывающей, генетической… Разве что, подняв глаза к небу, человек может еще встретиться с самой природой в чистом виде… «Вторая (техногенная) природа», все более вытесняющая, но не заменяющая первую, порождает, как известно, серьезнейшие проблемы. Целую систему проблем: экологический кризис. Пытаясь разобраться в его истоках, мы начинаем анализировать современную науку, на основании которой и построены все эти технологии. И тут обнаруживается, что наука, которая, вообще говоря, призвана искать истину, то есть как минимум объективную суть вещей, оказывается в высшей степени небеспредпосылочным предприятием, связана с необходимым выбором множества нетривиальных положений и представлений, принятием оснований, которые должны быть справедливы, еще до того, как выяснено, что же, собственно, есть… Чтобы лишь начать о чем-то рассуждать, наука должна уже предположить массу нетривиальных вещей: язык, нормы рассуждения, общее представление о характере реальности, гносеологию и т. д. Эти общие сверхопытные утверждения о началах бытия и познания традиционно называются в философии метафизикой. Метафизическая подкладка современной науки уже давно известна. С самого возникновения этой науки обсуждение валидности тех или иных метафизических предпосылок и вообще роли метафизики в развитии науки было всегда в той или иной степени составной частью самого научного знания. В этой статье мы анализируем генезис и роль некоторых принципиальных для развития науки последних четырех столетий положений.
1. Математика и физика в Античности
Математический язык современной физики, ставший для нас чем-то само собой разумеющимся, отнюдь не всегда был естественным языком природоведения. Мы знаем, что учения о природе в Античности говорили на другом языке: на языке качеств, а не количеств. Причина была принципиальной: в античном космосе вся подлунная сфера состояла из четырех элементов: земли, воды, воздуха и огня. Эти же элементы не могут воспроизводить точные геометрические формы, поэтому измерения в этой области тщетны: физика подлунной сферы не может быть математической. В надлунной же области все состоит из эфира (пятого элемента). Эфир по своей природе уже может точно воплощать геометрические фигуры (например, небесные сферы), поэтому и возможна математическая астрономия. Подлунная сфера не может точно воспроизводить геометрические формы потому, что все сущее есть соединение формы и материи (Аристотель), и последняя есть то бесформенное начало, которое отрицает всякую точность в материальных вещах. Еще решительнее эта точка зрения выражена у Платона. Вещи материального мира суть лишь отражения мира идей. Материя в них только отчасти подчинена форме, и именно поэтому невозможна математическая физика[1].
Однако попытки построения математической физики начались еще раньше, чем были построены космологии Аристотеля и Платона. Традиция приписывает пифагорейцам фундаментальный принцип «Все есть число». Хотя историки философии и по сегодняшний день спорят об истинном значении этого тезиса – значит ли он, что все есть число в онтологическом смысле, или же смысл его состоял в том, что все закономерности в природе могут быть выражены через число, в духе современной физики. Тем не менее сам факт этого внимания к роли математики в познании природы был отнюдь не случаен. Пифагорейцы создают математическую теорию музыки, на долгие века входящую в традиционный квадривиум наук. Они открыли, что благозвучие традиционных музыкальных интервалов – такое, казалось бы, субъективное и психологически неустойчивое – имеет под собой жесткую структуру числовых соотношений: октава (2:1), квинта (3:2), кварта (4:3).
Рассмотрение так называемых «фигурных чисел», например квадратов или треугольников, выложенных из камешков (точек), и обнаружение арифметических соотношений между последовательностями этих чисел наводило на мысль, что вероятно и геометрические фигуры также могут быть сведены к числам[2].
Но именно пифагорейцам традиция приписывает и открытие несоизмеримости отрезков – открытие, принципиально подорвавшее веру в то, что все в мире может быть измерено и выражено в целых числах. Оказалось, что если мы возьмем квадрат со стороной единица, то диагональ этого квадрата невыразима ни целым числом единиц, ни целой частью единицы. Надежды на рациональную «прозрачность» всего сущего рухнули: в мире вместе с соразмерностью и порядком существует и несоизмеримое, иррациональное. Это открытие было научно-философским выражением дуализма, давно опознанного традиционной народной религией: есть светлые божества, несущие в мир порядок и смысл (Аполлон), а есть другие, выражающие темную, стихийную природу сущего (Дионис)[3]. Этот дуализм прочно вошел в традицию античной мысли и, несмотря на большие достижения античной математики и естествознания, всегда оказывал характерное влияние на развитие науки и философии.
С открытием несоизмеримости была связана еще одна принципиальная для истории науки тема бесконечности. Уже в классическом доказательстве несоизмеримости диагонали квадрата и его стороны обнаруживалось, что процесс нахождения общей меры[4] шел в бесконечность. Греки настороженно относились к бесконечности: весь человеческий опыт конечен, бесконечность невозможно представить, греческие боги и те конечны по своему могуществу. Более того, бесконечность немыслима, так как при этом нарушаются фундаментальные аксиомы науки. Одной из таких аксиом была следующая: часть меньше целого[5]. Но для бесконечности эта аксиома нарушается. Если взять, например, натуральный ряд чисел, то между всеми числами и только четными числами можно установить взаимно-однозначное соответствие по формуле: n 2n. Четных чисел оказывается столько же, сколько и всех, часть равна целому. Поэтому греки отказались от использования бесконечности в науке. Точнее, они выделили понятия потенциальной бесконечности – бесконечности как процесса (возрастание чисел натурального ряда или неограниченное деление отрезка и его частей), и актуальной бесконечности (все натуральные числа, взятые как единое множество, или отрезок, разделенный «до конца»). Потенциальная бесконечность допускается в науке как метод, как прием. Актуальной же бесконечности отказано в праве существования в науке: «бесконечности нет ни в космосе, ни в уме» (Аристотель)[6].
2. Математическая физика и метафизика
Итак, в лице главных своих мыслителей Античность определилась вполне недвусмысленно: физика не может быть математической в принципе; да и в самой математике господствует дуализм: геометрия, протяженность, континуум не могут быть сведены к числовым арифметическим конструкциям. Как же так получилось, что с XVII века возникает математическая физика, традиция которой непрерывно развивается вплоть до наших дней? Разве пионеры науки Нового времени не знали всех тщательно продуманных аргументов античных философов и ученых?.. Конечно, знали. К этому времени все основные труды греческих авторов уже переведены на латынь и активно изучаются в Западной Европе. Можно ли сказать, что создатели новой науки преодолели аргументацию античных авторов? Вряд ли… Скорее, ими была продолжена новая парадигма, новое направление развития науки, а точнее – новое понимание науки, которое определило и развитие нового типа цивилизации.
Однако вести полемику со старой системой мысли было неизбежно. Главную часть этой трудной работы взял на себя Галилео Галилей. Именно ему принадлежал лозунг: «Книга природы написана на языке математики»[7]. В его знаменитой книге «Диалог о двух главнейших системах мира Птолемеевой и Коперниковой» этот тезис – один из самых важных пунктов дискуссии. Противник галилеевской позиции Симпличио защищает традиционную для того времени аристотелевскую точку зрения: математические соображения хороши лишь в абстрактном пространстве[8], а в реальном материальном мире все обстоит по-другому. В частности, только в матемтике сфера касается плоскости в одной точке, в действительном же мире касание материальных сферы и плоскости в одной точке невозможно. Порт-пароль Галилея – Сальвиати – отвечает на это: «…Всякий раз, как вы конкретно прикладываете материальную сферу к материальной плоскости, вы прикладываете несовершенную сферу к несовершенной плоскости и говорите, что они соприкасаются не в одной единственной точке. А я вам говорю, что и в абстракции нематериальная сфера, которая является несовершенной сферой, может касаться нематериальной, также несовершенной плоскости, не одной точкой, а частью поверхности. Так что то, что происходит конкретно, имеет место и в абстракции. Было бы большой неожиданностью, если бы вычисления и действия, производимые абстрактно над числами, не соответствовали затем конкретно серебряным и золотым монетам и товарам. Но знаете ли, синьор Симпличио, что происходит на деле и как для выполнения подсчетов сахара, песка и полотна необходимо скинуть вес ящиков, обертки и иной тары; так и философ-геометр [то есть ученый новой математической физики. – В. К.], желая проверить конкретно результаты, полученные путем абстрактных доказательств, должен сбросить помеху материи, и если он сумеет это сделать, то, уверяю вас, все сойдется не менее точно, чем при арифметических подсчетах. Итак, ошибки заключаются не в абстрактном, не в конкретном, не в геометрии, не в физике, но в вычислителе, который не умеет правильно вычислять. Поэтому, если у вас есть совершенные сфера и плоскость, хотя бы и материальные, не сомневайтесь, что они соприкасаются в одной точке [курсив мой. – В. К.]. А если их невозможно получить, то все же утверждение, что sphaera aenea поп tangit in puncto[9], весьма далеко от сути дела»[10]. Что же, разве доказал Галилей утверждение, выделенное курсивом? Нет. Его аргумент касается лишь неправильной сферы и плоскости и их касания в абстрактном геометрическом пространстве. А искомое утверждение так и остается недоказанным. Галилей этим рассуждением как бы «отвел нам глаза» от искомого, а как конкретно «сбросить помеху материи», так и не показал… Более того, этого и нельзя показать. Точная материальная сфера и точная материальная плоскость не могут касаться в одной точке по одной простой причине: касание в одной точке означает принадлежность этой точки одновременно и одному, и другому телу. А для материальных тел это невозможно в силу непроницаемости материи. Галилей в этом рассуждении, как и во многих других местах своей книги, заражает нас своей убежденностью, его диалектическая способность замечательна. Однако преодолеть античные аргументы против математической физики ему фактически не удается.
Другой подход к решению этого же вопроса демонстрирует Рене Декарт. Он хорошо понимает, что обосновать применение математики в физике исходя из традиционного аристотелевского (четыре элемента подлунной сферы) образа мира или даже просто из интуиции природы, как она дана нашими чувствами, не удается. Поэтому необходимо с самого начала сделать решительный шаг: изначально предложить новый образ реальности – новую метафизику. Посмотрим, как это делается в работе «Мир, или Трактат о свете». Вначале Декарт дает как бы подведение к своей новой метафизике. По его мнению, не четыре элемента есть основа всего в мире, а три: огонь, воздух, земля. Причем все эти элементы и их свойства сводятся к совокупности частиц разной величины и разной скорости движения. Четвертый элемент, вода, как показывается, также представляет собой лишь множество движущихся частиц: «Я полагаю также, что для образования самого жидкого тела, какое только можно найти, достаточно, чтобы все его мельчайшие частицы двигались по отношению друг к другу самым различным образом и с самой большой скоростью…»[11] В этом смысле и огонь представляет собой такую жидкость и превращает в жидкость (расплавляет) другие тела. Три элемента уже на этом шаге сведены к некому единству, к множеству движущихся частиц. Хотя еще не понятно, что это за частицы.
Следующий шаг – собственно новая метафизика. «Отрешитесь на некоторое время от этого мира, чтобы взглянуть на новый, который я хочу на ваших глазах создать в воображаемых пространствах» – пишет Декарт[12]. «…Предположим, что Бог заново создает вокруг нас столько материи, что в какую бы сторону ни обратился наш мысленный взор, мы нигде не увидим пустого места»[13]. Эти воображаемые пространства у Декарта суть пространства геометрические, то есть в которых можно производить геометрические построения и измерения. Материя же, наполняющая это пространство, также особого свойства: «Раз мы уж взяли на себя смелость изменить материю по своей фантазии, наделим ее природой, совершенно ясной и понятной каждому: для этого предположим, что она не имеет никакой формы – ни формы земли, ни формы огня, ни формы воздуха, ни формы любого другого, более частной формы, например дерева, камня или металла. Предположим также, что эта материя не имеет ни качеств теплоты или холода, ни качеств сухости или влажности, ни качеств легкости или тяжести, что у нее нет ни вкуса, ни запаха, ни звука, ни цвета, ни света, ни какого-либо другого свойства, относительно природы которого можно было бы сказать, что в ней заключается нечто неизвестное с очевидностью любому человеку»[14]. Что же, эта материя есть бесформенная материя Аристотеля или первоматерия неоплатоников? Нет, Декарт отводит и это соображение. «Представим нашу материю настоящим телом, совершенно плотным, одинаково заполняющим всю длину, ширину и глубину того огромного пространства, на котором остановилась наша мысль. Представим далее, что каждая из ее частей всегда занимает часть этого пространства, пропорциональную ее величине, и никогда не может заполнить больший или сжаться в меньший объем или допустить, чтобы одновременно с нею какая-нибудь другая часть материи занимала то же самое место»[15]. Перед нами – декартовская res extensa, материя несжимаемая, непроницаемая, качественно сведенная просто к некоторому объему пространства. Далее эта материя делится на куски разного размера, и они сплошь заполняют все пространство. Три элемента из вводной части этого сочинения отождествляются с тремя типами материальных частиц: крупных, средних и совсем мелких. Декарт формулирует законы движения этих частиц: закон сохранения состояния частиц (включающий в себя закон инерции), закон соударения частиц и др. – и тем самым основания классической механики заложены. Самое главное здесь – возможность применения математики к физике налична здесь по определению: физические вещи сведены к совокупности частиц, имеющих вполне определенные размеры, все можно измерить и изучать с помощью математики.
Остановимся несколько на том способе, которым Декарт вводит закон инерции. Это – чисто богословская аргументация. «Легко понять, что Бог, который, как всем известно, неизменен, действует всегда одинаковым образом», – пишет Декарт[16]. Отсюда следует, что Бог сохраняет состояние любой частицы материи тождественным, пока она не столкнется с другой. «…Если частица имеет некоторую величину, она никогда не станет меньшей, пока ее не разделят другие частицы; если эта частица кругла или четырехугольна, она никогда не изменит этой фигуры, не будучи вынуждена к тому другими; если она остановилась на каком-нибудь месте, она никогда не двинется отсюда, пока другие ее не вытолкнут; и раз уж она начала двигаться, то будет продолжать это движение постоянно с равной силой до тех пор, пока другие ее не остановят или не замедлят ее движения [курсив мой. – В. К]»[17]. Последнее, как легко видеть, и есть формулировка закона инерции. Он отсутствовал в аристотелевской физике, его тщетно пытался доказать Галилей, и, подчеркнем это специально, Декарт вводит его, опираясь именно на богословские предпосылки своей метафизики.
Но ведь все это относится к воображаемому миру!.. А как же быть с действительным?.. Декарт вынужден писать о воображаемом мире не только по соображениям конспирации – слишком сильно католическое богословие связало себя с аристотелизмом. Новая метафизика, как и любая метафизика, не может быть доказана, она принимается в результате определенной убежденности в ее справедливости. Он делает все возможное, чтобы убедить читателя, применяя в том числе и богословские аргументы. «Сам Бог показал нам, что он расположил все вещи по числу, весу и мере, следуя этим истинам[18]. Познание этих истин настолько естественно для наших душ, что мы не можем не считать их непреложными, когда отчетливо их постигаем. Мы можем даже не сомневаться в том, что если бы Бог сотворил несколько миров, то истины эти были бы столь же достоверными во всех этих мирах, как они достоверны в нашем [воображаемом. – В. К.]. Таким образом, тот, кто сумеет продумать следствия, вытекающие из этих истин и из наших правил [законов движения. – В. К.], сможет узнать действия по их причинам и, если воспользоваться школьной терминологией, сможет иметь доказательства а priori всего того, что может появиться в этом новом мире»[19]. Декартовский философский метод и декартовская метафизика лежат в основании этого рассуждения. Мы ясно и отчетливо постигаем те законы движения, которые он формулирует. А согласно декартовской философии то, что мы постигаем ясно и отчетливо, истинно. Ибо благой Бог, сотворивший нас, существование которого в декартовской системе также необходимо, дал нам разум, способный постигать истину. По Декарту, истины классической механики верны во всех возможных мирах, в том числе и в мире действительном, в котором мы живем. И эти истины можно получать а priori. Путь для развертывания теоретической механики открыт. Подчеркнем, какую существенную роль в обосновании этого пути играют богословские аргументы, и в общем (декартовское понимание познания), и в частном (детали доказательства закона инерции).
Лейбниц дает свой подход к обоснованию математической физики. Но опять это введение некоторой метафизики. Пространство и время, в которых существуют материальные тела, которые суть основа возможности измерений этих тел, не есть для философа нечто субстанциальное (в отличие от Декарта), а изначально связаны с мышлением. «Я неоднократно подчеркивал, – пишет Лейбниц, – что считаю пространство, так же как и время, чем-то чисто относительным: пространство – порядком сосуществований, а время – порядком последовательностей. Ибо пространство с точки зрения возможности обозначает порядок одновременных вещей, поскольку они существуют совместно, не касаясь их специфического способа бытия. Когда видят несколько вещей вместе, то осознают порядок, в котором вещи находятся по отношению друг к другу»[20]. Этот порядок воспринимают лейбницевские монады, «атомы бытия», субстанции. Так что изначально вещи, «тела» даны в восприятии монад, а это восприятие осуществляется в пространстве и времени[21]. Но как же согласуются восприятия различных монад, которые «не имеют окон»? Средством для этого у Лейбница является предустановленная Богом гармония. Монады, из которых состоят и органические, и неорганические тела, следуют своим стремлениям, а в то же время поведение неорганических тел в пространстве и времени подчинено законам механики. Лейбницевская механика – феноменологична. Метафизика же, лежащая в ее основе, имеет определенно религиозный характер.
У Ньютона эта метафизическая подкладка его математической физики явно выражена почти в аксиоматической форме. С самого зачина своего знаменитого труда «Математические начала натуральной философии» он объясняет, что ведет построения в абсолютном пространстве и абсолютном времени. «I. Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно, и иначе называется длительностью»[22]. «П. Абсолютное пространство по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему остается всегда одинаковым и неподвижным»[23]. И абсолютное пространство, и абсолютное время являются здесь евклидовыми геометрическими пространствами, то есть пространствами, в которых можно производить измерения, применять математику. Причем пространства эти существенно бесконечные. Ньютон специально отграничивает свое понимание пространства от аристотелевского «места». По Ньютону, место – понятие геометрическое: «Место есть часть пространства, занимаемая телом, и по отношению к пространству бывает или абсолютным, или относительным. Я говорю «часть пространства», а не положение тела и не объемлющая его поверхность»[24]. Что гарантирует это отождествление геометрического пространства и физического? Ньютон не разбирает этого вопроса специально, но по его отдельным замечаниям можно заключить, что это богословские аргументы. В конце книги в «Общем поучении» Ньютон пишет, что то гармоничное сочетание движений Солнца и планет, которые предсказывает его теория и подтверждает эксперимент, «…не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа»[25]. Говоря об этом существе, о Боге, философ-ученый пишет: «Он не есть вечность или бесконечность, но Он вечен и бесконечен, Он не есть продолжительность или пространство, но продолжает быть и всюду пребывает. Он продолжает быть всегда и присутствует всюду, всегда и везде существуя; Он установил пространство и продолжительность. Так как любая частица пространства существует всегда и любое неделимое мгновение длительности существует везде, то несомненно, что Творец и Властитель всех вещей не пребывает где-либо и когда-либо (а всегда и везде)»[26].
В «Оптике» Ньютона также есть общефилософские рассуждения, в которых ученый говорит о своих метафизических предпосылках. Гармония органов природных существ несомненно свидетельствует, по Ньютону, о мудрости и искусстве их Творца. «… Пребывая всюду, он более способен своею волею двигать тела внутри своего безграничного чувствилища и благодаря этому образовывать и преобразовывать части вселенной, чем мы посредством нашей воли можем двигать части наших собственных тел [курсив мой. – В. К.]»[27]. Тем самым пространство и время физической картины мира, даваемой классической механикой, оказываются чувствилищем Бога. Это гарантирует и их абсолютность, и их бесконечность. Именно так, через призму богословского видения, идея бесконечности вселенной входит в науку и, шире, в общекультурное сознание XVIII века, становясь со временем – с утерей веры в Бога – любопытным парадоксом…
3. «Метафизика геометров»
До этого мы говорили о метафизических предпосылках в физике, так сказать, макро- и мегауровней. Но возникающее в XVII веке новое естествознание вынуждено вводить еще и метафизику микроуровня. Это естествознание, как мы подчеркиваем, становится, в отличие от античной физики, математическим естествознанием. Основным его языком будут дифференциальное и интегральное исчисления и выходящие из них в дальнейшем конструкции: дифференциальные уравнения, теория комплексной переменной, вариационное исчисление и т. д. Дифференциальное и интегральное исчисления кладут в свое основание концепцию актуально бесконечно малой величины[28], то есть такой, которая меньше любой положительной величины, но одновременно и не есть нуль, – живой парадокс. Античная мысль была знакома с подобными понятиями, но именно в силу этой парадоксальности не желала использовать их в науке. Аристотель дает право на существование в науке только потенциальной бесконечности: процессу увеличения натуральных чисел 1,2, 3…., или процессу же бесконечно продолжающегося деления отрезка и его частей на все более мелкие части. Но «каково число всех чисел?» или «можно ли разделить отрезок до конца, до точек?» – на эти вопросы античная наука отказывается отвечать. Актуальная бесконечность нарушает фундаментальные аксиомы науки (например, часть меньше целого), и поэтому ее запрещается использовать в науке. Отрезок можно бесконечно делить, но нельзя сказать, что он состоит из точек: континуум – это качественно другая реальность, чем множество точек. Отказ от этой установки ведет к апориям («парадоксы Зенона»).
Но вот XVII век вводит в науку понятие актуально бесконечных величин. Пионеры науки Нового времени – Галилей, Лейбниц, Ньютон – прекрасно осведомлены об античном табу на актуальную бесконечность, но, тем не менее, они вводят эти новые конструкции и, более того, делают их основным инструментом математического естествознания. История легализации актуальной бесконечности в науке существенным своим моментом имеет христианское богословие. Античная мысль не может допустить спекуляции об актуально бесконечном, грубо говоря, по простой причине: у нее нет бесконечного предмета, к которому можно бы было привязать эти рассуждения. Но вот с приходом христианства такой «предмет» появляется: христианский Бог довольно быстро, хотя и не сразу, осознается богословами как бесконечно могущественный, бесконечно благой, бесконечно мудрый[29]. Богословы начинают рассуждать о бесконечности Бога, о возможности разных степеней бесконечности, о существовании бесконечностей в тварном мире и т. д. Ко времени поздней схоластики в западном богословии уже налицо целая «культура» обсуждений и конструкций с актуальной бесконечностью, причем не только богословских, но и натурфилософских[30]. Возрождение с его интересом к оккультизму и пафосом «раскрытия тайн» еще более узаконивает тему бесконечности. Поэтому не удивительно, что XVII столетие легализует концепцию актуальной бесконечности и в науке, в дифференциальном и интегральном исчислениях.
Легализует, но при этом ясно осознает, что тем самым строится уже новая наука. Лейбниц, один из создателей дифференциального и интегрального исчислений, прекрасно понимал, что с ними неизбежно приходит некая новая метафизика: «…Судьба даровала нашему веку прежде всего то, что после столь долгих лет забвения вновь воссиял светоч математики, как я его называю. Ведь были открыты и развиты Архимедовы способы исчерпывания через неделимые и бесконечные, что можно было бы назвать метафизикой геометров, и что, если я не ошибаюсь, было неизвестно большинству древних, за исключением Архимеда» [курсив мой. – В. К.][31].
Что же это за новая геометрическая метафизика? Речь идет о введении неких новых постулатов в геометрию, необходимых для конструкций дифференциального исчисления. Так, в одном из первых учебников дифференциального исчисления маркиза Г. Ф. Лопиталя, ученика и соратника Лейбница, в деле развития этого нового учения мы читаем: вводится «…требование или допущение: требуется, чтобы можно было рассматривать кривую линию как совокупность бесконечного множества бесконечно малых прямых линий, или же (что то же самое) как многоугольник с бесконечным числом бесконечно малых сторон…»[32]. То, что многоугольник, вписанный, например, в окружность, при бесконечном увеличении (удвоении) его сторон будет стремиться к окружности, это, конечно, античные математики знали и даже использовали в своих вычислениях. Однако никто не считал на основании этого, что окружность есть бесконечный многоугольник с бесконечно малыми сторонами!.. Более того, острое чувство качественного отличия окружности от любого многоугольника, кривой от прямой, за которым стоял глубоко осознанный опыт онтологических рангов реальности, приводил к тому, что это соотношение вписанного многоугольника и описанной окружности нередко понимали как символ соотношения рассудочного знания и реальности: кажущаяся близость, но принципиальное внутреннее отличие…
Но как раз от этого различения и отказывается XVII столетие. Речь идет именно о введении новой метафизики. Речь не идет о каком-то эмпирическом факте, который кто-то когда-то открыл и увидел: ведь увидеть эти бесконечно малые нельзя ни в какой микроскоп. Лейбниц, как мы уже отмечали, отлично понимает этот метафизический характер нового постулата. Еще одна цитата: в одном письме к Мальбраншу, говоря о путях промысла Божия, Лейбниц пишет: «В сущности ничто не является для Него безразличным, и ни одна тварь и ни одно действие твари не считаются у Него ничтожными, хотя в сравнении с Ним они почти ничто. Свои взаимоотношения они сохраняют и перед Ним, подобно тому как линии, которые мы рассматриваем как бесконечно малые, имеют практически важные соотношения, несмотря на то что в сравнении с обычными линиями они кажутся ничтожными. Кажется, я уже пользовался этим сравнением»[33]. Сравнение любопытно. На первый взгляд здесь ставятся в параллель отношения Бога к твари и отношение обычных линий к бесконечно малым. Хотя несколько странно, что Бог уподобляется «обычной линии»… В то же время говорится: «линии, которые мы рассматриваем как бесконечно малые». Мы рассматриваем эти линии как бесконечно малые, аналогично тому, как Бог смотрит на тварь, которая по сравнению с ним почти ничто. Наше отношение к этим постулируемым бесконечно малым линиям подобно отношению Бога к твари. То есть мы смотрим на них как бы с точки зрения Бога, с точки зрения самой Истины. Другими словами, это действительно некоторая сверхопытная метафизика…
С ней уже в XVII веке было много несогласных. Декарт так и не принял метода бесконечно малых. Известны острые инвективы Беркли против геометрических построений в бесконечно малых треугольниках и точках. С критикой использования актуальной бесконечности выступали Б. Паскаль и А. Арно[34]. И действительно, ведь если метод дифференциального исчисления держится на вышеупомянутом постулате[35], а последний есть только достаточно произвольное положение (мы не столько знаем, что так есть, сколько требуем, желаем, чтобы так было), то тогда все знание, выводимое с помощью дифференциального исчисления, становится в высшей степени условным. Так же как в истории со знаменитым пятым постулатом Евклида, когда оказалось, что его можно заменить на другие положения, и тогда получатся другие типы геометрии, так же и здесь, может быть, можно предложить постулировать другие свойства пространства, и тогда мы получим совсем иную геометрию?.. А наша, лейбницевско – лопиталевская форма геометрии есть только лишь некая частная форма, одна из возможных точек зрения на пространство и на все, в нем находящееся…
Все построения с бесконечно малыми рассматриваются Лейбницем не только в геометрии, но и в физике, в создаваемой при его существенном участии новой науке, классической механике. Здесь, между прочим, ясно выступают истинные причины той новой «метафизики геометров», о которой говорил Лейбниц. Ученый и философ отлично понимает, что введение новых законов механики требует их обоснования. Поэтому наряду с законами механики он формулирует и другие законы, более высокого логического порядка. Лейбниц называет их архитектоническими принципами. Причем последние прямо связываются философом с Божественной мудростью: «…все природные явления можно объяснить механически, если мы в достаточной мере сумеем понять их, но сами принципы механики не могут быть объяснены геометрически, так как они зависят от более высоких принципов, которые указывают на мудрость Творца порядком и совершенством своего творения»[36]. Одним из фундаментальных архитектонических принципов у Лейбница является принцип непрерывности: «Когда случаи (или то, что дано) непрерывно сближаются и наконец сливаются друг с другом, необходимо, чтобы следствия, или результаты (или то, что ожидается), претерпевали то же»[37]. Принцип непрерывности означает, что в мире нет скачков, hiatus'ов – «зияний», которые были бы необъяснимы. За принципом непрерывности стоит в конце концов логическая непрерывность, принцип достаточного основания: все происходящее должно иметь достаточную причину, что оно таково, а не иное. Иначе была бы скомпроментирована разумность творения, премудрость Бога. Лейбницевский рационализм в этом смысле есть некий сверхрационализм, основывающийся на богословских аргументах. Но поскольку он выступает как философия человеческого познания, он может оборачиваться и титаническим рационализмом, как претензией на окончательное познание всего сущего… Принцип непрерывности служит основанием для переосмысления и самого движения. «Это же правило, – пишет Лейбниц, – имеет место в физике, например, состояние покоя можно рассматривать как бесконечно малую скорость и бесконечно большую медленность. Поэтому все, что истинно в отношении медленности или скорости, должно оправдывать себя и применительно к покою, рассматриваемому с той точки зрения и, таким образом, правило покоя должно быть расценено как частный случай правила движения… Точно так же равенство может рассматриваться как бесконечно малое неравенство, и можно сколь угодно сближать неравенство с равенством»[38]. Сколь угодно малое сближение неравенства и равенства означает не только то, что равенство можно понимать как бесконечно малое неравенство, но и неравенство как бесконечную цель бесконечно малых равенств. Аналогично не только покой можно интерпретировать как бесконечно медленное движение, но и движение рассматривать как бесконечную сумму бесконечно малых движений, а бесконечно малое движение и есть, в свою очередь, покой. Другими словами, Лейбниц как бы принимает классическое построение Зеноновского парадокса «Стрела»: «движение есть бесконечная сумма состояний покоя; но покой заменяется здесь бесконечно малым движением». На языке классической механики это означает введение понятия мгновенной скорости. Понятия такого же парадоксального, как и бесконечно малое движение, то есть скорости тела, находящегося в данной точке.
4. Дискретность как научно-методологический и метафизический принцип
Лейбницевские метафизические обоснования новой математики и физики недолго занимают собственно ученых. Идеал ученого-энциклопедиста, знающего и занимающегося всем или почти всем, постепенно, по мере развития науки становится недостижимым. Заниматься опытной наукой и одновременно обсуждать философские, а тем более богословские основания этой науки становится все труднее. Наконец, с середины XIX века О. Конт вообще объявляет эти проблемы ненаучными. Кроме того, разрастающееся здание математики и ее успешное применение к естествознанию и технике как бы несли оправдание этих новых методов в самих себе. Однако наиболее глубокие и принципиальные ученые никогда не оставляли надежды получить какое-то обоснование той метафизике геометров, которая была связана с дифференциальным и интегральным исчислением.
С середины XIX века усилия сосредотачиваются на проблеме арифметизации континуума. Несмотря ни на какие успехи математики и математического естествознания, невозможно уже было скрывать, что даже в геометрии мы, строго говоря, не любой отрезок можем измерить. Ведь уже греки открыли факт несоизмеримости. Нужна была строгая концепция действительного числа. В 1870-х годах такие концепции были предложены целым рядом математиков: Ш. Мере, К. Вейерштрассом, Г. Кантором, Р. Дедекиндом. Существенно, что все их конструкции использовали актуальную бесконечность. Кантор в своих исследованиях тригонометрических рядов подходит к идее общей теории множеств. В 1870-1880-х годах у него уже созрели основные понятия этой теории: понятия мощности множества, кардинальных и ординальных чисел. Он доказывает знаменитую теорему, носящую с тех пор его имя, о несчетности множества действительных чисел, строит свою арифметику бесконечных чисел[39]. В геометрии главной проблемой для теории множеств является конструирование континуума. Кантор предлагает несколько таких конструкций, стремясь выделить в континууме то, что делает его собственно непрерывным. Встает вопрос о мощности множества точек континуума. Кантор делает предположение, что эта мощность есть следующая по величине после счетного множества («континуум-гипотеза»). Однако доказать это или опровергнуть ему не удается[40].
Однако претензии автора теории множеств идут гораздо дальше. Он не только перестраивает всю математику, ставя все на фундамент теории множеств, но мечтает аналогичным образом перестроить и все естествознание. Главным инструментом здесь должно было быть понятие n-кратно упорядоченного множества. Например, любую группу людей можно рассматривать как 3-кратно упорядоченное множество: по росту, по весу, по возрасту. В каждом из трех возможных упорядочений множество будет просто упорядоченным. В 1884 году в письме к С. Ковалевской Кантор пишет: «Существуют также типы дважды, трижды, n-кратно и даже -кратно etc. (причем речь идет не только о естествознании, но и об искусстве) упорядоченных множеств, благодаря которым, как кажется, на старые и новые вопросы арифметики и космологии может быть пролито много света. Все, что я называю порядковыми типами, имеет в той же степени арифметический, как и геометрический характер, последний именно в случае типов кратно упорядоченных множеств. В то время как декартовски – ньтоновско – лейбницевский метод применяется при условии ограничения феноменов природы, я уже многие годы держусь того мнения, что у нас все еще отсутствует соответствующее строго математическое вспомогательное средство, с помощью которого было бы возможно в определенной мере войти внутрь природных процессов с целью тщательного рассмотрения их не извне, а изнутри, чтобы потом дать их более точное, чем прежде, описание…»[41]. Для применения теории множеств нужно представить материю состоящей из однородных элементов. Кантор называет их вслед за Лейбницем единицами, или монадами. Однако, в отличие от Лейбница, никакой духовной жизни у этих монад не предполагается. Из этих однородных монад – элементов Кантор хочет получить физические, химические, а, возможно, и биологические свойства веществ, применяя исключительно конструкции своей теории множеств. Например, в соответствии с физикой своего времени он рассматривает два типа материи: телесную и эфирную. «С этой точки зрения в качестве первого вопроса, до которого, однако, не додумались ни Лейбниц, ни более поздние ученые, возникает такой: какие мощности соответствуют этим двум материям в отношении их элементов, когда они рассматриваются как множества телесных, соответственно, эфирных монад? В этой связи я уже давно выдвинул гипотезу, что мощность телесной материи – это та, которую я называю в своих исследованиях первой, но что, напротив, мощность эфирной материи является второй»[42]. Другими словами, мощность множества телесных монад есть, по Кантору, Х0 – мощность счетного множества, а мощность множества эфирных монад – Хр первое следующее за Х0 кардинальное число. Это предположение необходимо Кантору для реалзации его чисто формального подхода к физике с помощью теории множеств. Претензии Кантора титаничны: он хочет осуществить тотальную аналитическую деструкцию всего: континуум пространства, материя, природа и человек, картины и симфонии – все должно быть рассыпано в «песок» бескачественных элементов теории множеств. И обратно, всякая качественная определенность должна быть сведена к количественной в терминах канторовской бесконечной арифметики. Полезно еще раз подчеркнуть, что канторовские элементы ничего общего с лейбницевскими монадами не имеют. Элементы теории множеств – это абстрактные сущности. Тем самым Кантор пытался сложить конкретное из абстрактного, вычислить, так сказать, все сущее на листке бумаги… Дух этой титанической задачи все время витает над страницами канторовских сочинений, однако окончательного воплощения эти замыслы так и не получили…
Даже внутри математики (и логики) теория множеств столкнулась с серьезными препятствиями. Континуум-гипотеза не была доказана. В лице аксиомы-выбора выступило еще одно утверждение, которое нельзя было ни доказать, ни опровергнуть в рамках теории множеств стандартного типа. Эта аксиома была необходима для доказательства многих важных положений математического анализа. Замена ее на другую приводила к построению довольно экзотических математик. Обнаружилось, что отнюдь не любые множества можно рассматривать в теории множеств («парадокс Рассела»). Все это заставило гораздо строже относиться к построениям с бесконечными множествами, чем это мыслилось в «наивной теории множеств» времен Кантора, и вводить здесь соответствующие ограничения. Тем не менее все здание математики было в XX веке поставлено на фундамент теории множеств. Каждая теория была интерпретирована как некоторая структура на бескачественном множестве. Систематически это было проделано группой французских математиков, которые под псевдонимом «Н. Бурбаки» начали с 40-х годов издание серии книг «Трактат по математике», с единой точки зрения представляющих все главные направления этой науки. И первым томом этой серии была как раз книга, посвященная теории множеств. Теория множеств стала в XX веке основным языком математики. Как сказал, обсуждая апории теории множеств, один из крупнейших математиков XX века Д. Гильберт: «Никто не может изгнать нас из рая, который создал нам Кантор»[43].
Теория множеств, претендующая, так сказать, на то, чтобы «пересчитать» все точки континуума и тем самым как бы сложить континуум из точек, была самым радикальным выражением пафоса дискретности в науке. На рубеже XIX–XX веков идея дискретности становилась все более популярной. Интересно, что одним из страстных пропагандистов этой идеи был профессор Московского университета Н. В. Бугаев. Он был не только известным математиком, но и регулярно проводил занятия философско-математического кружка, который пропагандировал определенную научно-философскую идеологию. Суть ее не раз излагалась Бугаевым в публичных лекциях. Так, в докладе «Математика и научно-философское мировоззрение» он настойчиво доказывал, что принцип непрерывности, ведущий к использованию в естествознании только аналитических функций, явно недостаточен как универсальный методологический принцип науки. Учение о функциях непрерывных должно обязательно быть дополнено учением о разрывных функциях – аритмологией. «Присматриваясь к явлениям природы, мы скоро подмечаем такие факты, которые не могут быть объяснены с точки зрения одной непрерывности. Нет простых тел всякой [то есть любой. – В. К.] плотности. Каждое простое тело есть самостоятельный химический индивидуум. Рассматривая сложные химические тела, мы также обнаруживаем, что они образуются из элементов, вступающих в химические соединения только в определенных пропорциях… Атомистические теории химии ясно указывают на индивидуальные особенности в строении вещества… Из акустики мы знаем, что только определенное сочетание звуков производит эстетическое впечатление. Музыкальное чередование звуков имеет вполне аритмологический характер. В биологии клеточное строение органических тел указывает на важную роль биологических индивидуумов в явлениях жизни. Явления сознания также представляют много сторон, не подчиняющихся аналитическому взгляду на природу. В социологии человек есть самостоятельный социальный элемент, и непрерывность неприменима к объяснению многих общественных явлений. Одним словом, существует много случаев, в которых обнаруживается прерывность в ходе и в самом развитии общественных событий»[44]. Идеи Бугаева глубоко воспринял и развивал П. А. Флоренский, учившийся в это время в МГУ Идеи прерывности и пафос методов, направленных на изучение формы, заняли одно из центральных мест в творчестве (в дальнейшем) священника Павла Флоренского[45]. Пафос дискретности, прерывности имел для него, в частности, и религиозный смысл. Все существенное в религиозной сфере связано с прямым вмешательством Бога, происходит скачком, прерывно, не сводится к посюсторонней, причинной обусловленности прошлым, а телеологически направлено к будущему, к новой жизни…
Методологическая и одновременно онтологическая идея прерывности получила в XX веке серьезную поддержку в связи с квантовой механикой и изучением микромира. В отличие от классических представлений, было выяснено, что энергия излучается квантами, электронные состояния образуют дискретную последовательность уровней, разрабатывались концепции квантованного пространства – времени. Хотя одновременно наряду с этим у микрочастиц были обнаружены и волновые свойства, что привело к формулировке тезиса о корпускулярно-волновом дуализме. Вообще физика и математика естествознания начиная с XVII столетия развивались в удивительной генетической близости. Уже с самого начала, как обсуждали мы выше, понятия дифференциала и касательной были специально выработаны для выражения интуиции мгновенной скорости, скорости в точке. Эта связь математики и физики оставалась прочной и в дальнейшем. Теоретико-множественная перестройка математики в XX веке оказывала характерное влияние и на физику, причем к концу столетия это влияние стало явно усиливаться. В отечественной физике появилась теория физических структур Ю. И. Кулакова, которая, по признанию самого автора, представляет собой «бурбакизацию» физики. В аналогичном же направлении разрабатывает свою теорию бинарных физических структур и Ю. С. Владимиров. Несмотря на то что философские и методологические установки этих двух авторов различны – Кулаков ориентирован на Платона, Владимиров – больше на Аристотеля, для первого важна непрерывность, а второй может обойтись и без нее, – исходная точка их рассуждений общая: некоторая теоретико-множественная конструкция[46].
С идеологией дискретности связана и современная информационная техника. Первая механическая вычислительная машина была построена еще в XVII столетии Б. Паскалем. После с изобретением электронных ламп в 40-х годах XX века начинается постройка первых ЭВМ. Они, естественно, используют двоичную систему счисления (0,1), значение которой в деле алгоритмизации осознал еще Лейбниц («Адамов язык»). После Второй мировой войны в связи с прогрессом электроники начинается и ускоренное развитие электронных информационных устройств. Существенно, что вся эта техника – коммуникативная, вычислительная, аудио, видео – является цифровой, то есть использующей в качестве базисного бинарный алфавит (0,1). Все непрерывные функции в этой технике сводятся к ступенчатым, дискретным. Возможность подобного моделирования непрерывных процессов изучается целым отдельным направлением в математике, а возможность машинного моделирования – специальным отделом математической логики. С точки зрения этой технологии все процессы, все знание о мире в принципе может быть разложено в последовательность нулей и единиц, выражено одним линейным файлом, представлено в виде информации. Информация в этом смысле выступает как знание, доступное машинной обработке. Несмотря на головокружительные успехи цивилизации в этом направлении – решение задач распознавания образов, повышение скорости обработки информации, построение многофункциональных роботов, – идея превращения всего знания в информацию находит себе границу не только в естественном «гуманитарном инстинкте» человека, но и в конкретных научных разработках: наблюдениях над особенностями взаимодействия человека и машины (физиологическая и психологическая характеристики воздействия компьютера на человека), в осознании ограниченности эстетических возможностей электронных синтезаторов («грубость» цифровой музыки, изображения), в принципиальных вопросах алгоритмизации процесса познания (теорема Гёделя о неполноте, теоремы неразрешимости и т. д.). Однако, тем не менее, идеология дискретности остается на сегодня в высшей степени популярной.
5. Непрерывность
Недостатки идеологии дискретности как основной философско-методологической парадигмы осознавались всегда, но по мере прогресса научного знания критика этой доктрины становилась все более глубокой. Талантливое, почти гениальное выражение интуиции непрерывного и ее значение для познания было дано в книге французского философа А. Бергсона «Творческая эволюция» (1907). В ней автор разворачивает принципиальную критику современного физико-математического подхода к движению, игнорирующему саму сущность континуального. Время математическое и время реальное не соответствуют друг другу. «То, что будет совершаться в промежутке, то есть время реальное, не принимается во внимание и не может войти в расчет. Если математик заявляет, что он имеет дело с этим промежутком, то всегда он переносится в определенную точку, и в определенное время, то есть на границу известного времени t', и тогда упраздняется вопрос об интервале до t'. Если он делит интервал на бесконечно малые части, сообразуясь с дифференциалом dt, он этим просто выражает, что рассматривает ускорения и скорости, то есть числа, отвечающие за тенденции и позволяющие высчитывать состояния системы в данный момент; но всегда речь идет о данном моменте, я хочу этим сказать о моменте остановившемся, а не о времени, которое течет. Короче говоря, мир, которым оперирует математик, есть мир умирающий и возрождающийся каждое мгновение, тот мир, о котором думал Декарт, говоря о беспрерывном творении»[47]. Подобное понимание времени, подчеркивает Бергсон, неспособно схватить становление, эволюцию, происходящую во времени. Именно этот творческий характер времени игнорирует традиционная физико-математическая схема времени. Время в восприятии науки философ уподобляет кинематографу. Причем, согласно Бергсону, этот кинематографический модус восприятия времени залегает еще глубже, в общечеловеческом обыденном опыте. «Вместо того чтобы слиться с внутренним становлением вещей, мы становимся вне их и воспроизводим их становление искусственно. Мы схватываем почти мгновенные отпечатки с проходящей реальности, и так как эти отпечатки являются характерными для этой реальности, то нам достаточно нанизывать их вдоль абстрактного единообразного, невидимого становления, находящегося в глубине аппарата познания, для того чтобы подражать тому, что есть характерного в самом этом становлении. Восприятие, мышления, язык действуют таким образом. Идет ли дело в том, чтобы мыслить становление, или выразить его, или даже его воспринять, мы совершаем не иное что, как приводим в действие род внутреннего кинематографа. Резюмируя предшествующее, можно, таким образом, сказать, что механизм нашего обиходного познания имеет природу кинематографическую»[48]. По Бергсону, прерывность нашего восприятия времени обусловлена в конечном счете процессами нашего психо-физического приспособления к среде и к действию в ней.[49] Действие прерывно, поэтому и интеллект привыкает прерывно воспринимать время. Схватить же реальное время, время становления – для него Бергсон использует специальный термин la durie (фр., «длящееся») – возможно только с помощью интуиции.
Это фундаментальное понятие реального времени, отличного от его математической схемы, позволяет философу выдвинуть для биологии проект, насколько я понимаю, не реализованный и по сегодня. Критикуя попытку биологической науки редукционистски разгадать загадку жизни, сведя ее к физико-химическим процессам, Бергсон предлагает иной путь. Моделью здесь является дифференциальное и интегральное исчисления, сводящее, так сказать, кривое к сумме (бесконечной) прямых[50]. «Мы полагаем, что если бы биология могла когда-нибудь так же близко подойти к своему предмету, как математика подошла к своему, она сделалась бы относительно физико-химии органических тел тем же, чем современная математика относительно древней. Чисто поверхностные перемещения масс и молекул, изучаемые физикой и химией, сделались бы по отношению к жизненному движению, совершающемуся внутри и являющемуся уже трансформацией, а не перемещением, тем же, чем является остановка подвижного тела к движению этого тела в пространстве. И поскольку мы можем это предчувствовать, прием, приводящий от определения известного жизненного акта к системе физико-химических явлений, предполагаемых этим актом, был бы аналогичен той операции, путем которой переходят от функции к ее производной, от уравнения кривой (то есть от закона непрерывного движения, порождающего кривую) к уравнению касательной, дающей направление этой кривой в тот или иной момент ее движения. Подобная наука была бы механикой трансформации, относительно которой наша механика перемещений сделалась бы частностью, упрощением проекций в плане чистого количества»[51]. Бергсон желает во что бы то ни стало сохранить саму сущность живого и историю ее развития. Последняя, согласно философу, может быть выражена только через термины эволюции и трансформации, а всякие физико-химические объяснения здесь представляют собой лишь упрощения, уплощения, замену, так сказать, кривого прямым. Однако этот проект философа остался практически нереализованным. Развитие биологии пошло главным образом именно по пути молекулярной биологии.
Эволюционные идеи находят сегодня себе поддержку в теории самоорганизующихся систем (синергетика). Было обнаружено, что некоторые открытые (диссипативные) физические системы, находящиеся в неравновесном состоянии, ведут себя таким образом, что в отдельных их частях могут происходить процессы самоорганизации. Все это не противоречит второму началу термодинамики, а на самом деле обусловлено им, так как система является незамкнутой. Аналогичные процессы можно наблюдать и в сложных биологических системах (например, популяции бактерий): при их размножении в определенной среде возможны сценарии распределения бактерий самого разного рода, в частности и реализующие повышение организации («странные аттракторы»). Уравнения (нелинейные), описывающие эти системы, могут быть очень простыми, например[52]:
однако пути поведения системы в будущем оказываются практически непредсказуемыми, так велико многообразие возможных аттракторов и их качественная разнородность. Все это подталкивает некоторых нетерпеливых авторов утверждать, что и само возникновение жизни из неживой материи происходило именно подобным образом. Хотя эта идея остается только лишь гипотезой, тем не менее этим пафосом исполнена, например, книга И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса». Авторы соглашаются с критикой Бергсона того пути, по которому идет биология: «Как подчеркивал в начале нашего века Бергсон, и технологическая модель, и виталистическая идея о внутренней организующейся силе выражают неспособность воспринимать эволюционную организацию без непосредственного ее соотнесения с некоторой предсуществующей целью. И в наши дни, несмотря на впечатляющие успехи молекулярной биологии, концептуальная ситуация остается почти такой же, как в начале XX века: аргументация Бергсона в полной мере относится к таким метафорам, как „организатор“, „регулятор“ и „генетическая программа“»[53]. Однако, тем не менее, авторы настаивают на гипотезе спонтанного зарождения жизни: «Иное значение приобретает (и приводит к иным выводам) биология, если к ней подходить с позиций физики неравновесных процессов. Как теперь известно, и биосфера в целом, и ее различные компоненты, живые или не живые, существуют в сильно неравновесных условиях. В этом смысле жизнь, заведомо укладывающаяся в рамки естественного порядка, предстает перед нами как высшее проявление происходящих в природе процессов самоорганизации. Мы намерены пойти еще дальше и утверждаем, что, коль скоро условия для самоорганизации выполнены, жизнь становится столь же предсказуемой, как неустойчивость Бенара или падение свободно брошенного камня… Раннее зарождение жизни, несомненно, является аргументом в пользу идеи о том, что жизнь – результат спонтанной самоорганизации, происходящий при благоприятных условиях. Нельзя не признать, однако, что до количественных теорий нам еще очень далеко»[54].
Особую роль идеологии непрерывности пытался придать в своих трудах отечественный математик и философ В. В. Налимов. Он радикально переосмысливает традиционные подходы к логике. Аристотелевская логика для Налимова есть лишь дискретизация сферы смыслов. Последняя суть для ученого некоторая онтологическая реальность, имеющая непрерывный характер. Само понимание текста есть, по Налимову, всегда обращение к этой стихии «размытых» смыслов, поиск и конструирование в ней, которое всегда открыто и ситуативно. Исходя из традиционных теоретико-вероятностных схем, Налимов предлагает понимать любой текст (а им является любое сущее, предстоящее познающему сознанию) как определяемый некоторой плотностью вероятностей на континуальном смысловом пространстве. Герменевтические же процедуры переинтерпретации текстов суть для него введение новой функции условной вероятности, осуществляемой по известным формулам Байеса. Именно введение непрерывного континуума смыслов позволяет, по Налимову, приблизиться к научному пониманию герменевтических процедур, диалога, познания вообще[55].
Мы видели, какую существенную роль играют метафизические предпосылки при построении научного знания. Несмотря на то что наука в своем развитии постоянно стремится уяснить и свои основания, достигнуть этого в полной мере не удается. И, вероятно, не удастся никогда, пока знание имеет ту форму, которою оно получило со времен Античности. А именно, научное знание выступает здесь в форме теории. А это означает, что некоторая часть этого знания выступает в качестве принятой на веру данности, а именно: аксиомы и методы доказательств. Они, конечно, в свою очередь также могут иметь некоторую логическую легитимацию, но, тем не менее, достигнуть полной логической обоснованности мы не можем, пока мы строим знание в форме теории. Научная теория всегда остается для нас некоторым инструментом познания, который сам требует еще осознания и оценки… Альтернативной формой знания была бы та, в которой сам инструмент познания был бы полностью обоснован и, так сказать, полностью прозрачен для разума. Этот инструмент познания представлял бы собой некий чистый свет, умный и бытийственный одновременно, освещающий себя и все иное, чистый свет очевидности… Подобные философско-религиозные конструкции мы встречаем в истории человеческой мысли: в неоплатонизме, в средневековом христианском богословии, в мистике… Однако этот тип познания требует совершенно других гносеологических и онтологических установок, чем те, на которых утвердилась новоевропейская наука. Он требует принятия иной метафизики и развертывания иного цивилизационного проекта.
II. Критика науци в традиции философской феноменологии
О кризисе науки последние десятилетия говорят много и в разных контекстах[56]. Действительно, обращает на себя внимание тот факт, что фундаментальная наука «питается» сегодня открытиями, сделанными в основном в довоенное (до Второй мировой войны) и сразу в послевоенное время. Отсутствие новых открытий в фундаментальной науке тревожит и заставляет задумываться о самих основах научного знания. Настораживает также прагматическая ориентация современной науки на технологии. По подсчетам специалистов, до 80 % затрат в науке идет на разработку оружия и технических приспособлений, и только 10 % – на фундаментальные исследования. На научный кризис накладывает свою печать, конечно, и общецивилизационный кризис, который, в свою очередь, также имеет различные стороны: экономическую, политическую, национальную, демографическую. В России к этому добавляются еще и проблемы переходного периода, из которых отечественная наука так еще и не выбралась. В этой статье мы, однако, займемся принципиальными философскими вопросами, касающимися природы науки и ее методологии. Сейчас, в начале XXI века, представляется небезынтересным проанализировать ту критику научного знания, которая высказывалась философами-феноменологами в первой половине XX века. Мы начинаем статью с анализа незаконченной работы Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936-1937), которая во многом посвящена как раз обсуждению кризиса новоевропейской науки.
1. Э. Гуссерль: наука – знать или уметь?
Вообще говоря, заглавие гуссерлевской работы достаточно парадоксально: книга писалась в 30-е годы XX века, время становления современной физики, теории относительности, квантовой механики, прогрессивного изучения атомного ядра – как же можно было говорить о кризисе науки в это время? Ближайшим образом Гуссерль укоряет новую науку, естествознание в слишком далеко зашедшей специализации, оторванности естествознания от человека и человеческих проблем. Естествознание прогрессивно развивается, но разве этот прогресс открыл нам что-то новое в понимании человеческой свободы, фундаментальной характеристике нашей жизни?.. А в гуманитарном знании разве не настаивает оно постоянно на «объективности» как отрешенности от всякого субъективного интереса, личной ангажированности, ориентации на ценности и т. д., то есть от всего того, что составляет неотъемлемую часть любой культуры и любого живого человека?.. Наука древности понимала себя более целостно. Человеческое познание означало одновременно и причастность единому мировому разуму, который был основой и смыслом всего Космоса. Этот единый разум постигался через философию, и различные научные дисциплины были лишь разветвлением единой науки философии. Возрождение и начало Нового времени еще сохраняет память и завет об этой единой науке, пишет Гуссерль[57]. Именно у Декарта мы видим попытку построения универсальной науки, основывающейся на специально продуманном методе и особой метафизике. Однако в дальнейшем берет верх тенденция освобождения наук от философских вопросов и от всякой метафизики. Со второй половины XIX века в качестве основания наук выступает позитивистская философия, сознательно обрывающая все связи с предшествующей философской традицией. «Таким образом, в историческом аспекте позитивистское понятие науки в наше время является остаточным понятием. Из него выпали все те вопросы, которые прежде включались то в более узкое, то в более широкое понятие метафизики, и среди них все вопросы, которые недостаточно ясно именуются «высшими и последними». При точном рассмотрении они, как и вообще все исключенные вопросы, обнаруживают свое нерасторжимое единство в том, что явно или имплицитно, в своем смысле, содержат в себе проблемы разума – разума во всех его особых формах. В явном выражении разум является темой дисциплин о познании (а именно об истинном и подлинном, разумном познании), об истинной и подлинной оценке (подлинные ценности как ценности разума), об этическом поступке (истинно добрый поступок, действие из практического разума); при этом «разум» выступает как титульное обозначение «абсолютных», «вечных», «надвременных», «безусловно» значимых идей и идеалов. Если человек становится «метафизической», специфически философской проблемой, то вопрос ставится о нем как о разумном существе, а если встает вопрос о его истории, то дело идет о «смысле», о разуме в истории. Проблема Бога явно содержит в себе проблему «абсолютного» разума как телеологического источника всякой разумности в мире, «смысла» мира. Естественно, что и вопрос о бессмертии – это тоже вопрос разума, равно как и вопрос о свободе»[58]. Гуссерль, который отнюдь не был верующим человеком, показывает, что законный, чисто научный вопрос об основаниях нашего познания, о его достоверности и, следовательно, вообще о статусе разума в бытии неизбежно приводит к философии, к попытке найти те или иные ответы, исторически существовавшие в виде различных метафизик. Все эти вопросы неизбежно выводят нас за пределы представления мира как голой совокупности фактов, требуют более высокой философской точки зрения, чем предлагает позитивизм. «Позитивизм, – пишет Гуссерль, – так сказать, обезглавливает философию»[59].
Одним из главных создателей новой науки, пишет немецкий философ, по праву считается Галилей. Титанической задачей, которую решал Галилей, была задача убедить научное сообщество в возможности математической физики. Физика Античности и Средневековья не была математической, она была качественной физикой. Для Аристотеля понятия геометрического пространства и физического пространства были разными понятиями. У него вообще не было понятия физического пространства, вместо него использовалось понятие места. Мир абстрактных математических образов и мир реальных материальных объектов – это были разные миры. Галилей своей изощренной диалектикой и гениальной интуицией не доказал, а, скорее, убедил своих современников в том, что математику можно применять и в физических вопросах. Но более того, он выдвинул принципиальный тезис: книга природы написана на языке математики. Хотя все его доказательства постоянно связаны с неким предельным переходом – превращение материальной плоскости в бесконечно гладкую, материального шара – в совершенный геометрический шар и т. д., и, следовательно, предполагают некоторую бесконечную процедуру, тем не менее тезис о математической выразимости феноменов природы постепенно становился все более привычным… В ногу с этим шло и развитие техники измерений[60]. Декарт, Лейбниц, Ньютон своими трудами, научными достижениями постепенно укрепили новое представление о природе и сделали его как бы самоочевидным.
Однако, подчеркивает Гуссерль, представление о природе как о некоем математическом Универсуме оставалось – и остается! – только гипотезой. Гипотезой, которую нужно беспрерывно подтверждать, так как никакой конкретный опыт, никакая последовательность этих опытов, никакие технологии, построенные на основе науки, не могут обосновать метафизического тезиса о «математической выразимости» природы… Математическая форма природы остается проектом, который со времен Галилея наша цивилизация стремится воплотить в жизнь. С точки зрения познания – самого благородного из человеческих стремлений, по Гуссерлю, этот проект доказал бы свою состоятельность только если бы была построена универсальная математическая теория – «теория всего», объясняющая все в мире. Однако, как показывает история науки, ждать этого в ближайшее время не приходится…[61]
На чем же держится авторитет науки как познавательного предприятия? Чем с гносеологической точки зрения оправдывается Галилеевская гипотеза о математическом языке самой природы? Никак не больше как тем, чем оправдана наука и с точки зрения ее приложений, ее технологий. Математическое естествознание сведено к оперированию формулами. Это верно и в отношении теоретического естествознания, и в отношении экспериментального. Последнее также стремится благодаря измерениям свести знание к некоторым формулам. Формула, подчеркивает Гуссерль, дает возможность предвидения, предсказания в поведении исследуемого объекта[62]. А последнее, в свою очередь, позволяет строить на основе этих формул новые технологические устройства, так или иначе облегчающие нашу жизнь. Теоретическое оправдание науки, отсюда все держится на умозаключении: если бы математическая физика не была в какой-то степени верна, то невозможны бы были и предсказания, и новые технологии. Но всего этого слишком мало для оправдания эпистемологического статуса науки, настаивает Гуссерль. Ведь мы никогда не знаем, в какой степени верна наша теория. Речь же идет не о близости значений параметров, предсказываемых теорией и измеряемых в эксперименте. Как известно из логики, и из ложной теории могут следовать верные выводы. И сама эта процедура сравнения предсказываемых значений параметров с измеряемыми в эксперименте опять опирается на предпосылку, что есть некоторые истинные числовые значения параметров, то есть опять на Галилеевскую предпосылку, что истинный язык природы есть математика. Но именно последний тезис и «висит в воздухе»… Гуссерль неоднократно подчеркивает, что он отнюдь не является противником современной науки, связанного с ней технологического прогресса и прогресса цивилизации. Все это имеет свою определенную ценность и должно уважаться. Вопрос идет о другом, вопрос ставится о познавательной ценности науки. Выполнила ли наука ту великую цель, которую она ставила еще на заре своего возникновения, которая была ею перенята еще из античной науки: достигнуть полноты знания, достигнуть достоверности знания такого уровня, чтобы уже не оставалось никакого места для сомнений. Философ приходит к заключению, что именно в плане продвижения к этой цели современная наука сделала очень мало. И не только мало сделала, а как бы даже и утеряла саму эту цель… Античная наука строго разделяла различные уровни знания. Уметь сделать и понимать различались там и по смыслу, и по имени: первое называлось – искусство, ремесло, второе – – собственно знание, наука. В том и состоит, по Гуссерлю, грехопадение науки нового времени, что она как бы превратилась в чистую «тэхне», в чистое искусство овладения предметным миром, утеряв высокую и благородную цель познания. Претендуя на объективное познание, эта наука, собственно, и не может предъявить той объективной реальности, о которой она все время говорит. Ведь математические схемы предметов, которыми она оперирует, остаются всегда лишь гипотетическими построениями, которые нужно все время корректировать и улучшать, продолжая этот процесс в бесконечность… «Не уподобляются ли наука и ее метод некой приносящей, по всей видимости, большую пользу и в этом отношении надежной машине, правильно пользоваться которой может научиться каждый, ни в коей мере не понимая, в чем состоит внутренняя возможность и необходимость достигаемых с ее помощью результатов?»[63]
2. «Жизненный мир» и «проект» новоевропейской науки
Математизируемому Универсуму Декарта, в котором разворачивает свои построения новоевропейское естествознание и которое тесно связано с Декартовской метафизикой, Гуссерль противопоставляет понятие жизненного мира. Это же понятие философ использует и для критики так называемого объективного знания, науки. «Жизненный мир есть царство изначальных очевидностей»[64], – пишет Гуссерль. Весь этот мир, так как он дан нам непосредственно, с его формами, красками, звуками, запахами, с его опытом расстояния и времени – все это входит в жизненный мир. Причем имеется в виду не только опыт, так сказать, внешнего восприятия – Гуссерль не может сказать чувственного восприятия, так как это значило бы заранее принять уже некоторую метафизику восприятия, а именно с ней он и борется, желая построить новую, более строгую науку – но и опыт нашей внутренней жизни: воспоминания, желания, планы, любовь, ненависть, культура… Все это как объект непосредственного восприятия составляет жизненный мир. Наука, под именем чего Гуссерль понимает именно новоевропейскую науку, а точнее – математическое естествознание, заставляет нас через процессы социализации в школе, университете, средствах массовой информации и т. д. во многом переосмыслить этот непосредственно данный нам мир. Если мы спросим сегодня «человека с улицы», что такое звук, то он, скорее всего, ответит нам, что это колебания воздуха или какой-то упругой среды. Или что такое свет? Это электромагнитные колебания частоты, принадлежащей определенному интервалу. А что такое цвет? Это взаимодействие падающего на поверхность белого света с поверхностью, и в зависимости от того, колебания каких частот поглощаются, а каких отражаются, мы получаем различные цвета на поверхности. Но если мы задумаемся: вот музыка, которая действительно связана со звуком, этот океан выраженных в ней настроений, мыслей, страстей, мир культуры, отраженный в музыке, – неужели же это всего-навсего колебания воздуха различных частот?.. Или живопись, работающая с формой и цветом, которая в любой культуре играет такую огромную роль, неужели же это только электромагнитные колебания?.. С этим разрывом между миром человеческим и миром науки невозможно примириться!.. Как мертвое, материальное может иметь такое глубокое значение для живого, духовного мира?.. Наука не дает ответа на этот вопрос. Тем не менее наука объявляет весь этот мир, который на языке математики описывает современная физика, объективным миром. И, следовательно, мир нашего непосредственного восприятия – миром иллюзорным. Делается это (с XVII столетия) с помощью разделения качеств вещей на первичные и вторичные. Первичные – это форма, движение, тяжесть; вторичные – это все остальные качества естественного восприятия: цвет, вкус, теплота, звучание и т. д. Все вторичные качества наука сводит к первичным. Точнее говоря, стремится свести. Ведь возможность этого сведения есть не кем-то доказанный факт, а постулат, лежащий в основании науки. Этому же служит и идущее от Декарта дуалистическое разделение всех вещей на вещи мыслящие и вещи протяженные. Вещи мыслящие – это человек, ангелы, вещи же протяженные – все остальное. Согласно Декарту, всякая протяженная вещь может быть понята как некоторая механическая конструкция. Поскольку животных Декарт не мог причислить к вещам мыслящим, то они представлялись ему лишь хитроумно устроенными машинами, по отношению к которым неуместны все наши сочувствия и привязанность… Декартовский дуализм также не есть доказанный факт, он также представляет собой лишь некоторый постулат познания. Тем самым наука, претендующая открывать объективный, истинный мир, вместо нашего обыденного, лишь-де кажущегося, основывается, на положениях далеко не очевидных, если не прямо сказать – сомнительных. Наука в этом смысле есть некоторый проект, достаточно далеко продвинутый, но отнюдь не имеющий гарантий своего успешного завершения… Ведь как показала вся наука с XVII по XX век и как каждый день подтверждает наш обыденный опыт, животных отнюдь нельзя понимать как механические игрушки… А самое главное, человек как единство тела и души, материального и идеальных начал никак не может быть объяснен в рамках этого дуализма. Что, как известно, не удалось и самому Декарту.
«Объективность» научных описаний, как подчеркивает Гуссерль, не может быть продемонстрирована на опыте, не может быть предъявлена. Ведь это значило бы доказать сами принципы новоевропейской науки, но принципы не доказываются, они оправдываются. Спорность новых принципов физики, возникавшей в XVII столетии, была ясна многим, и пионерам новой науки пришлось немало потрудиться, чтобы переубедить своих коллег. Эту тяжелейшую и неблагодарную работу взял на себя во многом Г. Галилей. В его сочинениях, особенно в знаменитой книге «Диалог о двух главнейших системах мира Птолемеевой и Коперниковой», он прилагает титанические усилия, чтобы доказать, например, принцип инерции или важнейшее для новой науки положение о том, что в физике можно применять математику (с чем принципиально была несогласна господствовавшая тогда традиция, идущая от Аристотеля). И однако, несмотря на все эти усилия, доказать эти новые принципы науки ему не удается… Оправдание же этих принципов, постулатов новой науки через эффективность научных технологий – в духе того, что сама наша цивилизация, построенная на основаниях науки, на научных технологиях, подтверждает-де основания науки, – также отнюдь не бесспорно. Ведь знать, как сделать, и понимать – это разные вещи. Мы видели, что именно это и является, собственно, главным упреком Гуссерля в адрес науки. Она не выполнила главную задачу, задачу познания, подменив ее задачей технологического использования. Опыт объективного, который нам являет наука, пишет Гуссерль[65], похож в этом смысле на опыт бесконечного, как нам оно дается в математике. Действительно, мы рассуждаем даже в элементарной математике: возьмем это число, возьмем эту прямую, плоскость и т. д., по видимости так, что нам дано это бесконеное множество чисел (натуральных), бесконечные прямые, плоскости и т. д. Однако уже античная наука обнаружила, что несмотря на то что мы можем брать сколь угодно большие числа и сколь угодно большие отрезки прямых, мы не можем, тем не менее, считать, что нам дано разом бесконечное множество чисел (актуально бесконечное) или бесконечные геометрические объекты. И если мы примем последнее, как и произошло с математикой Нового времени, то нам придется отказываться от слишком привычных аксиом мышления, и при этом возникают апории, которые мы не можем разрешить…[66] Отказавшись от предвзятых научных априорностей в рамках жизненного мира, Гуссерль предлагает найти, так сказать, естественные априорные сущности – феномены, которые, согласно программе феноменологической философии, и должны стать основным инструментом познания, новой науки. Феномен красного цвета или феномен движения существуют с априорной очевидностью, которую невозможно игнорировать. Даже если мы понимаем красный цвет как колебания определенной длины волны или даем математическую интерпретацию движения, мы все равно не можем не опираться на интуицию красного и интуицию движения. Гуссерль и предлагает в своей феноменологии каталогизировать и изучить априорные связи между всеми подобными феноменами. Здесь не место обсуждать всю программу феноменологической теории познания. Нашей задачей в этой статье является только представить критику традиционной теории познания, лежащей в основе новоевропейской науки.
3. М. Шелер, Г. Марсель, . Мерло-Понти о науке
Подобную гуссерлевской развивали критику науки и другие философы феноменологической школы. М. Шелер (1874-1928), «феноменолог № 2» после Гуссерля, аналогично уподоблял научные знания собранию предписаний для стрелочника железнодорожной станции, сидящего за своим пультом, который «знает», что если загорится лампочка № 1, говорящая о подходе поезда по первому пути, то он должен нажать кнопку № 2 (перевод стрелки), а если лампочка № 2, то он должен нажать кнопку № 5, и т. д.[67] И этому стрелочнику не нужно, собственно говоря, даже точно знать, что обозначают сигналы лампочек и нажатия кнопок; главное, что от него требуется, это аккуратность… Шелер прав. Действительно, если мы не имеем непосредственного контакта с реальностью, если этот контакт опосредован множеством достаточно сомнительных гипотез (постулатов), то практически мы уподобляемся этому стрелочнику. Мы никогда не знаем точно, с чем мы имеем дело. Мы только знаем, что если на «входящий» сигнал № 1 мы ответим действием № 2, то с достаточной вероятностью «на выходе» мы получим ожидаемую реакцию… Практически мы занимаемся не познанием, мы занимаемся управлением. Роль компьютерной и всей информационной техники в нашей цивилизации и науке совершенно неслучайна. Помимо собственно позитивного использования компьютерной техники в научном исследовании – как вычислительного средства! – эта техника служит и осязательным символом нашего метода познания, фактически заменяющего проблему познания проблемой управления.
Противопоставляя феноменологический метод познания традиционному, основанному на предвзятой метафизике, Шелер справедливо упрекал последний в символичности. Все наше научное познание символично, научные схемы вещей и процессов лишь символизируют реальные вещи, они верны лишь при условии некоторых предпосылок, нередко довольно проблематичных. Наука, как и искусство, дает нам знание не самой реальности, а представляет только лишь символы этой реальности. «В науке красный цвет есть тот X, который соответствует этому движению, этому нервному процессу, этому ощущению. Но сам X не дан. Тут как бы один вексель меняют на другой, причем залогом служит красное. И пока мы остаемся в пределах науки, с этими векселями, которые выданы под красное, можно совершать бесконечно многообразные сделки, но они никогда не будут окончательно погашены»[68]. Погасить эти векселя может только обращение к «самим вещам», которое сознательно культивирует феноменологический метод.
Другим сознательным критиком современной науки с точки зрения феноменологического метода был Г. Марсель (1889-1973). Наиболее продуктивный период его творчества пришелся на эпоху расцвета экзистенциализма. И его собственную философию называли обычно христианским экзистенциализмом. Действительно, проблемы человеческого бытия, судьбы человека в мире стояли в центре философского творчества Марселя. Но немало страниц в его произведениях посвящено и критике науки, демонстрации границ научного метода, его узости и неадекватности фундаментальным проблемам человеческого бытия. Главный объект критики философа здесь – это субъект-объектное разделение, из которого исходит научное познание. Марсель показывал ограниченность этого подхода, он настаивал, что фундаментальные загадки бытия – как раз те, где мы не зрители, а участники. В этом смысле он подчеркивает различие между проблемами, которыми занимается наука, и таинствами, которые обсуждает философия. «Различие таинственного и проблематического. Проблема – нечто такое, что встает на пути, загораживая проход. Она всецело передо мной. Напротив, тайна есть то, во что я сам погружен, чем я сам захвачен, сущность чего, следовательно, не находится целиком передо мной. Поэтому различение между во мне и передо мной как бы утрачивает свою значимость»[69]. В качестве примера философ рассматривает проблему зла. Если я считаю, что могу извне смотреть на нее и решать ее как научную проблему, то тогда зло представляется мне некоторым нарушением в ходе мировой машины, которое необходимо устранить. Если же я замечу, что зло, существующее в мире, связано нередко и с моими деяниями, словами, отношениями – другими словами, что зло проходит и через меня, то тогда познание и преодоление зла превращается в более серьезное предприятие. Уже в самом познании зла может присутствовать зло, и борьба с ним требует особых усилий, техники, помощи… То же относится и к проблеме свободы. Нельзя считать, что мы можем познать свободу так же, как мы познаем теорему Пифагора или свойства воды. В самом акте познания свободы она уже присутствует на стороне субъекта и вносит свои коррективы в результаты познания[70]. То же можно сказать и о познании Бога. «Ты бы не искал Меня, если бы уже не нашел», – был Августину голос свыше. Само стремление к Богу уже есть определенная причастность Ему, и встреча с Богом – всегда не просто внешняя встреча, а опыт, захватывающий глубинные основы человеческого естества[71]. Конечно, естествознание в XX веке, веке теории относительности и квантовой механики, немало говорило о роли наблюдателя в физическом эксперименте, о его неустранимом влиянии на результаты эксперимента. Однако той степени значимости установок субъекта для познания, которую мы имеем в познании личностной сферы, естествознание не имеет. Схема разделения на субъект и объект совершенно неадекватна реальности там, где господствуют неслиянностъ и нераздельность…
Говоря о критике науки с точки зрения феноменологии, невозможно не назвать имени французского философа М. Мерло-Понти (1908-1961). Мерло-Понти бесстрашно обнажал нищету современной науки в плане познания человека, ту нищету, которую она за четыре века научилась умело скрывать за макияжем своих теорий. В особенности философ потратил немало усилий для поиска новых подходов к проблеме восприятия[72]. Расхожее представление о природе восприятия – претендующее одновременно и на научность! – оказывается чистым мифом, который иногда предпочитают называть метафизикой. Или восприятие мыслят Декатовски – механицистски, то есть, грубо говоря, когда я касаюсь рукой, например, стола, то механическое давление передается тканям руки, потом получаемые от этого электрические импульсы бегут по нервам и достигают мозга, где образуются (как!?!) представления восприятия, или Кантовски – идеалистично, то есть и само представление стола, и пространства, в котором он находится, все это получается в нашем мозгу наложением априорных форм на хаотичную материю чувственности. Однако ни та, ни другая теории не объясняют нам, как материальное, чувственное становится духовным, «внешнее» – «внутренним». Перед психо-физической проблемой мы оказываемся также беспомощны, как и четыре века назад, когда Декарт объяснял переход материального движения в душевное восприятием в районе шишковидной железы…