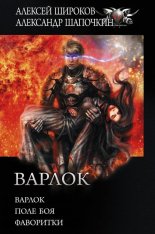Америго Мифо Арт
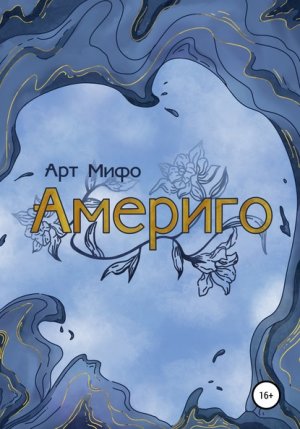
Посвящается тебе
Прошу, не показывай маме,
От папы подальше держи.
Родители будут в тревоге,
Решат, что я выдумал сам.
Все это – неправда, но я не соврал!
СМЕЛОСТЬ
I
Мадлен Левская (называли ее Леной или фрау Левской) опекала Уильяма со времени смерти его матери, то есть с самого его рождения. Она жила с мужем Рональдом на 3-й Западной улице Тьютонии, в четырехэтажном доме-апартаментарии, населенном по большей части такими же, как она, рабочими ткацкой благофактуры «Зайденкляйд».
Как и многие другие пассажиры, фрау Левская почти целый день проводила на службе. Ее едва-едва хватало на сон и домашние дела, но Уильяму запомнилось, что по утрам на столе посреди одной-единственной комнаты всегда стоял роскошный пирог – пышный и затейливо украшенный, как декоративные подушки в богатых домах членов командования. Начинка была особая для каждого дня недели, и Уильям давно уже не мог и помыслить о понедельнике без явственного аромата клубничного джема, четверг он не представлял без абрикосового, суббота пахла лимонами.
Слава о пирогах фрау Левской распространилась далеко за пределы не только апартамента № …, но и 3-й Западной улицы, да и, без преувеличения, всей палубы Тьютония. Фигуры чванных Господ – так называли членов командования – вырастали в дверном проеме в ранний утренний час, когда герр и фрау Левские еще не выходили на службу, и в конце концов Уильям привык и к этим фигурам… хотя его удивляло, что мама ничего не берет с этих Господ взамен, а только улыбается так, что видны все ее зубы, да подливает в чашки душистого кофе. Но мальчик не задумывался об этом надолго – запахи корицы и джема увлекали его куда сильнее. Что касается Рональда, то он сидел за столом вместе со всеми, покорно глядел на лица властителей, снизошедших к его очагу, изредка кивал и коротко объяснялся, когда они задавали очередной дружеский вопрос, ответ на который заранее был известен. Несмотря на пугающую прожорливость своих гостей, Лена Левская всякий раз ухитрялась выхватить из их мясистых пальцев с выхоленными голубыми ногтями последний кусочек, чтобы отдать его потом любимому приемышу.
Переждав такой утренний визит, Уильям обычно отправлялся в Школу. Это учреждение было устроено для того, чтобы привить детям основы Книги Заветов – руководства к жизни, созданного самими творцами – и ознакомить каждого из них с историей и назначением Корабля.
Знакомство с Заветами начиналось как можно раньше – дети посещали Школу с шести лет.
Когда маленький человек достигал этого возраста, в особый день года его одевали в короткий белый костюмчик с длинными белыми чулками, обували в белые башмачки, брали в охапку и – несли так в Школу. Маленький человек по недоразумению упирался обеими ногами в мостовую и выл так, что содрогались стекла в витринах ближайших лавок, но добиться мог только шлепков ниже спины или еще чего побольнее – никаких возражений родители не допускали.
Школа выглядела приветливо. Старый, как сам Корабль, замок из белого камня обрамлен был пестрым цветником из искусственных цветов: красных лилейников, зеленых гортензий и голубых флоксов. Дорожки цветника сходились на белой площадке перед дверями, и там стояла великолепная группа белых статуй; одна из них наклонялась к своим ногам, другая держала у груди сдвинутые ладони, третья простирала руки к небу. Большие арочные окна блестели трехцветной мозаикой, и над ними выступали причудливые пояса, и солнце всегда поднималось над чешуйчатой голубой крышей, над сказочной грядой шатровых скал, обливая их серебром; но застланные слезами глаза совершенно не могли всего этого видеть.
В дверях белого здания родителей и их заплаканных чад со всеми любезностями встречали просветители – служители Школы, молодые улыбчивые люди. Чтобы унять детей и расположить их к занятию, они использовали всяческие хитрости. Они надевали маски волшебных существ с картинок в книгах о таинственном и несравненном острове Америго, с которыми юные пассажиры проводили время едва не с рождения. Иногда они обходились ласковыми словами. Иногда предлагали разные сладости (что, впрочем, не одобрялось родителями, которые не желали вырастить из детей неблагоразумных бездельников, недостойных вести Корабль к Цели).
После того как маленького человека удавалось тем или иным способом успокоить, его провожали в аудиторию – светлое помещение с высоким сводом. Свод этот был расписан картинами, на которых резвились дивные создания: звери и птицы, каких нельзя было найти на палубах Корабля. Они грелись на груди у людей, очень похожих на пассажиров Корабля, но по-особенному сияющих, словно бы впитавших в себя солнечный свет. Они порхали над гладью воды и отдыхали на берегу, сложив усталые конечности кому как вздумается. Они карабкались по ветвям гигантских раскидистых деревьев и поедали необыкновенные ягоды… Вдоль стен аудитории стояли другие статуи, раскрашенные, из папье-маше, изображающие рослых и сильных мужчин в ярких голубых одеждах; каждый из них держал в вытянутых руках какой-либо предмет.
Эти живописные картины и яркие фигуры тут же привлекали внимание детей. Будущие ученики послушно опускались на длинные деревянные скамьи, расставленные в несколько рядов, и скоро переводили все внимание друг на друга; они ненадолго затихали и с опасением изучали соседей, как новые, движущиеся, иллюстрации.
Тех, кто по какой-то причине продолжал сопротивляться, просветители усаживали на скамью силком, обвязывали вокруг их рук и ног прочные ремни с мягкой подкладкой и оставляли в таком положении. Несогласный мог свободно вертеть головой, но самая незначительная перемена позы вынуждала его ерзать на месте в страхе свалиться со скамьи и набить шишку. Другие дети между тем забывали о собственных страхах и ехидно улыбались, глядя на эти забавные телодвижения; с дальних скамей доносился откровенный хохот, который вызывал свежую суматоху в аудитории.
Убедившись, что дети не пропустят свое первое занятие, родители мирно отправлялись трудиться на благо Корабля. В помещение заходил учитель – мужчина не старше тридцати шести лет в простой черной блузе и такого же цвета брюках – и поднимал руку, извещая о начале занятия. Кто-то из учеников глядел теперь на него – с ненавистью или с восхищением, а кто-то продолжал с интересом рассматривать величественный свод. Окинув взором аудиторию, учитель улыбался и несколько мгновений водил руками в воздухе, как будто собирая рассеянное внимание и притягивая ближе к себе. Затем он громко приветствовал учеников. Откашлявшись в сторонку, он вновь обращался к ним и с большим чувством говорил:
– Мы – пассажиры чудесного Корабля, и Создатели несут нас по небу к нашей Цели – земному острову Америго, где ждут нас и наших потомков высшие Блага и наслаждения, недоступные тем, кто живет в небесах! Каждый из нас сойдет на берег и познает вечную радость! Других островов нет в Океане, и мы должны помнить об этом, когда будут искушать нас ложными целями, обещать неисполнимое, сулить пустые утехи! Мы внемлем мудрости Господ наших на Корабле, устами Создателей говорят они с нами, как достойные их наместники! Мы трудимся и почитаем труд, ибо без плодов труда нашего нам не достигнуть Америго! Мы держимся нам подобных на Корабле, только сплоченными мы доберемся до Америго! Мы изучаем писания и творения рук Создателей, но не ублажаем праздное любопытство, сбивающее нас с пути к Цели! Избавимся от сомнения, и не придут к нам праздные мысли! Мы терпеливы, благоразумны и усердны! Создатели не оставили нас на гибель в Океане, и мы благодарны им! Создатели дают нам пищу и воду! Создатели посылают светила и стихии, и разразится дождь, когда иссохнет плодородная почва острова, и выйдет солнце, чтобы тянулись к нему растущие стебли! Мы празднуем двенадцать дней каждого года, восхваляя Америго и его жителей, которые примут вскоре Корабль наш и всех нас!
Дети с недоверием смотрели на него, удивляясь его выразительной мимике и странным взмахам рук. Однако торжественный раскатистый голос подчинял их нисколько не хуже ремней – так что многие замирали, ожидая новой пламенной тиады. И все же, пока учитель переводил дух, кое-откуда слышался неровный шепот, – но очередной его возглас безжалостно топил все перешептывания, заявляя исключительное право на присутствие под этим сводом.
– Я вижу на ваших юных лицах недоумение, и вам не нужно этого стыдиться! В первой главе Книги Заветов сказано: «Можно дать ребенку писания, как только он выучится ходить и связно говорить, но нельзя вселить в его сердце надуманный образ. Пассажир сам придет к осознанию, но его следует поддерживать, дабы он не низверг себя в синие пучины Океана». – Тут он вдруг хмурился, наклонялся к своим туфлям, сводя руки ладонями вверх, затем выпрямлялся, поднимая руки, точь-в-точь как скульптуры у входа; лицо его опять светлело, и он продолжал: – Посему, друзья мои, мы с вами отправляемся в Парк Америго, где вы сами, без моих наставлений увидите, какая чудесная жизнь ждет вас впереди!
Услыхав непонятное, но грозно звучащее слово «низверг», ученики съеживались от страха, некоторые начинали кривить губы и тереть кулаками глаза. Но тревога сменялась воодушевлением, когда учитель заводил речь о Парке. Родители уже говорили им об этом месте – много и увлеченно рассказывали о лучшем, самом приятном и радостном времени жизни человека на Корабле.
Парк Америго находился в центре Корабля и не принадлежал ни одной из палуб; творцы не указали в своих писаниях, кто должен им распоряжаться. И все же это место было прекраснейшим на Корабле – Парк, как это ясно из его названия, был символом острова Америго. Он располагался ниже палуб; внизу его окружал широкий ров с водой, символизирующий прибрежные воды, а сверху, на всех четырех палубах – внушительная каменная ограда.
Учитель, нагруженный большим мешком с некими тяжестями, и его ученики подходили к укромной маленькой площади, отыскивая ее в путанице проходов и переулков. В старинной стене, отделяющей центр от этой площади, возвышались ворота в форме арки. С каждого боку на арку опиралась белая мраморная статуя творца. Один сжимал в свободной руке горсть гладких белых камней, другой держал на вытянутой ладони раскрытую книгу, похожую на птицу, готовую взмахнуть мраморными крыльями и оторваться от статуи.
Под аркой становилось слышно, как миролюбиво плещет вода во рву. Учитель отпирал ключом ворота; стоило теперь сделать два-три десятка шагов вперед – и мостовая обрывалась.
Дети боязливо спускались по ступенькам крутой деревянной лестницы, а учитель не переставая подбадривал их; когда же первые пары башмаков касались твердой земли, воздух сотрясали радостные вопли. В Парке не было ничего того, что они привыкли видеть на палубе – ни мощеных дорог, ни безмолвных зданий, ни занятых взрослых. Вместо этого чуть поодаль от берега, усыпанного камнями и песком, их встречало множество хвойных и лиственных деревьев, сквозь кроны которых проникали теплые солнечные лучи; буйно разросшиеся кустарники тут и там скрывали землю, и вся эта картина, хоть и чужая, но все равно манящая к себе, дополнялась неслаженным пением птиц, настоящих птиц!
Дети бросались кто куда, забыв о присутствии учителя. Кто изучал муравьиные поселения, кто пробовал поднять с песка массивные камни под одобрительный рев новых друзей, другие швыряли в воду мелкие камешки, безумно радуясь каждому всплеску… Парк бурлил незнакомыми и живыми запахами, звуками, цветами, но самое удивительное заключалось в том, что детям вскоре начинало казаться, будто никакого Корабля нет и никогда не было, будто не существовало ни домов, ни улиц, ни переулков, не было фонарных столбов и стеклянных витрин, больших и маленьких окон, тесных комнат и огромных залов, потолков – высоких и низких. Каждый, кто сходил на землю в этой пространной впадине, видел свою наивную историю о том, кто здесь живет и как сюда попал, что еще плывет рядом с ним по небу и что делается далеко внизу, а главное – что там, за деревьями, за густой листвой и колючими ветками! Многие немедленно отправлялись выяснять настоящий ответ на этот вопрос. Большинство из них сразу же отступали с криками и смехом, но находились и те, кто, невзирая на ссадины, пробирался дальше. Если кому-то удавалось отыскать какую-нибудь неприметную лужайку, тот с еще большей уверенностью мчался назад, и когда достигал берега, то, отдуваясь, с раскрасневшимся лицом сообщал остальным потрясающие вести. Все они дружно сочиняли продолжения для своих историй, рисуя тонкими сухими палочками на песке, как на бумаге, все новых и новых обитателей таинственного леса.
Учитель, пользуясь тем, что его воспитанники очарованы Парком, без устали сновал между группами и восклицал:
– Возрадуемся же тому, что уготовили нам творцы Корабля! Восхвалим же мудрость их и дадим жизнь их прекрасным образам в наших сердцах, возродим тысячелетнюю любовь к Америго!
Но его уже никто не слушал, и учитель смиренно улыбался, прощая детям свойственную их возрасту беспечность ума. Он брался за свой мешок, приваленный к стволу какого-нибудь прибрежного дерева, и постепенно опустошал его. Расстилал на берегу просторный квадрат холщовой ткани, потом вынимал из мешка свежие фрукты и овощи и раскладывал их на холсте. Завидев это, дети приходили в восторг. Всей гурьбой они нападали на яблоки, груши и сливы, томаты, свеклу и перец, а учитель, искренне восхищаясь этой картиной, начинал опять кружиться над едоками и рассказывать им о бесконечном обилии и разнообразии плодов острова Америго.
Вдоволь набегавшись, он сам садился куда-нибудь на мягкую траву и принимался вертеть в руках круглый камешек, время от времени подбрасывая его в воздух. Через несколько минут им овладевала дремота – и он поддавался ей, удобно расположившись на втором куске холста. Он мог не опасаться того, что его подопечные заблудятся в дебрях леса. Не так далеко от берега начинались непролазные заросли, сквозь которые никто не сумел бы пробраться; там пропадало солнце, там лес становился темным, холодным и как будто враждебным, и у детей не было особенного желания уходить еще дальше. Большую часть времени они оставались на берегу и чувствовали себя там превосходно.
Ближе к концу дня учитель просыпался и открывал ворота Парка; за воротами ждали родители, освободившиеся от службы. Утомленные, но чрезвычайно счастливые ученики возвращались домой, и на этот раз обходилось без всякого шума: дети были благодарны родителям.
Теперь они самостоятельно вскакивали на следующее утро, с необычайной быстротой уничтожали завтрак – и чуть не бегом бросались в Школу. Родители едва поспевали за семенящими башмачками, боясь, что их чада по ошибке завернут в какое-нибудь солидное собственническое заведение и снесут всю тамошнюю утварь.
Опасения эти были напрасны – дети легко вспоминали дорогу. Юноши и девушки на входе снова приглашали их в аудиторию, и на сей раз приветливые лица уже не казались обманом – как и сама Школа. Дети охотно следовали за ними, потом шумно, толпой захватывали скамьи, сражаясь за близкие к статуям Создателей места… Сегодня фигуры и картины интересовали их еще больше, чем на первом занятии. Это был благодарный интерес – и предвкушающий.
Появление учителя встречалось уже возбужденными выкриками. Тогда он опять поднимал руку, устремляя свой непреклонный взгляд в глаза каждого ребенка, – и все до единого переставали кривляться и вопить. Убедившись в своем превосходстве, учитель как бы с неодобрением качал головой, делая вид, что его удивляет поведение учеников. Он поворачивался к ним спиной и начинал нагибаться к ступням и воздевать руки к своду.
Дети наблюдали, как опускается и поднимается его спина, и это пугало их, они думали, что рассердили его своими воплями и теперь никто не даст им порезвиться в желанном Парке. Повторив эти странные движения несколько раз, учитель, не оборачиваясь, поправлял свою длинную блузу. Смирившиеся ученики сидели в полной тишине, понурив головы; они с грустью вспоминали одинокие дни в родительском доме.
Учитель, однако, долго не сообщал о своем решении. Когда он показывал наконец лицо, оно светилось – прямо как у людей на живописном своде, – и он привычно начинал сгребать руками воздух. Ученики недоуменно следили за его жестами…
А учитель глубоко вдыхал и переходил к уже знакомой тираде.
– Мы – пассажиры чудесного Корабля, и Создатели несут нас по небу к нашей Цели – земному острову Америго!..
В его лице уже не было никакого упрека, – но все равно дети слушали его с беспокойством; к тому же из речи им было ясно не слишком много – не больше, чем в первый день. Но на этот раз самые сообразительные отчетливо замечали, что учитель то и дело указывает рукой на статуи из папье-маше, и невольно переводили взгляд с человека в темной блузе на занятные фигуры в ярких одеждах. Остальные дети, увидев, что друзья отвечают на непонятные слова учителя, спешили повторить все за ними – никто не хотел остаться в стороне и, чего доброго, разгневать его по-настоящему. И вот ученики как один смотрели на Создателей, – а учитель с улыбкой завершал выступление.
– Идемте же в Парк, юные пассажиры Корабля! – восклицал он, жестом призывая их встать со скамей и пройти к дверям.
Дети срывались с места, вмиг избавившись от всякой робости, и теперь усмирить их уже не мог никакой учитель – и это было бы совершенно ни к чему! Скоро Парк Америго опять принимал юных гостей, окутывая их мягким светом и запахом листвы, даруя новые и новые откровения! Опять они штурмовали лесные дебри, возвращались на берег и возились на песке, а учитель твердил им свои надоедливые заклинания, внушающие любовь к Кораблю, острову и Создателям, и потчевал их вкусными фруктами, на которые дети набрасывались все с той же непритворной жадностью.
Итак, в первые двенадцать дней обучения в Школе от детей требовалось только выслушать замысловатую, но краткую проповедь, – после чего они могли отправиться в Парк и найти там все то, что было недоступно на палубе. Позднее же другие учителя начинали пускать туда учеников постарше, и следующего приключения приходилось ждать больше двух месяцев. В эти дни, когда оканчивалась речь о Заветах, родители забирали детей обратно. Два месяца в домашних стенах – и немудрено, что дети невероятно изводились там, все меньше думая о книгах с игрушками, все больше – о друзьях и Парке. Они не могли понять, зачем умный и справедливый учитель позволяет кому-то другому так надолго занимать их любимое место. Но когда наконец подходила очередь и новые двенадцать дней, радости их не было предела.
Благодарность к учителю росла с каждым занятием; многие ученики теперь слушали его даже в разгар веселья в Парке. Некоторые продолжали перечить ему только из здорового интереса, – но скоро они тоже переставали упрямиться, увидев, что друзья уже не одобряют их праздное упрямство.
Конечно, Уильям был среди этих детей. Он рос тихим и послушным ребенком; он быстро съедал любой завтрак, вполне довольствовался своими книгами, не противился поступлению в Школу и вообще не доставлял приемным родителям лишних огорчений. В Школе он не смеялся над несчастными, которым связали ноги и руки, не обсуждал мимику учителя, не проявлял нетерпения и молча слушал громогласные наставления. Другие дети тут же сообразили, что в Парке с ним много тайн не отыщешь, и не брали его ни в одну команду по исследованию.
Мальчик не умел всерьез обижаться и принимал такое отношение как должное. Он садился под одним из прибрежных деревьев и колупал пальцами его кору, пугая муравьев, потом подходил ближе к воде и раскапывал в песке разноцветные гладкие камни. Лезть в чащу в одиночку он сперва побаивался, но со временем осмелел и мало-помалу начал прорываться вглубь. Это было непросто, больно – ужасно больно! Но он понимал, что более интересного занятия ему здесь уже не найти, и не оставлял своих незадачливых попыток.
И вот спустя несколько месяцев незаживающих царапин, ссадин и синяков – в конце апреля следующего года, на пятый день четвертого выхода в Парк – Уильям сумел кое-чего добиться: он сам обнаружил небольшую полянку, уйдя далеко от берега – так далеко, что глухие заросли расступились, как если бы угрюмый лес наконец признал все его старания.
Там слышно было бойкое чириканье птиц и стрекот невидимых насекомых. Там высилась густая трава в половину его роста – никто еще не успел вытоптать ее вдоль и поперек, – и прошло какое-то время, прежде чем он заметил маленький пригорок. На его склонах росли миловидные синие цветы, источающие необыкновенный, ни на что не похожий аромат, и когда Уильям не без труда взобрался к ним, то захотел сорвать один цветок, чтобы отнести домой на палубу. Подумав немного, он нарвал целый букетик и, неловко сжимая стебли, побежал назад. Обратная дорога показалась совсем не такой тяжкой и изнуряющей – даже приятной. Он был так горд и возбужден, что не пытался запомнить все ее хитросплетения; все мысли были только о том, как будет счастлива вдохнуть этот запах его мама.
Но когда он, растрепанный и запыхавшийся, выскочил на берег Парка, ему на макушку неожиданно опустилась сильная, властная рука, заставив его превратиться в крошечного, вкопанного в песок истукана. На его беду, учитель именно в тот день бодрствовал после полудня и зорко следил за озоровавшими детьми. Уильям не боялся его, как большинство учеников и учениц, но тут в первый раз ощутил запоздалый страх перед грядущим наказанием.
– «Мы изучаем писания и творения рук Создателей, но не ублажаем праздное любопытство», – с унизительной ласковостью произнес тот, кому принадлежала рука. – Наступил важный день, мальчик, ибо эти слова перестанут быть для тебя пустым звуком. Друзья мои! Ученики! Наше занятие будет продолжено! – громко обратился он к суетящимся неподалеку детям, не выпуская темноволосой головы мальчишки.
Едва ли кто-то откликнулся бы на этот призыв так скоро, если бы задержан был не Уильям. Один из детей мельком увидал его длинные прядки и немедленно оповестил остальных. В мгновение ока они сплотились толпой перед учителем – всем не терпелось узнать, что же он будет делать с этим странным одиночкой. Уильям почувствовал на себе столько злорадных взглядов, что по его пухловатым, измазанным землей щекам впервые покатились слезы бессильной обиды.
Учитель, польщенный таким вниманием к своей персоне, несколько раз встряхнул свободную руку, готовясь к выступлению. Уильям дрожал и шмыгал носом, то и дело пытаясь вырваться; он так жаждал убежать обратно в лес и исчезнуть там – укрыться где-нибудь в тени, чтобы его никто никогда не нашел, – что не видел уже для себя никакой другой Цели! Но учитель держал его крепко.
– Известно ли вам, что в руках у вашего друга? – При слове «друг» в толпе пронесся ехидный смешок. – Эти Блага – творение Создателей нашего чудесного Корабля! – Учитель сделал паузу и с недовольством оглядел учеников. – Но это не высшие Блага, не Блага Америго! Разве мы можем принять их здесь? Разве мы заслуживаем их теперь, когда мы не доказали еще благость намерений наших, верность нашей Цели? Америго есть та Цель, и терпение, благоразумие и усердие приведут нас к высшим Благам! Что такое Цель, когда ее вытесняют праздные желания? Что такое Благо истинное, когда мы выбираем ложные блага? Что такое вечные утехи, когда предаемся мы утехам преходящим?
Лица детей все больше и больше вытягивались в разочаровании: они никак не ждали того, что столь заманчивое начало превратится опять в заумное нравоучение. Учитель, решив, что его никто не понял, расплылся в улыбке.
– Не стыдитесь, друзья мои, – снова заговорил он, прижимая к себе Уильяма; тот все извивался и морщил губы и нос, стараясь не плакать. – Не стыдитесь, что вам не ясны слова! Стыдитесь праздных мыслей! Я мог бы отпустить вашего друга к отцу и матери, я мог бы позволить ему сохранить цветы у себя. Но задумайтесь! Что будет, если человек захочет пользоваться Благом, не заслужив его? Оно станет собственностью пассажира, рассеивающей его мысли, порождающей в нем праздные сомнения, сбивающей его с верного пути! Каждый, кто проявит такое праздномыслие, вскоре скажет: «К чему мне трудиться? К чему мне служить на благо общества? К чему мне Америго?»
Тут и глаза расчувствовавшегося учителя наполнились слезами; он звучно сглотнул и, словно сжалившись над Уильямом, ослабил хватку, и даже погладил его по волосам… другой рукой стиснул его плечо, чтобы тот не подумал, что настало время удрать.
– «К чему мне Америго, если Блага и без того принадлежат мне в изобилии? Зачем мне труд, если мне можно спуститься в чудесный Парк и разграбить его?» – с горечью в голосе продолжал он. – Несчастен тот, кем овладевают такие мысли! Ужасные воды Океана поглотят его навеки!
До детей дошло наконец, что Уильяму удалось найти что-то особенное, совершенно необыкновенное, недоступное им, и теперь – наравне с презрением – их охватила жуткая зависть.
– Вы не ослышались, друзья! – неистовствовал учитель. – Корабль однажды видел его кошмарные пучины, и горе тому заложнику праздности, кому доведется узреть их своими глазами! Не примет его остров Америго! Не найдут его высшие Блага и наслаждения! Не познать ему вечную радость!
Дети перестали шушукаться, почуяв угрозу; их зависть тотчас угасла. На берегу Парка стало очень тихо. Только певчие птицы в лесу, прежде заглушенные толпой, не могли умолкнуть, – но людям не было до них никакого дела. И меньше всех это пение заботило учителя, который выдвинул пленника вперед, налегши на его плечи, – словно для похвалы за какой-нибудь образцовый поступок, – и вновь начал говорить, сдержанно и ясно:
– Слушай меня внимательно, маленький пассажир, ибо сегодня я – твой Господин, моими устами тебя наставляют Создатели. Верни цветы на место, где украл их! Верни сейчас же, и не вздумай ослушаться своего учителя, иначе не сойдешь на этот берег завтра!
И он резко выпустил Уильяма. Тот от неожиданности зашатался и, чтобы не очутиться на четвереньках, поспешил сделать несколько неуклюжих шагов по направлению к толпе. Ученики захихикали и опять зашептались; они остались довольны тем, что учительский гнев в конце концов настиг не их стриженые головы, а зарвавшегося лохмача. Уильям отвел глаза, чтобы не видеть восторженных лиц, и немного потыкал носком башмака песок, и оценил размер и глубину появившихся ямок: он ждал мгновения, когда все – и учитель тоже – отвернутся и можно будет спокойно, без слез, нырнуть в заросли. Увы, дети не торопились расходиться по своим делам – как же, тут еще было на что посмотреть! Тогда мальчик решил проверить цветы; удивительно, но их ломкие стебли не пострадали, только малость наклонились вбок. Вспухшие глаза продолжали избегать кого бы то ни было – чего бы это ни стоило.
Учитель глядел на него в упор, недоумевая, откуда взялось такое возмутительное пренебрежение к его призывам, а когда тот повернулся уже с послушным намерением двинуться назад к стене деревьев, вскинул правую руку.
– Спасайся, мальчик, спасайся! Отвергни зов праздного искушения!
Тут Уильям поднял глаза – и встретил суровый, не знающий пощады взгляд, осуждающий его, подавляющий его; он не успел включиться в игру, но уже проигрывал! И снова навернулись слезы, а взгляд еще привязывал его к себе, хотя застывшая в воздухе рука приказывала бежать опрометью в лес!
Взгляд велел ему обернуться к толпе.
И Уильям так и поступил.
Множество смеющихся, торжествующих глаз, устремленное на его всклокоченные волосы, на грязные и мокрые щеки, на потрепанный белый пиджачок и испещренные обрывками листвы чулки, смяло его окончательно. Он пискнул раз-другой, потом часто засопел и захлюпал носом, и скоро это уже напоминало настоящий рев. Учитель, хотя и не смеялся, не выражал ни тени сочувствия, а лишь вытягивал руку – словно высокая статуя у школьных дверей.
Уильям, конечно, мог бы и улизнуть сейчас домой, чтобы им больше не было так весело, но ворота Парка были закрыты. И дома его никто не ждал; мама, даже если бы возвратилась раньше, немедленно заставила бы объясняться, – а ведь она так рада тому, что он здесь, в Парке! И герр Левский, отвечавший уже на робкие возражения мальчика назидательными оплеухами, вдруг издал у него в голове такой оглушительный рык, что Уильям перестал слышать собственные всхлипывания. Пропал и хохот детей, и он бросился бежать изо всей мочи в лесную гущу.
Остановился он только тогда, когда сердце готово было выпрыгнуть из груди. Отдышавшись, он осторожно положил цветы на пенек и потер онемевшую ладонь. Огляделся: его окружали молодые лиственницы, вовсе не похожие на раскидистые пожилые дубы, через корни которых он переступал с опаской, пробираясь сегодня к полянке. Ну конечно! Он так спешил, что пропустил нужную тропинку, которая должна была оборваться совсем по-другому…
Где-то в отдалении громыхнуло: надвигалась апрельская гроза.
Книжный Америго повидал немало стихийных испытаний: случались на нем и дожди, и грозы, и ураганы, и наводнения, и даже землетрясения. Но жители острова умели с ними справляться. Люди прятались от дождя, града и бури в уютных и прочных домах. Дома строили там, куда не могла добраться река, вышедшая из берегов, и защищались от молний хитрыми изобретениями. Другие бедствия приходили редко и по большей части в далекие, пустынные, никем не обжитые места. Волшебные существа, в особенности те, кто умел летать, быстро бегать и высоко прыгать, зарываться в землю или превращаться во что-нибудь этакое, непогоды не боялись. Им любой дождь был нипочем: они не знали болезней, а некоторые вовсе даже не ощущали холода или не могли промокнуть.
Уильям поначалу тоже чувствовал себя в лесу довольно храбро. Но теперь, когда четыре крупные капли одна за другой ударили его в лоб и мгновение спустя смешались в одном потоке с еще не высохшими слезами, мальчик по-настоящему испугался.
– Дождь, уходи, во имя земли и неба! – пролепетал он, надеясь воспроизвести какое-то заклинание из сказки. Взамен он получил еще несколько холодных капель и едва не взвыл от раздражения. На берегу Парка дождя не бывало, но в неведомой глубине леса остановить его было нельзя!
Он весь остаток дня скитался по лесу, разыскивая полянку – но тщетно. «Какой же большой этот Парк! – со страхом думал он. – Как будто больше, чем целый Корабль!» Он несколько раз натыкался на тропинки, протоптанные чьими-то башмаками, и это означало только, что он идет не в ту сторону – скорее всего, назад. Чтобы совсем не расстроиться, он время от времени вдыхал запах синих цветов – понемногу, лишь бы не истратить его зазря.
Кроны деревьев худо-бедно укрывали его от дождя, но от холода спасения не предвиделось, и бедняга Уильям совершенно продрог. Он с трудом ковылял по размокшей траве, сам не зная куда, окончательно сбившись с дороги.
Набредя на редкий просвет, он уже хотел упасть наземь и заснуть навсегда среди черных коряг и гнилых пней, лощенных водой, – когда ему вдруг показалось, что сквозь злобный шелест кустов и завывания ветра в вышине упрямо пробивается еще один странный, неотчетливый звук.
– И-и-и… а-а-а… И-и-и-и-и-и… а…
Он сперва подумал, что это кричит какая-нибудь птица или древесный житель, и задрал голову. Тут же на его гримасу обрушился град ледяных капель, и он пожалел, что проявил праздное любопытство. Крик между тем продолжал буравить чащу с завидным упорством.
– И-и-и-и-и-и а-а-а-а-а-а…
Уильям потер глаза кулачком, подобрался к ближайшему кустарнику и повернулся вокруг своей оси, пытаясь уловить, откуда исходит звук. Но у него это не вышло, и тогда он, удрученный, все равно опустился на мерзлую землю и, лежа на боку, не выпуская из рук стеблей, начал забываться; даже крик поутих, против воли готовый сдаться вместе с ним.
Много ли нужно, чтобы пересилить человека? Всегда ли ничтожность и глупость значат неминуемый конец?
«Нет никакого Корабля, – сказал себе мальчик в последнюю минуту. – И мамы – нет! И меня, – он всхлипнул, – нет… Нет меня».
Эта мысль должна была убить его, но здесь, в Парке Америго, благодаря ей произошло нечто совсем противоположное.
Дождь заглушил таинственные звуки, но Уильям вдруг понял, что на самом деле знает, куда идти. И как это он не мог сообразить? Живо вскочил на ноги, едва не уколовши глаз острой веткой терновника. Провел ладонью по лбу и щекам, затем кинулся бежать. Он мчался и мчался вперед, пока опять не донесся из-за деревьев крик – куда более явственный, чем прежде.
– Уи-и-и я-я-я-я-я…
Что-то знакомое почудилось Уильяму в крике, и это подтолкнуло его. Он теперь без труда разбирал дорогу: крик звал его к себе, вел его по непроходимым зарослям, словно по обыкновенной тропинке вблизи берега. Он не задерживался ни на миг – и скоро уже ясно слышал человеческие вопли, вопли ребенка! Тонкий, чистый, как воздух после грозы, голосок изо всех сил стремился к нему!
– Уи-и-и-и-и лья-я-я-я-я-я-я-я-ям!
Да, это было его имя! И ничье другое! И потом, кто бы еще посмел забраться в такие дебри?! Никто другой! Никто!
Но разве этот крикун не опередил его?
– Уи-и-илья-я-ям!
– Я зде-есь! – завизжал мальчишка. – Кто ты? Я не вижу тебя!
Дождь в конце концов прекратил наступление, и немного прояснилось; лес стал гораздо реже и теплее, и Уильям почувствовал, что бывал в этом месте – вот чудной куст, похожий на карамельную шишку (мама иногда украшала ими пироги), а вот ямка с листьями, которые теперь плавали на поверхности воды. Он узнал ее – сегодня он уже угодил туда и едва не вывихнул при этом ногу, давно, когда только возвращался на берег!
И тогда он выскочил на – ту самую! – поляну.
На пригорке, том самом, где росли злополучные синие цветы, сидела девочка в светло-синем платье, мокрая от макушки до пят. Глядя на нее, Уильям замер. Она была очень милая – такая милая, насколько он мог себе представить. Ее влажные каштановые волосы спускались до середины шеи, хорошенькое, округлое, чуть курносое личико сияло – в откуда ни возьмись выплывших запоздалых солнечных лучах. Забытая всеми, нищая, невоспитанная, но живая принцесса! Она смотрела на него глазами непонятного цвета – и он сам таращился на нее во все глаза.
– Уильям! – лукаво повторила она, уже совсем негромко. – Уильям!
– Я не… я не знаю тебя, – запинаясь, произнес мальчик, который не смог придумать ничего поумней.
– Врун! – с явной обидой в голосе бросила девочка; поднялась с пригорка и трусцой побежала в чащу, сверкая босыми пятками. Изодранное, запачканное синее платье с короткими рукавами трепетало и брызгало на ее худеньком теле, словно волнующийся Океан.
Уильям вышел из оцепенения, но еще немного поколебался.
– Э… но… я… Куда же ты? – нерешительно позвал он ее; потом все-таки сорвался и побежал вслед. Но, как он ни старался, не мог отыскать беглянку ни за деревьями, ни на деревьях, ни в громадных папоротниках, ни в пушистом можжевельнике. В спрятанном за опрокинутыми стволами овраге, куда он едва не полетел кубарем, ее тоже не было. И Уильям, конечно, начал думать, что она ему примерещилась.
«Размечтался, – обругал он себя. – Хорошо только то, что теперь можно вернуть цветы на место».
И когда он обернулся с надеждой, что не забрел со своими бесплодными поисками чересчур далеко, голос запальчиво крикнул ему прямо в ухо:
– Это я – здесь! А ты?
Уильям перепугался не на шутку – еще бы, ведь он уже смирился с мыслью, что тут никого на самом деле нет! Он снова начал вертеть головой во все стороны – и снова никого не разглядел среди теней.
– Ты правда думаешь, что меня здесь нет? – спросил голос.
Уильям зажмурился; в тот же миг кто-то тронул его за плечо.
Открыл глаза – и вот она, кажется, прямо перед ним!
Ничего не сказав, она схватила его за руку и увлекла за собой. Уильям не поспевал за ней, все время заплетая ногами, и пытался при этом как следует ее рассмотреть; он подумал, что в ее облике что-то переменилось. Когда оба выбежали на поляну, которая еще кое-как освещалась вечерним заревом, он понял: платьице осталось таким же мокрым, хоть выжми, и грязным, но на нем теперь не было ни единой прорехи! Он разинул рот и издал какой-то замысловатый звук – то ли «а», то ли «о».
– Ну и чего тебе опять не так? – возмутилась она и отпустила его. – Хочешь, чтобы я ушла?
Уильям уставился на ее сморщенный курносый носик.
– Нет, – наконец вымолвил он. – Не хочу.
– Вот то-то же, – с победным видом сказала девочка и протянула свою маленькую бледную руку. – Я – Элли. Нет, ты и так знаешь мое имя, – спохватилась она и отдернула руку, обдав его теплыми брызгами.
Уильяма это отчего-то начинало забавлять, и он не стал возражать ей.
– Я вижу, ты мало бывал в Лесу, – продолжала Элли деловито.
– Он называется Парк Америго.
– Мне все равно, как они его называют, – отмахнулась она.
– Они? – изумился мальчик. – Но разве ты не…
– Не волнуйся, – успокоила его Элли. – Они обо мне и не слыхивали. В отличие от тебя. Ты-то знаешь. Уже знаешь.
Уильям принялся перебирать в уме всех увиденных им за восемь месяцев девчонок, но так и не припомнил ни одной, которая хотя бы отдаленно походила на Элли. Может, она все же была в толпе учеников, увязалась за ним, следила откуда-нибудь из зарослей, а когда он ушел с цветами, осталась ждать? Но зачем? И почему она так странно одета – ни чулок, ни жакета, ни школьной юбки, ни даже длинных рукавов? Почему ее единственная одежка не белого цвета? Почему так праздно распущены ее волосы? Точно сказать он не мог. Погруженный в раздумье, он опять обмяк и разинул рот, и это порядком рассердило Элли.
– Чего мы ждем? – взвизгнула она, вцепилась в его плечи и затрясла его что есть силы. – Вперед!
И они вновь отправились в глубины Леса. Теперь она не тащила его за собой, он сам плелся за ней, задевая башмаками торчащие из земли деревянистые побеги, уклоняясь от паутины и реющих перед лицом насекомых. Она то и дело оборачивалась узнать, не пропал ли он из виду, – будто это ей страшно было, что он ненастоящий и вот-вот испарится. Она ловко пролезала в тесные прощелины меж стволов и легко перемахивала через большие камни, а мальчик обходил их по кругу и часто останавливался, чтобы отряхнуться. Она бросала на него возмущенные взгляды, но сама не задерживалась, чтобы он совсем не раскис.
– А куда мы идем? – спросил Уильям и распластался на траве, потому что смотрел не себе под ноги, а на удаляющийся синий силуэт.
– А куда ты хочешь пойти? – откликнулась она.
– Я бы… – пробормотал Уильям и глянул на стебли цветов, которые все еще сжимал в правой руке. – Мне… Цветы! Надо…
– Хочешь про цветы? – Силуэт перестал скрываться и скоро превратился в обрадованное личико Элли. – Пойдем же!
Она даже помогла ему подняться и – опять забавно! – сама шустро отряхнула крупицы земли с его пиджака, лишь бы он не возился в одном месте понапрасну. Она живо обратила внимание на краденые Блага (мальчик их выронил от неожиданности).
– А где ты их взял? – спросила она как будто с небрежностью.
– М-м… – Уильям растерялся. – На нашей… на твоей, то есть я хочу сказать – на полянке.
Он поднял цветы и бесцеремонно сунул их ей под нос. Элли отпрянула бы в сторону, но ей тоже нравился этот запах.
– Эти цветы называются ирисы, – объяснила девочка. – Они совсем не обязательно синие – бывают еще и желтые, и белые, и фиолетовые…
Уильям навострил уши.
– Вообще-то на полянах растут не только ирисы, – продолжала она. – Сейчас покажу!
И снова пустилась в бег с бесконечными прыжками через лесные препятствия; Уильям задыхался, пытаясь не отстать.
Вначале она приводила его к местам поближе к берегу, которые были уже открыты менее упорными исследователями, и там они вдвоем утаптывали всю траву по новой. При этом Элли заботливо ограждала от его неопытного шага островки с разными цветами; он склонялся к ней, а она рассказывала всякие занятные вещи – что такое прицветники, и как путешествуют по воздуху семена, и какие листья, травы и корни едят здешние звери.
– Вот Лунный Цвет, – говорила она перед лиановым ковром, затянувшим одну сторону лужайки. – По ночам он не спит, потому что любит смотреть на луну. Сегодня луны не видно, но он ждет ее – что бы ни случилось! Утром он заснет, и в другом краю, далеко-далеко отсюда, очнется его сестра – Утренний Блеск, небесный цветок. Если осенью собрать ее семя… Как-нибудь мы с ней здорово позабавимся! А еще дальше, должно быть, живет другая полуночница, по имени – Лунная Слеза…
– Та, что может исполнить любое желание? – перебил ее начитанный Уильям.
– А чего тебе еще хочется?
Этот вопрос застал его врасплох.
– Все равно не выйдет, – подбодрила его Элли. – Этот цветок так умеет прятаться, что мне кажется, он просто выдумка. А тут – колокольчики и гвоздики, их, наоборот, так много, что даже искать не приходится. Колокольчики любят поспать, поэтому живут долго-долго!
– Что значит – колокольчики? – спросил мальчик. – И гвоздики? У моего отца в портфеле живут гвозди.
Услыхав его, Элли сделала кислое лицо.
– Не помню, откуда это взялось, – нетерпеливо проговорила она. – Колокольчики – это колокольчики, и все тут. А что это за гвозди? Они живые? Почему их так зовут? Они похожи на цветы?
– Не знаешь, – покачал головой Уильям. – А гвозди ведь важные штуки. На них держится моя полка с книгами…
Пришла очередь Элли раскрыть рот – и вскинуть тонкие брови, отчего ее непонятные глаза сделались будто напуганные. Но она не имела привычки замирать и заикаться от изумления и быстро опомнилась.
– Полка… – уязвленно проворчала она. – Кни-гами, пор-фе-ле… Что это за ненужная чепуха? Зануда!
Другую освоенную лужайку Уильям узнал – он набредал на нее в минувшем году. Кое-что там изменилось: какой-то озорник оставил на ветках куста клочок своей рубахи. Элли рассерженно скомкала лоскут белой ткани, размахнулась и запустила его прочь. В воздухе непослушный клочок распрямился и начал парить перед их глазами, раскачиваясь, словно подтрунивая. Уильям, завороженный, наблюдал за его полетом; Элли же явно не считала его таким прекрасным. Она подскочила к лоскутку, ловко ухватила его и отнесла куда-то в листву. Когда она вернулась, соскабливая ногтями землю с ладони, Уильям спросил:
– За что ты с ним так?
– Это принадлежало им, – гневно откликнулась девочка. – Я не хочу видеть их следы в Лесу. Они ужасные трусы и задаваки. Я ничего не могу поделать с тем, что они приходят сюда, но когда их тут нет, я не хочу о них вспоминать. Вот.
– Но ведь я – один из них, – поразился Уильям. – А меня ты позвала сама…
– Ты – вовсе не из них! Что ты говоришь такое, врун! – вскричала девочка и замотала головой. Ее волосы задорно трепыхнулись.
– А ты знаешь, кто я? – робко спросил Уильям, уже несколько сбитый с толку.
– Ты – хозяин этого Леса, – гордо ответила девочка.
– А ты тогда кто?
– Я – Элли!
Небо над Парком было в ту ночь грязноватым, но необычайно светлым из-за облаков – и ему почти не хотелось спать, да и Элли не давала ему задуматься о времени всерьез. Дома его отправляла в постель своим словом мама (а порой и отец был вынужден прикрикнуть и поработать загрубелой рукой, чтобы мальчик на опыте собственных ушей убедился в том, что книга или рисование может подождать до завтрашнего дня). Но в Лесу родителей не было, а Элли так удивительно от них отличалась, что Уильям подумал – может быть, она и вовсе не спит?
Девочка остановилась.
– Лиственницы, – коротко, но с обожанием сказала она.
Уильям слышал это впервые, но деревья были ему, конечно, знакомы. Здесь, правда, стояли уже пожилые лиственницы – внушительно высокие и неохватные, но по виду славные, и пахли они какими-то добрыми обещаниями. Мальчик и девочка приблизились к одной из них, одновременно запрокинув головы, а потом Элли, не говоря ни слова, поклонилась ей. Уильям щурил глаза, разглядывая среди перепутанных зеленых лап игрушечные темно-красные шишки.
– Я у них ночевала, – заметила Элли. – В День Самой Маленькой Совы с Оранжевыми Глазами и в День Белого Кролика. А теперь тут так сыро… Сегодня День и Ночь Воды. Мы еще вернемся! – громко добавила она.
«Все-таки спит», – сказал он про себя. А девочка побежала дальше, не оглядываясь, как будто забыв о своем спутнике. Уильям несколько отступил в другую сторону и задержался у того дерева, что спускало свой хвойный подол почти до земли. Но стоило ему дотянуться до крохотной шишки, и Элли тотчас ринулась назад.
– Вот еще! – строго сказала она за его спиной. – Она сама знает, когда их сбросить! Не обижай хорошее дерево!
«Какой же из меня обидчик?» – сконфуженно подумал Уильям и отвел руку.
– Тебе не больно ходить по Лесу вот так, босиком? – чуть погодя полюбопытствовал он. – Тут ведь кругом всякие колючки и камни. И вообще – меня бы, наверно, здорово отругали за грязные ноги.
– А мне это все нипочем, – пожала плечами девочка.
– Ты хочешь сказать, что тебе совсем не больно? – озадаченно спросил Уильям. – Даже если я тебя, скажем, ущипну? Вот так!
И он протянул руку к ее локтю, над которым развевался волнистый рукавчик синего платья, чтобы исполнить задуманное. Но Элли тут же его отпихнула.
– Глупый, – сказала она. – Если ты хочешь, чтоб мне было больно, так и будет. – И помогла встать рассевшемуся на лиственной подстилке Уильяму.
– Но почему я? Если я? – снова удивленно проговорил он, ища ее глаза в полумраке.
– Но это ведь – твой Лес!
– Мой? Я думал, это понарошку…
– Конечно, твой! – Она засмеялась и с вызовом тряхнула головой. – Пойдем дальше!
Она болтала и болтала о лесных обитателях, опять беспечная, а Уильям думал о том, куда же все-таки запропастились ее отец и мать и отчего они так себя повели. Он очень хотел это выяснить, но долго не удавалось; она не умолкала ни на минутку, словно только что выучилась говорить, но вот наконец решила передохнуть, и мальчик подал голос:
– А твои родители живут в Лесу, как и ты?
– Родители? Что за вздор? – с некоторой дерзостью отозвалась Элли. – Никогда не слышала такого. А кто это?
Пренебрежение и интерес сменялись в ней на удивление легко.
– Отец и… мама, – пожимая плечами, ответил Уильям.
Элли хмыкнула.
– Я ничего не поняла!
– Это люди, которые меня создали, как Корабль, – принялся объяснять Уильям. – Шесть лет назад… Скоро семь.
– Шесть лет? Что значит – шесть лет? Семь? – спросила девочка, почесав нос. – Я знаю лето. В этот край оно придет, как зацветет шиповник…
– Тебя не научили считать? – вытаращился на нее Уильям. – Много лет – это значит годы, а не лето. Год – это… Ты совсем не умеешь считать? Один, два…
– Для чего это? – опять простодушно спросила Элли.
– Ну, все сразу не вспомню, – признался Уильям. – Но это полезно. Можно считать время, можно сказать, чего больше, а чего меньше. Мне говорили, – замялся он, – потом надо будет считать и в Школе…
– В чем, в чем? А мне зачем?
На это у Уильяма ответа не нашлось.
– Скажи мне, когда вспомнишь, ладно? – миролюбиво попросила Элли и внезапно насторожилась. – Ой! Тс-с-с…
Невдалеке кто-то громко и злобно рыкнул. Из-за тесного скопления буков начал выползать странный запах.
– Кто это? Зверь? – отважно спросил Уильям. – Я такого видел в книге, его можно победить, если знаешь закли… Ай!
Он больно получил по шее беззвучным взмахом худенькой руки.
– Молчи! – прошептала Элли. – Сюда, скорее! Не то станем добычей!
Они перебрались в небольшую яму в нескольких десятках шагов и притаились там. Кисловато-горячий запах терзал ноздри мальчика, и ему страшно захотелось чихнуть. Элли это вовремя заметила и прикрыла ему рот ладонью. Он охотно потянул носом – девочка пахла куда приятней – и передумал.
Кто-то глухо и раздосадованно урчал; вместе с этим трещали старые опавшие ветки, все ближе и ближе… Девочка зажмурилась и с отвращением закусила губу. Она боялась заслонить собственное лицо – ерзать на сухой листве, устлавшей дно ямы, уже было крайне опасно. Уильям просто дышал безо всякого движения, но отчего-то думал при этом о самых несносных вещах – о странных улыбках матери по утрам и о жадных гостях, о вечно хмуром взгляде отца, о голоде и боли в животе, о жгучих потоках воды из облаков. И об учителе тоже! Маленькая и теплая ладонь Элли разом увеличилась, похолодела, охватила его голову, сдавила щеки, начала скользить по волосам твердыми пальцами, неубедительно пряча свои замыслы…
Он едва не завопил от огорчения, но сопротивляться, к счастью для них обоих, все же не стал. Бестия напоследок выругалась на своем наречии, а затем чрезвычайно быстр удалилась – и в этот раз даже не хрустнула ветка. Элли еще переждала минуту и выглянула.
– Мы свободны, – сказала она и отняла руку. Мальчик, однако, не шевелился. – Ну что ты?
«Мама… Что, если бы победили меня? А если меня можно победить, значит, я ничем не лучше злодея?» – подумал Уильям.
За это его крепко щелкнули по носу.
– Он ушел! А ты вовсе не такой трус, ясно?
Уильям нехотя вылез из ямы, стараясь не смотреть на свои чулки.