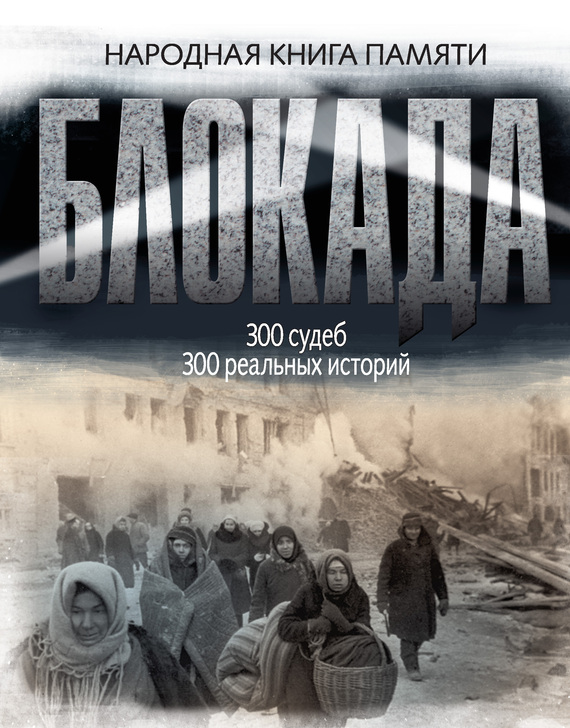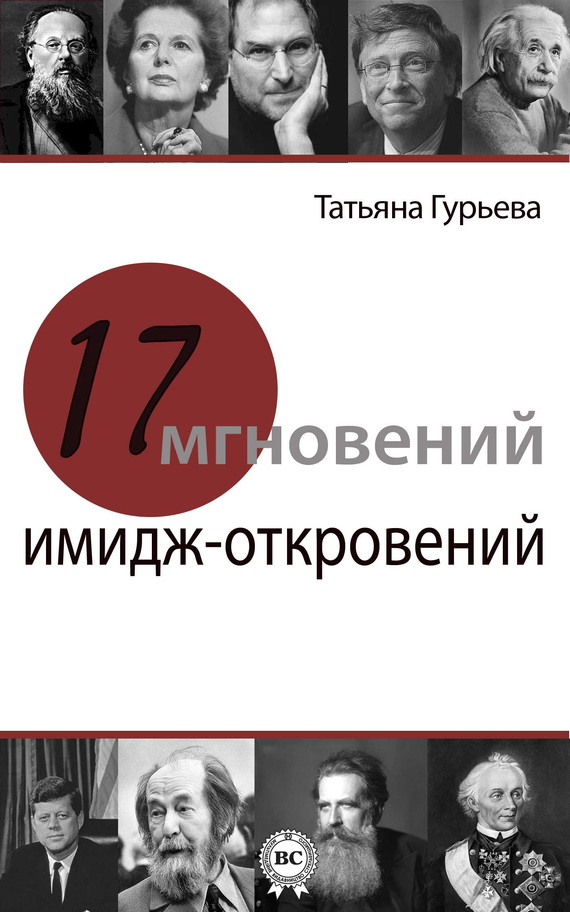Мои звери Дуров Владимир

— А мы всё-таки не пойдём смотреть вас сегодня, — говорили они. — Что-то страшно.
— Как хотите!
Перед спектаклем я, как всегда, отправился проверить, на месте ли сторожа. Цирк стоял в саду. В тёмном углу, у входа в конюшню, я заметил человека. Он метнулся в сторону и быстро скрылся за деревьями.
«Кажется, это Гребешков, — подумал я. — Впрочем, может быть, и не он».
Потом я занялся гримом, переодеванием и забыл о Гребешкове.
И вот я на арене. Показываю публике своих друзей. Дошла очередь до Мишки.
Михаил Иванович, как всегда, выполнял всё, что я требовал: он скользил по столбу, ходил по бутылкам, танцевал под музыку вальс. Номер подходил к концу.
Топтыгин должен был сесть в коляску, взять из моих рук бутылку с молоком, уехать на собаках на конюшню.
Тройка сибирских собак подана. Я подвёл Мишку к экипажу. Он сел. Я забросил цепь ему на спину и подал бутылку.
Вдруг Мишка нагнулся, открыл пасть и крепкими зубами вцепился в мою левую руку, немного ниже плеча.
Публика в ужасе закричала. Медведь, не выпуская руки, обнял меня и подмял под себя.
Служащие растерялись. Один из них бросился наверх, к музыкантам, и стал оттуда бросать медведю маленькие кусочки хлеба, будто птичке.
Публика заметалась по цирку. Все старались пробраться к выходу. Со всех сторон раздавались крики:
— Задавил!
— Медведь!
— Спасите!
Усатый городовой забрался на галерею. Там, наверху, он храбро размахивал своей шашкой. Нарядные, важные дамы сидели верхом на барьерах лож; шляпки их съехали набок; дамы кричали и плакали…
Медведь не отпускал меня. Один из артистов схватил на конюшне навозные вилы, ткнул ими сзади медведя. Впрочем, он тотчас же бросил вилы и убежал.
Медведь заревел от боли, оставил меня и кинулся в публику.
Моментально толпа очистила всю правую сторону цирка. Тогда медведь бросился влево.
Тут я поднялся. На мне был костюм из плотного шёлка. Зубы медведя не очень повредили мне. Я закричал что было силы:
— Успокойтесь! Займите места! Представление продолжается!
Я бросился к медведю и ударил его ногой. Он встал на задние лапы и медленно пошёл на меня…
Я пристально смотрел в его глаза. Я чувствовал: во чтобы то ни стало мне надо увести его с арены. Я пятился. Медведь шёл на меня. Я властно кричал:
— Алле! Алле!
Мой голос повлиял на медведя. Нам надо было с ним пройти через всю арену. Медведь явно выражал желание оставить меня и броситься туда, где слышались женские голоса и визг детей. Он особенным образом рычал, глотал слюну и косил тёмными глазами. Но я кричал:
— Алле! Алле!
Медленно-медленно я пятился к конюшне, медведь на задних лапах шёл за мной.
Наконец мы в конюшне. Под ногами — покрытые сеном доски; где-то рядом тревожно стучат лошадиные копыта. Я кричу ещё раз:
— Алле! На место!
И медведь, поджав уши, опускается на все четыре лапы и уходит в свою клетку.
Одним прыжком я подскакиваю к клетке и закрываю её. Тут силы покидают меня. Голова кружится. Я почти теряю сознание. Потом я прихожу в себя и только тогда начинаю чувствовать сильную боль в руке.
Почему же вдруг добродушный Мишка кинулся на меня?
Я нашёл около медвежьей клетки пузырёк. В нем были остатки чего-то красного. Я посмотрел: оказалось — кровь.
Так вот в чём дело! Гребешков решил отомстить мне за то, что я уволил его. Он достал живого голубя, зарезал его и голубиной кровью за час до выступления напоил медведя. Кровь сильно действует на зверей. Когда я дал медведю бутылку с молоком, он, наверно, вспомнил про кровь, и ему захотелось ещё. Он и кинулся на меня.
Потом мы с ним опять подружились. Он больше никогда не кидался на меня.
БОРЬКА И СУРКА
Теперь я расскажу о барсуках. Первые мои барсуки были пойманы около Астрахани. Их звали Борька и Сурка.
Борька стал отличным «артиллеристом»: он быстро научился стрелять из игрушечной пушечки. А Сурка умела перелистывать книги.
Но лучше всего были танцы барсуков. Особенно отличалась Сурка. Она ловко кружилась на одном месте, так что получалось нечто вроде вальса.
Иногда Борька и Сурка танцевали вместе. Они даже разучили первую фигуру кадрили: танцевали, стоя друг перед дружкой, потом отходили и снова сходились.
Жили они недолго. Однажды я собрался с ними на нижегородскую ярмарку, в город Горький, который тогда назывался Нижним Новгородом.
Мы поехали туда на пароходе. Барсуков и других зверей я устроил на корме, а сам сидел на верхней палубе, любовался берегами и простором Волги. Я задумался и не заметил, как ко мне подошел капитан.
— Я вижу, — сказал он, — вы везёте много зверей. Чем вы порадуете публику на ярмарке? Какой новинкой?
Я улыбнулся:
— Я везу двух барсуков. Они у меня образованные: перелистывают книги, чуть-чуть не читают. Кадриль танцуют.
— Интересно было бы с ними познакомиться, — сказал капитан.
Мне не хотелось отказывать капитану.
— Что ж, можно, — ответил я. — Сейчас я их приведу. Прошу любить и жаловать!
И я пошёл за клеткой.
Скоро клетка с барсуками стояла на верхней палубе, и капитан с любопытством рассматривал зверьков.
— Пускай они немножко погуляют по палубе, — сказал я и решил открыть клетку.
Тут случилось нечто неожиданное.
Едва только я приоткрыл дверцу клетки, как Борька и Сурка выскочили на палубу, бросились за борт и, прежде чем я успел опомниться, исчезли в волнах…
Пароход продолжал быстро нестись против течения. Капитан сказал:
— Мне очень жаль, что из-за меня погибли эти зверьки. Я готов остановить пароход, но ведь это бесполезно: ваши барсуки уже погибли.
Бедные Борька и Сурка! Они утонули! Я бросился в каюту, упал на постель и зарыл лицо в подушки. А пароход всё двигался вперёд и вперёд…
Через несколько месяцев я собрался на охоту в Голицыно, под Москвой. Со мной поехал мой большой друг и опытный охотник. Мы решили поохотиться на барсуков. Мой друг дорогой рассказывал мне о скрытной, одинокой жизни барсуков, о том, как трудно наблюдать за ними на воле.
— Барсук, — говорил он, — ночное животное. Большую часть дня он проводит в своей подземной норе.
Мы шли по лужайке. С нами была собака, фокстерьер, на цепи. Вдруг фокстерьер натянул цепь. Глаза его загорелись, уши встали. Он захрипел и стал рваться вперед, к опушке.
Мы увидели большой бугор.
— Там, в бугре, — сказал мой друг, — в песчаном слое, барсук устроил себе квартиру из нескольких комнат со всеми удобствами. Там есть общий зал, кладовая, главный — парадный, так сказать, — ход и четыре запасных. Всё это барсук вырывает своими крепкими кривыми когтями.
Мы спустили с цепи фокстерьера. Он тотчас же бросился в один из входов и ушёл под землю.
Мы притихли. Я лёг и приложил ухо к земле. Вдруг где-то там, глубоко, раздалось тявканье собаки.
— Нашла! — прошептал мой друг.
Мы стали быстро копать в этом месте. Копать было нелегко: то и дело попадались камни. Наконец мы добрались до песка.
Вдруг из другого входа, совсем не там, где мы копали, выскочил фокстерьер. Он был весь измазан землёй. Тревожно понюхав воздух, он обежал вокруг бугра и снова скрылся в одном из ходов.
— Пожалуй, теперь мы его не найдём, — сказал мой приятель. — Барсук, верно, успел зарыться в один из запасных ходов-тупиков.
Всё же мы продолжали копать. Наконец мы добрались до пустого места в песке. Образовалась дыра. Мы засунули туда длинную палку. Но тут мы услыхали лай совсем в другом месте. Пришлось эту яму бросить и взяться за новую. Работа шла медленно. Мы порядком устали. Грунт был твёрдый, то и дело заступ гремел о камни. Потом наступил вечер, стало темно. Пришлось прервать работу.
Так я и уехал в Москву ни с чем. Очень уж ловко прячутся барсуки…
Потом мне всё же удалось купить у одного охотника трёх маленьких барсучат. Они были ещё слабенькие: задние ноги у них разъезжались при ходьбе.
Я поместил их в клетку. Они свернулись в клубок и заснули. Я поставил им в клетку блюдечко с молоком. Утром посмотрел — молоко не выпито, блюдечко опрокинуто. Когда барсуки проснулись, я им дал хлеба с молоком, но они ничего не ели, а только все разбросали носами и лапками. Я налил в пузырёк молока, натянул резиновую соску и дал её барсучкам. Д они не хотят сосать, не умеют.
Так прошёл день.
На следующее утро я снова застал их спящими. Я опять стал кормить их тёплым молоком из соски. Наконец двое из них поняли, в чём дело, и принялись кое-как сосать. Третий же был совсем слабенький, не мог сосать и оставался без еды.
На третий день два барсучка, которые были посильнее, уже сами тянулись к соске и высосали по полстакана молока. А тот, слабенький, так и оставался лежать без движения. Как я ни бился, не мог его научить сосать. Так я кормил их несколько дней. Слабенький барсучок заболел, захирел и вскоре околел. А те два с жадностью набрасывались на молоко, ссорились между собой, ворчали, хрюкали.
В честь прежних своих барсуков я этих тоже назвал Борька и Сурка.
Борька был большой забияка.
Он прогрызал соску, нападал на Сурку, разливал молоко. В конце концов Сурка тоже заболела и погибла.
А забияка Борька до сих пор счастливо живёт у меня. Соску я ему больше не даю, а то он моментально её разгрызает. Сначала я давал ему хлеба с молоком, а потом стал кормить мясом.
Я познакомил его с собачкой Пепо. Они очень подружились. Когда Борьку выпускают из клетки, он убегает в сад и затевает игру с Пепо. Они долго играют.
Борька очень любит играть с собачкой. Но как только я его зову, он послушно возвращается в клетку.
Этот Борька легко научился делать то, что умел тот Борька, первый: он танцует, перелистывает книги. Но, кроме того, он ещё у меня вертит барабан, пристроенный к маленькой шарманке. Этой музыкой начинаются его выступления.
Потом я выучил Борьку вытаскивать ведро с водой из маленького колодца. Но лучше всего у моего Борьки получается кувырканье через голову. Дети в цирке очень любят смотреть, как Борька кувыркается на арене. Они кричат: «Бис! Бис!»
А Борька всё кувыркается и кувыркается…
ЕЖИ РУКАВИЦА И КАТУШКА
До меня ещё никто никогда не дрессировал ежей для выступления в цирке. Я купил двух ежей. Одного назвал Рукавицей, а другого — Катушкой. Поселился я с ними в гостинице. Ранним утром меня разбудили:
— Послушайте, хозяин ругается!
Я протираю глаза:
— Что такое? Пожар?
— Хозяин, говорю, ругается.
— За что ругается? В чём дело?
Передо мной служащий гостиницы. Он почесывает затылок и жалуется:
— Да всё насчет ежей ваших… И хозяин ругается, и гости обижаются. Вот и сейчас… не угодно ли послушать?
Я прислушался. За стеной раздавались визгливые женские голоса:
— Это невозможно! Я отсюда уеду!!! Какой-то свинушник, а не гостиница!..
— Слышите? — говорит служащий.
В дверь постучали. Вошёл хозяин гостиницы:
— Пожалуйста, освободите номер. Все гости обижаются из-за ежей! Терпеть, говорят, невозможно. Да после вас и номера никто не возьмёт вашего.
Я отвечаю:
— Но ведь я сделал всё, что вы требовали! Вычистил номер и даже купил на свой счёт линолеум.
Хозяин машет рукой:
— Они и новый мигом загадят, ежи ваши! Нет, как хотите, а съезжайте. Держать я вас больше не могу.
Пришлось нам с Рукавицей и Катушкой перебираться в другую гостиницу. Через день там повторилась та же история. Так нас гоняли с места на место.
Всё же мне удалось кое-чему научить ежей. Ежи в цирке — большая новинка. Я терпеливо добивался дружбы с этими живыми колючками.
Я ставил Катушку на стол. Она сразу — в клубок. Часами я сидел около Катушки и ждал, когда же этот колючий клубок развернётся. Вот наконец Катушка «разматывается». Она высовывает из-под игл носик и частыми шажками бегает по столу.
Я угощаю её сырым мясом — ежи его очень любят. Чтобы ей удобнее было его есть, мясо нарезано длинными полосками — червяками.
Катушка быстро хватает мясного «червяка» и с аппетитом начинает жевать, ни на минуту не выпуская его изо рта. Мне кажется, если бы я дал ей червяка длиной в метр, она бы и такого съела без передышки.
Я старался приручить Катушку к себе. Левой рукой я давал ей мясо, а правую руку то приближал к ежу, то убирал. Таким образом я знакомил ежа со своими руками. Всё шло хорошо. Вдруг ветром захлопнуло форточку. Катушка испугалась стука и моментально превратилась в шар из иголок. Попробуй погладь её!
Опять жду, когда Катушка «размотается»…
Я купил ещё нескольких ежей.
Каждое утро я выпускал их на длинный стол. Там они пили молоко и ели мясо. Потом я заказал для ежей искусственный грот с двумя пещерами. Из пещеры в пещеру вела дорога. Грот поставили на четырёх столах. Я распределил роли между ежами, выпустил их на стол и начал знакомить с новой декорацией. Ежи должны были переходить из одной пещеры в другую — то группами, то в одиночку.
Потом я решил из ежей сделать артиллеристов. На сцене появились лёгонькие игрушечные пушечки. Они были прицеплены к передкам, а передки были на двух колёсиках, с тонкими деревянными оглоблями.
Но вопрос: как запрячь ежей? Колючки ежей не чувствуют боли, так же как наши волосы или ногти, а привязать к ним ничего нельзя: они очень гладкие, и нитка с них соскальзывает. Я думал, думал и придумал. Сделал из сургуча маленькие крючочки, разогрел их на свече и прикрепил к иглам, а на крючки надел готовые петли и оглобли.
Сначала ежи фыркали, «ёжились», не хотели запрягаться, но потом привыкли и ловко возили пушки и зарядные ящики. Наша «ежовая артиллерия» выступала с большим успехом. Ярким светом залита арена. Электрическими лампочками освещены гроты. Из гротов выезжают с пушками «артиллеристы». Я объявляю:
— Неприятель, дрожи: едут с пушками ежи!
И публика смеётся.
Я показывал «артиллеристов» в разных театрах. Все шло хорошо до тех пор, пока мне не вздумалось высмеять одного князя.
Тогда в России был царь Николай II. Николай дружил с болгарским князем Фердинандом Кобургским. Про этого Фердинанда рассказывали разные плохие вещи. Однажды, глядя на портрет Фердинанда, я заметил, что у князя длинный, крючковатый нос. Я подумал: «У моей Катушки нос вроде как у Фердинанда — такой же длинный и Крючковатый. Вот бы хорошо выпустить её в роли болгарского князя!»
Я прицепил к иглам длинную сургучную саблю. Катушка с важностью прошлась по дороге из одной пещеры в другую.
Так она и выступала вечером — с саблей. Я представил Катушку публике:
— Вот Кобургский Фердинанд, не признанный в Европе талант. Его длинный нос бородавками оброс. Как займётся политическим вопросом, так остаётся каждый раз с носом!
Публика хохотала. Катушка действительно была похожа на этого князя. Но тут ко мне явился городовой и сказал:
— Вам за ваши глупые и дерзкие шутки навсегда запрещается показывать ежей!
Через несколько лет в России произошла революция, и я опять мог свободно выступать с ежами и другими животными.
ОБЕЗЬЯНА МИМУС
В Гамбурге я купил маленького шимпанзе. Обезьянку звали Михель. Покупая шимпанзёнка, я расспросил бывшего хозяина, как надо обращаться с Михелем. Хозяин сказал:
— С Михелем нужна большая аккуратность. Во-первых, не давайте ему ничего холодного. У меня он питался неплохо. Утром — какао с молоком. Через два часа — фрукты: бананы, груши, яблоки, виноград. Через два часа — опять фрукты. Часа в четыре — рис, а вечером — снова бананы и груши. Не давайте ему чернослива — расстроит желудок… Да, — вздохнул он, — шимпанзёнок забавный, даже жаль с ним расставаться. Он очень любит играть. Он всё подмечает у людей, повторяет и скоро будет заядлым курильщиком.
— А разве он пробовал курить?
— Пробовал. Правда, пока только в шутку. Сторож как-то бросил ему в клетку трубку. Михель подхватил её, и пошла потеха. Он стал носиться с трубкой по клетке, набил её сеном, совал в рот.
Но вот принесли клетку с обезьянкой.
— Михель! — позвал я.
Никакого внимания.
— Михель! Михель!
Михель не отвечает. Он сидит неподвижно. Но как только я приподнял решётку, Михель пулей выскочил из клетки и стал носиться по комнате.
С большим трудом я поймал обезьянку. У меня на руках она сразу притихла. Я показал ей банан. Она равнодушно отвернулась и стала с любопытством оглядывать комнату. Мы надели на шею Михеля ошейник с цепочкой. Шимпанзе стал рваться, хватаясь за мебель. Обратно в клетку Михель ни за что не хотел идти. Едва-едва удалось его туда посадить. Он кричал, упирался и защищался изо всех сил. Я опять стал его звать:
— Михель! Михель!
Он не шевельнулся.
— Какой он там Михель! — сказал я. — Он даже не знает своего имени. Надо ему придумать имя.
Я перебрал много имён: Джек, Том, Макарка… Всё это не подходило. Вдруг пришло в голову новое имя.
— Мимус! — крикнул я.
Обезьянка оглянулась, и я решил: пускай Михель будет Мимусом.
Теперь надо отвезти Мимуса в Россию. Как-то перенесёт он дальний путь? Я устроил его в багажном вагоне, в отделении для собак. Проводник затопил большую железную печь. Скоро собачье отделение нагрелось, и я был рад, что мой нежный и зябкий Мимус не будет мёрзнуть. Я поставил клетку, положил в неё матрасик, на матрасик — большой банан и сунул Мимуса за решётку. Он кричал, визжал и протягивал ко мне длинные руки. Но не могу же я ехать в собачьем отделении! Моё место — в пассажирском вагоне. Я побежал к себе. Колеса застучали. Бедный Мимус остался один, с бананом в утешенье.
Мимус поехал в Россию.
Ночью поезд остановился у маленькой станции. Я побежал к Мимусу. Темно. Где же он тут, в потёмках? Зажигаю спичку. На матрасике я вижу свернувшегося в комок Мимуса. Он спит. Рядом, у самого носа, — нетронутый банан…
Снова остановка. Утро. Я достал горячего чаю, налил в бутылку и пошёл к Мимусу. Ну и жарища у него в собачьем отделении! Видно, проводник перестарался.
Мимус беспокойно бегает по клетке. Он смотрит на меня и будто говорит: «Выпусти меня на волю, мне надоело сидеть в тюрьме!»
Я собрался напоить его чаем и достал из кармана бутылку. Вдруг раздался свисток, колёса загремели, поезд тронулся… Я остался в собачьем отделении, наедине с Мимусом.
Здесь очень жарко, с меня ручьём льётся пот, в висках стучит. Но ничего не поделаешь. До следующей остановки добрых полтора часа.
Я открываю клетку. Мимус начинает стрелой носиться по вагону. Наконец он усаживается в углу, зорко глядит на меня. Я протягиваю ему бутылку. Он пристально смотрит на неё, но ближе не подходит. Я подношу горлышко бутылки ко рту и глотаю чай. При этом я нарочно проливаю немного чаю на пол.
Мимус нюхает пролитый чай, тычется в него губами, трогает руками, лижет мокрые пальцы. Потом подходит ко мне и протягивает руку за бутылкой.
Я ему не даю. Я нагибаю бутылку, и чай снова льётся на пол. Мимус пьёт. Ему понравилось. Ему хочется ещё чаю. Он сильно ударяет ладонями об пол и потом с поднятыми вверх руками идёт на меня.
Вот он обеими руками ухватился за бутылку. Я сделал вид, будто не сумел её удержать. Он весело побежал с бутылкой по вагону. Не видя за собой никакой погони, он сел на пол, положил перед собой бутылку и стал внимательно смотреть, как интересно льётся из неё вкусный чай. Потом начал пить, прикладываясь то к луже, то к горлышку.
Наконец поезд замедлил ход — остановка. Надо быстро поймать Мимуса и посадить его в клетку.
Тут нам пришлось побороться. Он пустился наутёк, обхватив пальцами ноги горлышко бутылки. Я поймал его в углу. Вдруг его зубы впились в мою левую руку. Но я всё же усадил его в клетку вместе с бутылкой.
Мокрый, в испарине, я бежал вдоль всего поезда к своему вагону. Кругом ветер и снег. Я простудился. Совсем больной, я на следующий день бегал на остановках к Мимусу, поил его чаем, менял солому в клетке, сушил его одеяло у печки.
Так мы доехали до Москвы. Пока мы ехали, Мимус привык ко мне. Кроме того, он научился пить чай из горлышка бутылки. Чай навсегда остался любимым напитком Мимуса.
Я разыскал на чердаке высокий детский стульчик. Много лет сидела на нём моя дочь.
— Куда ты тащишь мой стульчик? — сказала она.
— На нём будет сидеть Мимус.
— Это что за Мимус?
— Шимпанзёнок!
Я показал ей Мимуса. Они познакомились.
— Мимус будет обедать с нами, — сказал я, прижимая к груди шимпанзёнка и поглаживая его по голове.
Мы сажаем Мимуса на стульчик, а цепь привязываем к спинке стульчика. Шимпанзёнок вскакивает и забирается с ногами на стол. Жена и дочь в ужасе:
— Он всю посуду переколотит! Он суп опрокинет на скатерть!
Я говорю:
— Сссс, Мимус, ссс…
Мимус соскакивает со стола и дергает цепь. Я снова усаживаю его на стульчик. Наконец он успокаивается. То и дело приходится поправлять его ноги. Трудное дело — сидеть на стуле! Сразу не научишься.
А Мимусу надо многому научиться. Жить среди людей не так-то просто: надо уметь правильно брать кружку с чаем, уметь справляться с ложкой и вилкой, есть аккуратно, не пачкая скатерти; надо знать много разных вещей.
Мимус встаёт в семь часов утра. До девяти он развлекается, бегая по комнатам. В девять часов он сидит за общим столом, рядом со мной, и пьёт сладкий чай. До двенадцати он резвится на диване, а в полдень — завтрак. Как видите, ему жилось у меня неплохо.
К завтраку — манная каша. Я даю Мимусу ложку. Он неумело схватывает её, поворачивает. Я поправляю и показываю, как нужно загребать кашу. Мимус беспомощно водит ложкой по тарелке. Потом он бросает ложку и берёт кашу рукой.
— Нельзя, Мимус!
Это ему не нравится. Я отнимаю тарелку. Мимус злобно кричит. Я кормлю его с ложки, потом снова вкладываю ложку в его руку.
В конце концов он стал есть ложкой. Сначала неумело и неуклюже, а потом научился ловко обращаться с ложкой. Он следил за тем, как бы не уронить кашу на скатерть.
С вилкой дело было сложнее. Мимусу всё не удавалось воткнуть вилку в яблоко или грушу. Он водил ею по фруктам, как ложкой, и мне долго пришлось поворачивать вилку в его руке. Но в конце концов он справился с этим сложным инструментом.
После завтрака Мимус играет или учится. Я выучил его обращаться со звонком. Поставил перед ним никелированный звонок и показал, как надо звонить. Я приложил палец к шишечке. Раздался звонок. Мимус испугался, вскочил, хватил по звонку ложкой, потом стал двигать его по столу и швырять.
— Нельзя, Мимус!
Он притих. На другое утро повторилась та же история.
Мимус не давал мне руку, никак не хотел учиться звонить.
Вдруг случайно он ударил кулаком по шишечке. Звонок задребезжал. Тотчас же к Мимусу придвинулась тарелочка с фруктами. Мимус посмотрел на тарелку, схватил грушу и ударил по звонку ещё раз. И сейчас же к нему протянулась моя рука с изюмом. Он поел вкусного изюма и снова — хлоп по звонку. Кружка со сладким чаем подъехала к самому носу Мимуса.
И что же? Он быстро научился звонить. Ему это дело так понравилось, что пришлось отнять звонок, а то на него угощенья не напасёшься.
Потом я приучал его к словам: «Мимус, иди сюда!»
Тут мне помогла щётка. Обыкновенная щётка на длинной палке для обметания стен и потолка. Я свищу раз, и другой, и третий. После третьего свистка я кричу:
— Щётку!
В двери появляется страшное чудовище — щётка. Мимус с ужасом смотрит на мохнатое пугало, пятится и наконец со всех ног бежит ко мне искать защиты.
Мимус понял: всегда после крика «иди сюда» или после свистка появляется это страшное чудовище на палке. Значит, как только раздаётся призыв хозяина, надо бежать к нему, а то страшный зверь на длинной палке ещё схватит и утащит куда-нибудь.
И Мимус привык при первом же свистке бежать ко мне.
А что это за зверь там, в углу, где шкаф? Только что никого не было и вдруг там появилось волосатое, злое существо с цепью на шее. Мимус поднимает голову, и незнакомый зверь поднимает голову.
«Ну-ну, — думает Мимус, — я тебя не боюсь!» — и смело идёт на врага. Но враг не испугался — он тоже наступает на Мимуса. Мимус остановился — и тот остановился. Мимус отступил немного — и тот его передразнил: тоже отступил. Прямо как обезьяна! Мало-помалу Мимус привыкает к этому существу, которое повторяет каждое его движение. Это, пожалуй, вовсе даже не вредный зверь. Можно подойти к нему поближе. Мимус осторожно придвигается — зверь тоже осторожно придвигается. Мимус касается губами холодного стекла и, разочарованный, отходит от зеркального шкафа.
В большом зале у меня устроена горка. Наверху — тележка.
— Мимус, — говорю я, — хочешь покататься?
Я сажаю его в тележку, но он упирается и лезет ко мне на грудь.
— Ну, тогда посмотри, как я буду… Поучись.
Я поставил тележку на горку и толкнул её. Тележка с шумом покатилась и ударилась о стенку. Мимус внимательно посмотрел на тележку, потом подошёл к ней. Он толкнул её кулаком, а сам на всякий случай отскочил. Тележка покатилась.
Через минуту Мимус смело играл с тележкой. Он катал её с горки, хватал её на лету, возил её по полу. Мы все следили за этой милой игрой. Потом я сказал:
— Давай, Мимус, вместе играть!
Я раз семь катал тележку вверх и вниз по горке, потом показал Мимусу на дно тележки:
— Садись, прокачу!
Мимус уже освоился с тележкой и спокойно влез в неё. Но только я к нему подошёл, он как прыгнет! Я взял обезьянку за цепь и снова посадил в тележку. Мимус покорно сидел, держась одной рукой за борт своего экипажа, а другой — за цепь. Так он и съехал.
После этого он скоро сам научился кататься с горы. Он втаскивал тележку наверх, усаживался и ловко съезжал вниз.