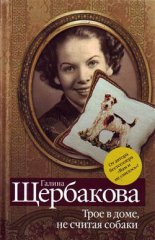Тень земли Ахманов Михаил

— О каком таком исходе?
— Был такой великий Исход к звездам… Помолчав, капитан поднялся и произнес:
— Был, верно. Да кто о нем помнит теперь? Разве одни книгочеи. У нас ведь свой исход случился — когда драпали из Европ в Америки. И чего тогда не поделили? Что тут, что там — один черт…
Раскачиваясь на длинных ногах, он проследовал на корму и обругал Васко — велел, чтоб тот держался у берега, а не лез на стрежень, если не хочет поплавать прибитым к доске.
Гилмор невесело усмехнулся.
— Все мы здесь такие. Плывем по реке Вечности на плоту под названием Земля, без права остановки и пересадки. Триста лет плывем…
— Это переменится, — сказал Саймон, поглядывая на Марию. Она молчала; только подрагивали пушистые веера ресниц да тонкие пальцы мяли подол цветастого платья, — Переменится, — повторил он. — Скоро!
Майкл-Мигель погладил нагую грудь, исполосованную шрамами.
— Ты надеешься уничтожить передатчик, брат Рикардо? Это проклятое устройство на Луне, о котором ты говорил? Но как? Тебе пришлют что-нибудь подходящее? Оружие или космический корабль? Саймон покачал головой:
— Нет. Импульсный трансгрессор — это не Пандус, корабль не перешлешь. Надо искать здесь, на Земле. Искать и надеяться, Мигель. Мир велик!
— Мир мал, мой звездный брат, — этот мир, — уточнил Гилмор. — Горстка людей тут, кучка — там, а меж них — океаны и бесплодные континенты, изрытые кратерами… Что здесь найдешь?
— Может, на «Полтаве», или в ЦЕРУ, или в других местах…
— Может быть, на «Полтаве», — кивнул чернокожий учитель, — если ее не разобрали по винтику. Но в ЦЕРУ ты не отыщешь ничего. Там…
Он вдруг замолчал и потупился под пристальным взглядом Саймона.
— Что — там?
— Ничего, кроме разрухи и страха. Их теснит Байкальский Хурал, их города — в развалинах, население — в панике, их лидеры не могут договориться друг с другом…
«Странная осведомленность», — решил Саймон и поинтересовался:
— Откуда ты знаешь?
Но Майкл-Мигель, не ответив, лишь развел худыми руками и что-то невнятно забормотал. «Мертвые тени на мертвой Земле…» — послышалось Саймону.
Он отвернулся, лег на живот, пристроил подбородок в ладони и прикрыл глаза, оставив крохотную щелочку. Теперь он мог смотреть на Марию, мог любоваться девушкой — незаметно, как приникший к земле гепард глядит на яркую птицу-певуна, алую, с золотистой грудкой. Сейчас этот процесс созерцания казался Саймону гораздо более важным, значительным, чем разгадка тайн Майкла-Мигеля или даже вся его миссия; и в этот момент Земля представлялась ему не огромной западней, а мирным склоном Тисуйю-Амат, где он провожал солнце вместе с Чией.
Как давно это было! И как недавно…
Взмах пушистых ресниц… Локон, вьющийся на ветру… Солнечный луч, утонувший в ее глазах…
«Все повторяется, — подумал Саймон, — все повторяется, и ничего не проходит бесследно».
Девушка, не замечая, что за ней наблюдают, глядела на него и улыбалась.
Тянулись часы и дни, баркас плыл по огромной реке, минуя немногочисленные городки и деревни, прячась у берегов, пересекая в темноте широкие озера-кратеры. Саймон заметил, что Кобелино все чаще подсаживается к Марии, тянет руки к ее коленям, заводит разговоры. Девушка отмалчивалась, пряталась в трюм, старалась держаться поближе к Саймону и Майклу-Мигелю. Учитель Кобелино не любил; для него мулат оставался все тем же огибаловским отморозком, которому случай и прихоть брата Рикардо сохранили жизнь.
Однажды, во время дневной стоянки, Кобелино опять пристроился к девушке, и Саймон разбил ему челюсть, пояснив, что не стоит зариться на хозяйское добро. Этот воспитательный акт явился весьма своевременным; теперь мулат обходил Марию за пять шагов, но временами взирал на нее с откровенной злобой.
В тот же день, ближе к вечеру, за ними погнался патрульный катер «торпед» — паровое суденышко, которое двигалось против течения порядком быстрее баркаса, так что уйти от погони не было никакой возможности. Петр-Педро, очевидно, уже прикидывал, как поплывет на доске вместе со своими сыновьями и пассажирами, но Саймон велел ему не тревожиться, спустить парус и лечь в дрейф, а когда катер приблизился, швырнул гранату. На мелководье у берега взрыв был особенно силен: вода, тина и песок взметнулись к небесам, перемешанные с деревянными и металлическими обломками, потом водяной столб опал, тяжелое затонуло, легкое уплыло, а съедобным занялись кайманы. Петр-Педро сплюнул за борт, Пашка выругался с явным облегчением, Кобелино разразился ликующими воплями. Филин одобрительно хмыкнул, а Дан и Васко, хозяйские сыновья, глядели теперь на Саймона точно так же, как смотрит пара щенков на матерого волкодава. В глазах их читались восхищение и безмерная преданность; они наконец обрели вождя, великого предводителя краснокожих, мечущего бомбы и убивающего врагов десятками.
Саймон, однако, был мрачен. На Тайяхате, в землях войны, он убивал, чтоб доказать свое превосходство, а в прочих местах — лишь в силу необходимости; смерть противника рассматривалась им как акт самозащиты, как воздаяние за совершенный грех или как превентивная мера, способная предохранить невинных от унижения и гибели. Но в любом случае это не являлось поводом для восторга. «Нормальной человеческой реакцией скорее должен быть страх. Возможно, отвращение», — размышлял он, посматривая на Гилмора и Марию.
Они не веселились, как остальная его команда, однако тоже ужаса не выказывали, Гилмор, взирая на пиршество кайманов, что-то шептал, молитву, проклятия или стихи, а девушка казалась печальной; глаза ее были опущены, брови сведены, у краешков губ залегли страдальческие морщинки. О чем она думала? О мешке, повисшем над темным озером? Об острых клыках рептилий, терзающих плоть? О муках расставания с жизнью? Но эта плоть, исходившая кровью в медленных струях Параны, была, по крайней мере, бесчувственной и мертвой, растерзанной взрывом, — не люди, а клочья мяса, бесформенные ошметки, кайманья пища.
Впрочем, Саймон не считал их за людей, памятуя о пираньях и досках, к которым они прибивали пленников.
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК
На этот раз они собрались не в беседке, повисшей над краем пропасти с огненным фонтаном, а в обширном зале, с бойницами у потолка, с высокими окнами и застекленными дверьми, которые выходили на галерею — она тянулась от башни к башне вдоль всего второго этажа. Начался ноябрь, последний весенний месяц, и в полуденные часы на воздухе; было уже слишком знойно; солнце расплавленным огненным шаром висело над океанскими водами, и легкий бриз, задувавший с моря, не умерял жары. Но здесь, в просторном зале, под защитой массивных каменных стен, царила приятная прохлада.
В западной части комнаты располагался стол — большой, овальный, выточенный из черного дерева, с несколькими креслами, обтянутыми крокодильей кожей. Количество кресел менялось; случались спокойные времена, когда их было (Десять или девять, но в периоды смуты и резни вполне хватало четырех. Кланы воевали меж собой, заключали и разрывали союзы, атаковали и отступали, побеждали и терпели поражения, и все это сказывалось на креслах у овального стола; в них могли восседать лишь победители и владыки. Сейчас кресел было семь, но дело шло к тому, что в ближайший месяц их число сократится до полудюжины.
Четыре сиденья пустовали. Дон Хосе-Иосиф Трясунчик считался почти покойником и звать его в этот зал не было ни малейшего резона; дон Эйсебио Пименталь, предводитель «черных клинков», редко покидал фамильную резиденцию в Разломе, не появляясь в Рио месяцами; дон Монтальван Большой Палец являлся фигурой незначительной, и с его мнением не стоило считаться — «Длинные плащи» были самыми слабыми в семерке правящих бандеро. Что касается Хорхе-Георгия Диаса по кличке Смотритель, возглавлявшего крокодильеров, то он, наоборот, был слишком силен, слишком прямолинеен, груб и напорист в своем стремлении к единоличной власти, так что на кулуарные сборища триумвирата его, как правило, не приглашали. Собственно, смысл союзных обязательств между «штыками», смоленскими и дерибасовскими в том и состоял, чтобы притормозить излишне шустрого Хорхе-Георгия, поэтому на их совещаниях он был безусловно персоной нон грата.
— Приступим, судари мои? — старый Хайме-Яков Трубецкой, задрав ястребиный нос, оглядел тянувшиеся у потолка бойницы. В них что-то поблескивало, но ненавязчиво и едва заметно: качки-телохранители смоленских были вышколены на совесть.
— Приступим. — Дон Грегорио Сильвестров, обменявшись взглядом с Алексом, зашелестел разложенными на столе бумагами. — Что на сегодня, Хайме?
— Трясунчик, сокол мой, Трясунчик. Кажется, он еще жив?
— Еще жив. Жив, пока я не выбрал отстрельщиков. Но о Трясунчике — после, — дон Грегорио по прозвищу Живодер небрежно махнул рукой. — Поговорим о Харбохе.
— О Харбохе? А что такого случилось в Харбохе? — Протез старика лязгнул, когда он откинулся на спинку кресла. — По моим сведениям, кондор-генерал Луис припек задницу гаучо, затем, как приказано, отошел и уже находится в центральных провинциях — со всеми своими людьми, лошадьми, пленниками и с бочкой пульки для нашего дона Алекса. Харбоху он проследовал без остановок.
— Он-то проследовал, — откликнулся дон смоленских, разглядывая лежавшие на столе бумаги, — а вот крокодильеры задержались. Погуляли в Харбохе. Еще погрелись у костров… Большие костры получились, Хайме! Из Сан-Ефросиньи видать.
— Ну так что же? Харбоха — их епархия, Сильвер. Их и Трясунчика, хотят — жгут, хотят — милуют… Нам-то убытка никакого! Мост цел, «штыки» переправились без потерь, дон-протектор отсиделся в Форту, а все остальное, в сущности, мелочи.
— Мелочи, — мрачно согласился Грегорио, не отрывая глаз от стола. — Склады сгорели, сотня «торпед» пошла кайманам на корм, все кабаки разгромлены, но ты, Хайме, прав — об этом пусть голова болит у Трясунчика и Монталь-вана. Мелочи! Есть, правда, одна странность…
Старый Хайме приподнялся, будто желая заглянуть в бумаги и полюбопытствовать насчет упомянутой странности, но тут скрипнула дверь, свежий ветер пошевелил листы, и в комнате появилась девушка. Она проскользнула с галереи; чудилось, что кожа ее еще источает солнечный жар, а пряди светлых волос подобны золотым протуберанцам. Она была очень красива — стройная, длинноногая, с высокой грудью и правильными точеными чертами.
При виде ее Алекс по прозвищу Анаконда жадно сглотнул и улыбнулся, а надменное лицо дона Грегорио смягчилось.
— Что, Пакита? — произнес он, оторвавшись от своих бумаг.
— Приказать, чтоб подали вина, отец? — Голос девушки, низкий и томный, звучал чарующе, но в серых глазах стыли холодные льдинки. Казалось, она не замечает улыбок и взглядов Алекса; во всяком случае, подаренный ему ответный взор был суров и в будущем не сулил главе Военного департамента ничего приятного. Взвешен, измерен и куплен, читалось в ее глазах; возможно, продан и предан, и уж, во всяком случае, не любим.
— Пусть принесут белого из Херсус-дель-Плата, — распорядился дон смоленских и после паузы прибавил: — Мы скоро закончим, Пакита, и ты сможешь поболтать с Алексом. Поболтать! — Изобразив усмешку, он покачал длинным костистым пальцем. — Эти «штыки» бывают так нетерпеливы… Не позволяй ему раньше времени лезть под юбку, девочка.
— А если выше? — пробормотал Алекс, посматривая на полные груди девушки. Когда Пакита, передернув плечами, направилась к двери, он облизнул губы, а старый Хайме язвительно скривился. Что до дона Грегорио, то тот промолчал и не произнес ни слова, пока служитель в синем расставлял бокалы и наливал вино.
— Так вот, о странностях… — Дон смоленских потянулся к шкатулке с сигарами, потом, будто раздумав, отдернул руку. — В Харбохе погибли бойцы и «шестерки» Трясунчика, общим числом под сотню; еще — немерено портовой швали и двадцать шесть крокодильеров. Кто угодил к «торпедам» под нож, кто утонул или сгорел на угольных складах. Но девятнадцать были убиты в борделе — есть там такой, у гавани, собственность Монтальвана. При нем — мытарь… Так, мелкота, он же — вышибала: следит, чтобы клиенты не надували потаскух. Его допросили. Мои люди. Допросили с пристрастием! — Дон Грегорио стиснул пальцы в кулак, словно душил кого-то невидимого, жалкого. — Упрямый, подонок. Однако сознался, что крокодильеров прибил какой-то тип, заночевавший в борделе. Чуть ли не в одиночку! С ним, правда, были еще трое, а может, четверо. Все — с Пустоши. И среди них, — дон Грегорио зашелестел бумагами, — некий Кобелино, знакомец мытаря, из бывших монтальвановских «шестерок». Этот шепнул приятелю, что обзавелся новым хозяином, и что хозяин его, брат Рикардо, — великий боец: пришиб в Пустоши всех огибаловских отморозков. Это вам ничего не напоминает?
Вопрос был обращен к обоим собеседникам, но тяжелый взгляд дона, Грегорио уперся в Алекса. Тот заерзал в кресле и кивнул.
— Брат Рикардо? Может, священник? Сумасшедший поп, прикончивший в Дурасе троицу диких? Судя по описанию, белый, ни капли негритянской крови, хотя кто его знает… Высок, светловолос, глаза — синие, морда — как на картинке. Бабы таких любят.
— Похож, очень похож, — сообщил дон Грегорио, заглядывая в свои бумаги. — Вот справка из канцелярии Синода. Сообщают, что в Пустошь недавно были направлены священники Домингес и Горшков. Рикардо-Поликарп Горшков… Тоже похож, но не такой красавчик, как описывает Алекс. И что бы все это значило?
— Подмена? — произнес Хайме с вопросительной интонацией.
— Возможно. Теперь прикинем: события в Пустоши — это сентябрь; в начале октября кто-то разделался с бойцами «черных клинков» у Негритянской реки, затем — происшествие в Харбохе, а к нему — самая свежая новость: исчез патрульный катер «торпед». На Паране, у Сгиба. Собственно, не исчез, отыскались кое-какие обломки… Такое впечатление, что взорвался паровой котел, а заодно — весь динамит и порох… или что там у них было в трюме. Ни один мерзавец не выжил. Рассказать некому.
— Думаешь, все тот же поддельный поп сработал? — Дон Хайме поскреб в голове негнущимися пальцами протеза. — Если так, за этим братцем Рикардо без малого две сотни трупов, судари мои. Значит, человек он обученный, опытный, и к тому же желает непременно в Рио добраться. Пустошь, потом Негритянская река, Харбоха, Сгиб. Дорожка известная, в обход Разлома… — Старик покосился на дона Грегорио и повторил: — Опытный человек, Сильвер! Не срушники ли заслали? Чтоб с Трясунчиком разобрался?
Предводитель смоленских поджал губы.
— Сомневаюсь, Хайме. Срушников перебрасывают в Канаду, а потом везут на кораблях. К тому же откуда возьмутся у ерушников опытные да обученные? Не прежнее время. Таких ни у Сапгия нет, ни у меня. — Он смолк, раскуривая сигару, потом заметил: — Этот, я думаю, из наших, из бразильян. Может, с западных гор, из Чилийского протектората, может — беглый с рудников, может, просто сосланный в Пустошь… Вырядился попом, а сам — отморозок из тех же крокодильеров.
— Скорее из гаучо, из тех, что от Федьки отложились, — подал голос Анаконда. — У Хорхе Смотрителя живых отморозков не водится. Он их зверюшкам скармливает.
Тощий Хайме вытянул руку, лязгнув протезом.
— Это неважно, милостивец мой, кто он таков, гаучо, крокодильер или, допустим, «плащ». Главное, что он может и что его…
— …никто не знает, — закончил дон Грегорио. Они переглянулись, будто в головы обоим пришла одна и та же идея. Алекс, наморщив лоб, смотрел на старших коллег и союзников, не в силах проследить их мысли по выражению лиц — мрачно-торжественному у Сильвестрова и хитроватому, злобному — у предводителя дерибасовских. Первый и вправду походил сейчас на живодера, готового забить бычка, второй казался старым хитрым грифом, что кружит над падалью, дожидаясь, покуда труп как следует протухнет.
— Трясунчик, — сказал наконец дон Хайме. — Ты, Сильвер, отстрельщика искал для Хосе-Иоськи? Так больше не ищи. Он сам придет.
— Ну, сам не придет, надо будет поискать, — отозвался Грегорио. — Но я его найду. Найду! Через Кобелино. Этот — из местных, и к старым знакомцам заявится. Непременно заявится. И хозяина с собой потащит. Куда ж ему еще идти? Этому попу-отстрельщику?
Вопрос был явно риторическим, и дон Хайме, одобрительно лязгнув протезом, заметил:
— Если он такой крутой, этот брат Рикардо, то стоит позаботиться и о Хорхе. Лишняя тысяча песюков, и никаких проблем.
— Проблем не избежать, — возразил Грегорио. — У Хорхе — ублюдки-наследнички, еще и племянники есть — в точности как у меня… Крокодилье семя… Но поглядим! Проверим! Кончит поп Трясунчика, тогда и будет разговор.
Анаконда кашлянул, пытаясь привлечь к себе внимание.
— Луис будет в Рио через пару дней. С пленныйи. Куда мне их девать?
Сильвестров повернулся к нему, задумчиво поиграл бровями и отложил сигару.
— Тех, что покрепче, держи у себя в Форту, для Пимена, а раненых сдай моим парням. Праздник скоро, народец развлечь надо…
— Как развлекать-то будешь, милостивец мой? — с ухмылкой поинтересовался Хайме. — Веревкой, топориком или ямой с муравьишками?
— И так, и сяк, и эдак, — буркнул дон Грегорио.
Глава 6
На восьмой день, когда они достигли Сгиба, во время полуденного отдыха спрятанный в сумке маяк завибрировал. Затем на краткое мгновение беззвучная вспышка зигзагом расколола мир; края ее разошлись, и в узкую багровую щель проскользнуло что-то длинное, гибкое, отливающее изумрудом, — проскользнуло, метнулось к Саймону, замерло у его ног и басовито зарокотало, словно идущий на посадку вертолет.
Каа… Пять метров стальных мышц, два зорких глаза и нос-кувалда. Каа, великий боец, зеленый тайятский змей. Прощальный Дар Наставника. Каа, гостивший у Дейва Уокера, пока его друг и хозяин странствовал в иных мирах…
Теперь он был здесь, на Земле, урчал, свистел, свивал тугие кольца у мутных вод Параны, и это являлось знаком высочайшего доверия. На Колумбии не сомневаются в нем, понял Саймон; иначе прислали бы не Каа, а Ходжаева или Божко, не змея, а человека. Агента, начальника или помощника, неважно; сам факт его появления был бы свидетельством того, что он, Ричард Саймон, Тень Ветра, не может завершить порученную миссию. Словно крысиный клык в ожерелье… Однако кто-то — скорее Уокер, чем Леди Дот — избавил его от позора. Кто-то верил в него и знал, что Ричарду Саймону не нужны начальники и помощники. Нужен друг.
Он опустился на колени, и Каа, грациозно изогнувшись, положил ему на плечо массивную голову. Изумрудная чешуя была гладкой, сухой и прохладной на ощупь.
— Травяной червяк… — пробормотал Саймон, ласково стиснув челюсти питона. — И здесь меня нашел. Соскучился? Надоело жрать кроликов у Дейва? Ну, тут мы поохотимся!
За его спиной послышался шорох, затем — сдавленное восклицание. Он повернул голову. Мария с ужасом смотрела на питона. Глаза ее были совершенно круглыми.
— Это… что? Анаконда? Но таких… таких зеленых… не бывает!
— Это боевой тайятский змей, — пояснил Саймон, глядя в ее побледневшее лицо и улыбаясь. — Мой друг. Когда я был мальчишкой, он занимался моим образованием. Кости до сих пор пор болят.
— Но, Дик… Откуда же он взялся? Дик. Ди-ик… Совсем, как говорила Чия. Приятно слышать. И смотреть на нее тоже приятно. Саймон встал.
— Его прислали со звезд, мне в помощь. Нет, не так. Не в помощь, а для моральной поддержки. Чтобы я не чувствовал себя забытым и одиноким. — Брови Марии взметнулись вверх, и он поспешил добавить: — Ведь там, среди звезд, не знают, что я повстречался с тобой. С тобой и с остальными.
Остальные дремали сейчас на палубе баркаса, под бурым полотняным тентом. Изогнутый скалистый мыс прикрывал суденышко со стороны реки, а берег, если не считать узкой песчаной полоски пляжа, тоже топорщился скалами — бесплодными, дикими, бесформенными, словно их лишь вчера вывернули гигантской лопатой из земных недр. Собственно, так оно и было: здесь вплотную к речному берегу подходил Разлом, и все его горы, утесы, озера, ущелья и каньоны насчитывали меньше трех с половиной столетий. Младенческий возраст по планетарным меркам.
Каа приподнялся, опираясь на нижнюю половину туловища, и мерный глуховатый рокот сменился пронзительным посвистом. Крохотные глазки питона поблескивали, будто отполированный обсидиан, челюсти были плотно сжаты, хвост метался по мокрому песку, чешуя сверкала на солнце изумрудными искрами. Он выглядел великолепно, старый мудрый змей Каа, учитель пяти поколений воинов; о таких бойцах тайят говорили: «Его копье летит до Небесного Света, а Шнур Доблести свисает до колен».
Конечно, у Каа не было ни колен, ни копья, зато он сам являлся копьем — живым копьем, с наконечником, нацеленным прямо в грудь Ричарду Саймону.
— Что это с ним? — спросила Мария, на всякий случай отступая подальше.
— Он рад, что видит меня. Приглашает потанцевать. Хочет убедиться, что я не забыл его уроков.
Саймон снял рубаху, сбросил башмаки и шагнул к питону. Песок был мокрым, слежавшимся и теплым; ступни почти не вязли в темно-желтой плотной массе.
На мгновение человек и огромный змей замерли напротив друг друга, потом Каа сделал стремительный выпад, и Саймон подпрыгнул, уворачиваясь от тяжкого удара головы. Пляска началась. Под мощным телом питона стонал и поскрипывал песок, мерное глубокое дыхание человека сливалось с плеском волн, лизавших берег влажными языками, ветер, налетавший с реки, будил гулкое эхо в скалах. Каа то свивался тугой пружиной, то замирал, выжидая, то выстреливал вперед голову на бесконечной шее; его хвост подрагивал, готовый нанести удар, или метался по песку, оставляя глубокие овальные вмятины. Саймон прыгал и падал, взмывал вверх и прижимался к земле, сторонясь разящего изумрудного копья; волосы его растрепались, на висках под жарким солнцем проступила испарина, но мышцы были послушны, а тело будто парило, подхваченное ветром, — легкое, как пушинка, быстрое, как проблеск молнии, гибкое, как стальной клинок.
Тут, на Земле, танец со змеем требовал меньших усилий, чем на тяжелом Тайяхате. Тут, едва оттолкнувшись ступнями, Саймон прыгал вверх на пару метров, а с разбега мчался пулей, три или четыре раза переворачиваясь в воздухе; тут он мог крутиться стремительным колесом, чуть касаясь песка пальцами, мог удержать тело на вытянутой руке, распластавшись над землей, мог лететь и падать без вреда, мог… Впрочем, Каа тоже был способен на многое, и потому их пляска кончилась с ничейным результатом: дважды хвост и нос питона прогулялись по ребрам Саймона, и дважды Дик сумел шлепнуть ладонью упругую гибкую шею.
Он замер, втянул со свистом горячий влажный воздух, выравнивая дыхание. Питон метнулся к нему, обвил плотными кольцами пояс и бедра, довольно заурчал; его голова раскачивалась у щеки Саймона, будто они на какое-то время стали единым существом, воплощением странного бога или скорее демона с двумя головами, человеческой и змеиной.
Только теперь Саймон заметил, что не одна Мария наблюдала за их танцами; все его спутники собрались вокруг, взирая на Каа кто с изумлением, кто с интересом, кто с откровенным страхом. Рыжий Пашка-Пабло оказался посмелей других: шагнул, вытянул руку и, взглядом спросив разрешения, погладил сухую блестящую кожу питона.
— Твоя змеюка, брат Рикардо?
Саймон кивнул, улыбаясь и глядя в любопытные Пашкины глаза.
— Теперь моя.
— А взялась-то откуда?
— Бог послал.
— Здоро-овая, тапирий блин! А толк в ней какой?
— Толк от твари, посланной Богом, заметен не сразу. Подожди, увидишь.
— А почему зеленая?
— Много пульки пьет, — объяснил Саймон и повернулся к капитану: — Змей поплывет с нами. У меня еще остались деньги, и, если хочешь, я заплачу. Все-таки тебе беспокойство — лишний пассажир и лишний рот…
— Пасть, — уточнил Петр-Педро. — Ну, раз такое чудо Господом послано, грех песюки лупить. Опять же змий невиданный, зеленый… — Оскалившись, капитан выразительно Щелкнул по кадыку. — Пусть плывет! Только насчет пульки… Это шутка, брат Рикардо, или как?
Не ответив, Саймон неопределенно развел руками. Каа, тайяхатский змей, был созданием живородящим и теплокровным, а значит, отличался от земных питонов как по своей природе, так и в части склонностей и привычек. У него имелись рудиментарные конечности, незаметные под плотной чешуей, он превосходно видел и слышал, не жаловался на обоняние, а пищу не заглатывал, а пережевывал и ел все подряд, начиная от капусты и кончая рыбой. К тому же он обладал весьма высоким интеллектом, не меньшим, чем у горилл и шимпанзе, но, как почти у всех разумных тварей, были у него свои предпочтения и слабости: запаха спиртного он не любил, а вот к обезьянам относился с искренней приязнью. К счастью, обезьян в ФРБ хватало.
Ближе к вечеру Саймон вместе с Майклом-Мигелем залез на прибрежный утес, желая обозреть Разлом с высоты. Каа сопровождал их в этой экспедиции — струился зеленым ручьем среди базальтовых глыб, выбирая доступную людям дорогу; сам он мог бы забраться по отвесному склону и проскользнуть в любую щель, куда пролезет его голова. Посматривая на змея с опаской и интересом, тяжело отдуваясь на крутом подъеме, Гилмор спросил:
— Он — с твоей родины, брат Рикардо?
Саймон сделал утвердительный жест.
— Разумный?
— В некотором роде. Аборигены Тайяхата держат их в домах — не все, разумеется, а лишь Наставники воинов чтобы тренировать молодых. Это суровое ученье. Ты ведь видел, как мы танцевали на берегу?
— Видел. Суровое… И так обучают всех? Всех юношей на твоей родине?
— Так обучали меня, — бросил Саймон. Лицо Чочинги, ушедшего в Погребальные Пещеры, всплыло перед ним, тоска на миг стиснула сердце. Разумом он признавал неизбежность свершившегося, но чувства не желали мириться с утратой; сейчас ему захотелось побыть в одиночестве и спеть поминальную песнь — ту, что предписывал Ритуал Почитания Предков.
Однако Гилмор не отставал и все косился на мелькавшего среди камней змея.
— Зачем его прислали, брат Рикардо?
— В знак доверия ко мне. — Брови Гилмора недоуменно приподнялись, и Саймон пояснил: — Доверие — когда тебе в помощь присылают друга. Понимаешь? Не начальника, не соперника, а друга.
— Как странно… Ты называешь другом эту зеленую змею. — Майкл-Мигель вздохнул. — И странно другое. Мы оба — люди, но родина у нас разная, и то, что кажется тебе естественным и привычным, для меня — повод к удивлению и расспросам. Прости, если я был слишком назойлив.
В молчании они закончили подъем.
Утес, на который они взбирались, тянулся вверх метров на сорок. Соседние были пониже, но выглядели столь же голыми, бесплодными и неприветливыми; они громоздились каменным частоколом, надвигались на речной берег, давили, попирали его, и только узкие ленты песчаных пляжей, худосочные пальмы да жалкие кустики травы теснились между этим мрачным серым валом и просторным, неспешным и величавым течением Параны.
Несколько секунд Саймон, наклонившись, смотрел на медленный поток, слепивший глаза золотистыми отблесками, потом расправил плечи, прищурился и повернулся к югу. Перед ним в косых лучах заходящего солнца лежал удивительный край. На три-четыре лиги от речного берега простиралось гротескное подобие равнины, будто перепаханной чудовищным плугом; бесформенные кучи земли чередовались с глинистыми холмами и осыпями, лощинами и оврагами, баррикадами камней и щебня, а над всем этим диким хаосом торчали шеренги скал — рваных, иззубренных, еще не сглаженных дождями и ветрами и оттого похожих на клыки дракона, выщербленные тяжелым молотом древнего божества-драконоборца. Этот пейзаж не радовал яркими красками: земля была бурой, глинистые холмы и завалы — ржаво-коричневыми, утесы — серыми и черными, а ущелья между ними казались полосками мрака и первобытный тьмы.
Скалы чем дальше от речных берегов, тем становились выше, сливаясь на горизонте с горным хребтом, иссеченным трещинами, и чудилось, что там в легендарные незапамятные времена ворочалось и буйствовало, пытаясь вырваться из-под гнета земной тверди, какое-то грозное чудище. Над хребтом расплывалось мрачное дымное облако, и Саймон припомнил, что за этими горами лежат земли «черных клинков» — нефтяные озера и газовые скважины, угольные шахты и хранилища топлива, нефтеперегонные фабрики и поселки рабов — целый новый мир, сотворенный после Исхода. Страшный мир… Что же тут было три с половиной столетия назад?
Он зашептал, припоминая:
— Такуарембо, Пайсанду, Корриентес, Посадас, Крус-Алта, Сальто, Ливраменту, Санта-Мария, Санта-Роза, Сан-Габриэль…
Слова его походили на молитву или магическое заклятье, призванное оживить мертвецов. Впрочем, здесь их не было; все они пребывали в добром здравии на планете Южмерике, покинув этот край, отданный во власть чудовищ.
— …Чахард, Артигас, Мерседес, Ривера, Баже, Каразинью, Пасу-Фунду, Эрешин…
Майк-Мигель встрепенулся.
— Что это, брат Рикардо?
— Бразильские города, стоявшие некогда в Разломе. Теперь они — там! — Саймон поднял лицо к небу.
— Они — там, а мы — здесь, — грустно откликнулся Гилмор. — Последние люди на Земле, неудачники и отщепенцы, потомки таких же неудачников и отщепенцев. Что нам осталось, брат Рикардо? Что? Разлагаться и гнить, горюя о несвершившемся? Оплакивать прошлое и собственную судьбу, страшиться будущего и проклинать настоящее? А настоящее… Вот оно! Смотри! — Он вытянул руку над простиравшимся внизу хаосом, над землей, испещренной длинными вечерними тенями, и повторил: — Вот — настоящее! Жуткое, мерзкое, убогое! Ибо наш мир — лишь отблеск прежнего мира, жалкая тень минувшего, и сами мы — тени, рыдающие на пепелищах.
Горе его было непритворным, печаль — искреннее, обида — тяжкой. Обняв Гилмора за узкие плечи, Саймон склонился к нему, коснувшись щекой жестких завитков волос, и прошептал:
— Ты в самом деле поэт, Мигель. Ты говоришь как поэт и чувствуешь как поэт… Это — твой крест и твое счастье… Или я не прав?
— Прав, мой звездный брат.
Майкл-Мигель отстранился, шагнул к обрыву и замер с полуприкрытыми веками. Шрамы его налились кровью и потемнели, лицо сделалось отрешенным и будто утратило негроидные черты; полные губы усохли, нос заострился, темная кожа плотнее легла на скулах и подбородке, на челюстях обозначились желваки. Текли минуты. Саймон ждал, не прерывая молчания, слушая посвист ветра в скалах и шелест пальм на речном берегу.
Наконец к ним добавилось нечто новое — звук человеческого голоса: Мертвые тени на мертвой Земле Последнюю пляску ведут, И мертвые ветры, вздымая пыль, Протяжно над ними поют.
Змеится, кружится их хоровод Меж кладбищ, руин и гор, \ Сплетая тени Земли и ветров В призрачный смертный узор…
Гилмор смолк, потом задумчиво произнес:
— Пятый Плач по Земле, брат Рикардо. Всего же я написал их восемь и решил на том остановиться. Слезами делу не поможешь, верно?
— Слезами — нет, но слово порой летит подальше пули и бьет сильней клинка. Летит до самых звезд. Мигель внезапно улыбнулся.
— Хотя бы до Луны, до передатчика, о котором ты рассказывал… Если б я мог уничтожить его своим словом!
— Ну, уж это — моя забота, — сказал Саймон.
Они добрались до Сан-Эстакадо в первую неделю ноября. Здесь, на двадцать шестой параллели к югу от экватора, этот сезон не был похож на весну: солнце жгло безжалостно, с восточного плоскогорья Серра-Жерал и с юга, из Разлома, налетал жаркий ветер, и лишь близость огромной реки спасала фруктовые деревья, поля маиса и кофейные плантации от губительного зноя. Климат явно изменился к худшему, думал Саймон, вспоминая нудные ливни в Харбохе, засуху в Пустоши и пыльные бури за Рио-Негро. Этому могло быть несколько причин, излагавшихся в полученных им директивах: таяние полярных льдов, влиявшее на уровень Мирового океана, расширение пустынных зон и бесплодных территорий на всех континентах, подвижки земной коры, вызванные процессом межзвездной трансгрессии. Многое изменилось на Земле; суши стало поменьше, воды — побольше, и оставалось только гадать, куда теперь дуют ветры и стремятся океанские течения. Возможно, Гольфстрим уже не омывал американских берегов, вечные льды не покрывали Гренландию и Антарктиду, а озоновые дыры над полюсами дотянулись до севера Евразии и мыса Горн…
Саймон размышлял об этом, шагая со своими спутниками по пыльной грунтовой дороге, кривым ятаганом рассекавшей прибрежную степь. Петр-Педро, муж многоопытный и осторожный, высадил их ночью в маленькой бухточке в пяти лигах от города и долго мялся, будто хотелось ему на прощание что-то сказать или чего-то попросить. Саймон было решил, что денег, но капитан, преодолев смущение, пробормотал:
— Ты… это… брат Рикардо… парней моих с собой не заберешь? Они просятся, да и тебе польза. Парни-то крепкие, здоровые, чего им в Харбохе пропадать? А ты бы их к делу пристроил…
— К какому делу? — поинтересовался Саймон.
— Ну, известно к какому. Я ведь, брат Рикардо, не чурка дубовая, соображаю, зачем ты в Рио идешь. Ты — большой человек, и дело твое большим будет. Порастрясешь столичных гнид, пустишь из них кровушки… А для того тебе надобны бойцы да отстрельщики, паханы да мытари, ну и, конечно, «шестерки» из молодых вроде моих парней. Сегодня — «шестерки», а завтра, глядишь, выбьются при тебе в паханито.
— Если выживут, — возразил Саймон. Кажется, Петр-Педро, озабоченный карьерой сыновей, числидего в будущих главарях столичной мафии, в родоначальниках нового клана. А в ФРБ, во всяком приличном клане, как утверждали Кобе-лино с Гилмором, соблюдалась строгая и нерушимая иерархия: наверху — хозяин-дон, под ним — помощники-паханы, а еще пониже, — паханито или бугры-бригадиры, приставленные к практическим делам. Одни из них возглавляли рядовых бойцов, именуемых стрелками либо отстрельщиками, другие, старшие над сборщиками-мытарями, занимались выжиманием «черного», снимая монету за покровительство с подведомственных заведений. Были еще телохранители-качки, стукачи и топтуны, снайперы и вышибалы; были, разумеется, «шестерки» — перхоть в волосатой шкуре банд, стянувшей ФРБ от амазонской сельвы до чилийских нагорий. Собственно, как догадывался Саймон, все граждане этой псевдореспублики пребывали в положении «шестерок», бесправных и безгласных дойных коров, но одним везло меньше, а другим — больше. Тем, кто стал перхотью дерибасовских или смоленских, крокодильеров или «штыков».
Он выдавил мрачную улыбку и сказал:
— Отправляйся домой, Петр-Педро, вместе со своими сыновьями. Я-не бандерос, и мне не нужны ни «шестерки», ни паханито.
Капитан обиженно насупился.
— Но с тобой уже четверо, брат Рикардо. Даже пятеро, считая девчонку.
— Девчонке некуда податься, а остальных я не обещал произвести в паханы и бугры. Хотя…
Саймон смолк, представив на секунду, что превратился во всемогущего вождя, с паханами и паханито и всякой шушерой помельче: Пашка и Филин — во главе стрелков, Кобелино начальствует над сборщиками, а Майкл-Мигель — не иначе как политический советник и песнопевец-бард, восхваляющий подвиги дона. Эта идея была нелепа, однако таился в ней рациональный смысл, и он отложил ее для грядущего — до тех минут, когда путь Извилистого Оврага будет пройден и наступит время выбирать иные тропы.
— Прощай, Петр-Педро. И помни: лучше живые сыновья в Харбохе, чем мертвые — в Рио.
Повернувшись, он зашагал к тракту, где ждали Мария и четверо мужчин. У ног девушки, свернувшись тугими кольцами, замер Каа, изумрудная змеиная чешуя слабо мерцала в свете ярких звезд. С востока тянуло жарким ветром, темный свод над головой был безоблачен и глубок, и Саймон, вспомнив плачущее небо Харбохи, на мгновение пожалел Петра.
Они добрались до Сан-Эстакадо с первыми солнечными лучами и отыскали постоялый двор — придорожную венту в кольце поникших от зноя пальм. В их кронах копошились маленькие длиннохвостые обезьянки, к которым Каа проявил неподдельный интерес; прочие спутники Саймона, кроме непоседы рыжего, мечтали лишь добраться до постелей. Но сам он не устал и, сопровождаемый Пашкой, отправился на предварительную рекогносцировку. Пять лиг были для него небольшим переходом; он мог бы одолеть и десять, и пятнадцать, не чувствуя утомления в легком мире Земли. В мире теней, рыдающих на пепелищах…
Однако столичный город Парагвайского протектората, выстроенный из глины и белого кирпича, не походил на тень. Он показался Саймону меньше Харбохи, но не в пример безопасней и чище. Правда, и здесь были трущобы, на окраинах и в речном порту, при кирпичных заводах и ткацких фабриках, но, в общем и целом, Сан-Эстакадо производил вполне благопристойное впечатление. Как всякий портовый город, он находился отчасти под властью «торпед», однако главную скрипку все же играли смоленские и дерибасовские; их клановые знаки красовались повсюду, не исключая здания Первого государственного банка и резиденции дона-протектора. Протектор, Диего-Яков Трубецкой, был, по утверждению Гилмора, родичем Хайме и влиятельной фигурой среди дерибасовских, одним из пяти их паханов, возможным наследником старого дона.
С запада на восток, от речной гавани до той самой венты, где спали сейчас спутники Саймона, город пересекала широкая, нокороткая магистраль, что-то вроде бульвара с пальмовыми аллеями у тротуаров и мутной мелкой речушкой посередине. Деревья были увиты гирляндами, а над медленным шоколадным потоком нависли прихотливые мостики с разноцветными флажками на шестах. Добравшись до одного из них, горбатого, как спина дромадера, Саймон огляделся по сторонам и обнаружил другие признаки цивилизации. Проезжая часть была замощена, тротуары блестели, щедро сбрызнутые водой, на крутых речных берегах топорщился аккуратно подстриженный вечнозеленый кустарник, а за шеренгами пальм виднелись особняки под плоскими кровлями, в два, три и даже четыре этажа. Почти у каждого — конюшня, пролетка либо фаэтон, а кое-где — автомобиль с бензиновым двигателем, «тачка» или «колеса», как называли в ФРБ эти громоздкие сооружения; но все-таки это были машины, пусть непривычные Саймону и не похожие на электроглайдеры с воздушной подушкой. Он не сомневался, что справится и с таким архаичным транспортным средством.
Пашка вздохнул за его спиной:
— Богато живут, заразы. Огибаловских бы на них напустить.
— Огибаловских уже нет, — заметил Саймон.
— Зато есть мы. И есть место, где песюки лежат. — Красноречивый взгляд Проказы обратился в сторону банка.
Саймон задумчиво дернул нижнюю губу. В его арсенале было множество способов для добывания денег, от торговли алмазными россыпями в созвездии Кассиопеи до компьютерного грабежа; он мог проникнуть через любую дверь, вскрыть любой замок, разобраться с любым хранилищем и сейфом. Тем более что тут, на Старой Земле, не ожидалось никаких сюрпризов, «калейдоскопов», сводящих с ума, лазеров с автоматическим наведением или форсунок, распыляющих ядовитый газ. Тут все решали примитивней: решетки, запоры, толстые стены и стражи при сундуках с сокровищами.
Не отвечая Пашке, он покинул горбатый мостик и зашагал по тротуару. Улица в этот ранний час была пустынной и безмолвной; лишь ветер шуршал развешанными на пальмах гирляндами да полоскались яркие флаги на тонких высоких шестах. Город замер под жарким солнцем в своем торжественном убранстве, и Саймону припомнилось, что скоро — седьмое ноября. День Высадки, главный и, кажется, единственный праздник ФРБ. Он сопровождался массой развлечений: казнями преступников, схватками между знаменитыми бойцами, традиционным шествием, во время которого, в память о минувшей войне, сжигали чучело срушника, и обязательным погромом лавок и кабаков.
Сейчас в Сан-Эстакадо царил покой. Мирно журчала речка, над ее берегами носились пестрые птицы, мохнатые пальмовые стволы казались колоннами из серо-коричневого гранита, а за их редким строем дремали дома. Частные резиденции были украшены эркерами и башенками, у салунов и лавок гостеприимно раскинулись веранды, но присутственные здания выглядели суровей и строже: ни башенок, ни ве-;ранд, только портики, ведущие к массивным дверям, да ряды узких зарешеченных окон. Этот стиль выдерживался с удивительным постоянством, и лишь по вывескам да клановым начкам можно было догадаться, где тут казарма «штыков», где дворец протектора, а где — живодерня, она же — полицейское управление. Перед последним открывалась небольшая площадь с неизменными воротом и ямой, которая на этот раз не пустовала — из нее торчали чьи-то ноги в рваных сапогах, скрученные у колен проволокой.
— Глянь, брат Рикардо. — Пашка, притормозив, дернул Саймона за рукав. — Ни хрена себе! Вот это жлоб! Разъелся, вражье семя!
Между управлением полиции и банком, мрачноватым трехэтажным зданием, выпирала полукруглая стена обширного амфитеатра. Ворота в ней были приоткрыты, и откуда-то издалека доносились тяжкое сопенье, шарканье ног по песку и звуки глухих ударов, словно кузнечным молотом стучали по закутанной в перину наковальне. Справа от ворот стоял новенький автомобиль, а слева, на фанерном щите, висела намалеванная яркими красками картинка: полуголый темноволосый гигант с рельефной мускулатурой, бочкообразным брюхом и кулаками размером с футбольный мяч попирал стопой поверженного соперника. Густые мохнатые брови великана были грозно насуплены, а глаза разбегались по сторонам, будто он в одно и то же время пытался выяснить, что происходит у дверей банка и в пыточной яме.
— Нечисть бровастая, — пробормотал Пашка-Пабло и принялся разбирать надпись внизу плаката. Она извещала, то нынче вечером Эмилио-Емельян Косой Мамонт, боец и чемпион смоленских, готов уложить любого, переломав противнику на выбор ноги, руки либо ребра; а если почтенная публика пожелает, то шею или хребет. Ставки десять к одному, судья на ринге — Рафаэль Обозный, схватка — до победного конца, победитель получает все.
— Все! — с натугой дочитал рыжий и бросил взгляд на Саймона.
Но тот слушал вполуха, разглядывая лимузин у ворот. Большая открытая машина; кузов — темно-лиловый, бронзовый бампер надраен до блеска, сиденья — крокодильей кожи, над задним — топливный бак литров на двести, передние прикрыты ветровым стеклом; еще — огромный руль, педали да какие-то рукояти, также обтянутые кожей. От этого транспортного приспособления веяло надежностью и мощью, и Саймон подумал, что на приличной дороге сумеет выжать километров восемьдесят в час.
— Хороши колеса, — сказал Пашка, прищурив зеленый глаз. — В Дурасе таких нет, да и в Сан-Филипе тоже. В Дуре вообще ни одной машины, брат Рикардо, а в Фильке у гниды Мендеса есть фургон с мазутным движком, чтоб туши коровьи по причалам развозить. Но эта-тачка — не для туш. Подходящая, тапирий блин!
— Подходящая, — согласился Саймон, представив, как мчится на лиловом лимузине к океанским берегам, а рядом с ним, на переднем сиденье — Мария. Глаза блестят, темные волосы вьются, губы полураскрыты, а на губах — улыбка. Надо бы платье ей купить, подумал он и резко обернулся, расслышав за спиной чье-то дыхание.
Оно было сиплым, натужным, словно приближавшемуся к ним толстяку не хватало воздуха. Вероятно, лет двадцать назад он выглядел сильным высоким мужчиной, но теперь отвислое брюхо, лохмы до плеч, необозримые ягодицы и волосатые руки-окорока скрадывали рост. Впрочем, несмотря на излишек волос и плоти, двигался он довольно шустро.
— Хрр… Откуда, оборванцы?
Саймон оглядел подошедшего. Лицо его не было ни добрым, ни злым; маленькие глазки, рот и нос терялись среди бесчисленных складок кожи.
— Из Пустоши мы, — буркнул Пашка. — А ты откудова, сало волосатое?
— Оттуда! — Толстяк, не обижаясь, покосился на стены амфитеатра. — Мое заведение! Покупаю и продаю, сужу и принимаю ставки… еще хороню по сходной цене. А вы, значит, из Пустоши. На богатеев-ранчеро не похожи, хрр… совсем не похожи. Гуртовщики, что ли? Из тех, что бычкам хвосты крутят? — Он сощурился, оглядел Саймона и вдруг махнул мясистой лапой в сторону ворот. — Желаете взглянуть, парни? Чемпион как раз… хрр… разминается. Моньку Зекса кончает.
— А что потом? — спросил Саймон, приподнимая бровь.
— Потом? Хрр… Потом ему другие партнеры потребны. Можно — из Пустоши. Можно — из Разлома. Хоть бляхи, хоть чечня из Кавказских Княжеств! Но только по три песюка за схватку. Вот ежели кости переломает, добавлю еще пять. Годится? Хрр?
— Утром не годится. — Саймон выдержал паузу, потом перевел глаза на плакат. — Вот вечером я бы с ним потягался. Ставки десять к одному, говоришь?
— Хрр… Десять к одному. Ты, я вижу, грамотей! Однако здоровый. — Толстяк отбросил волосы, свисавшие на потный лоб, и приказал: — Ну-ка, разденься, бычара! Драться умеешь?
Едва Саймон стянул рубаху, как волосатый кулак толстяка метнулся к его челюсти будто пушечное ядро, подброшенное тройным пороховым зарядом. Встретил он, однако, пустоту скользнув вбок, Саймон развернулся и нанес удар по почкам — не слишком сильный, но чувствительный. Толстяк охнул. Проказа загоготал.
— Умеешь… хрр… вижу, умеешь. Пожалуй, сгодишься для вечера. Продержишься пару минут… — Потирая спину, толстяк обошел вокруг Саймона, пощупал литые мышцы и одобрительно кивнул. — А может, и дольше. Но только не с Мамонтом. Удар у тебя хорош и кость крепкая, но Косой… хрр… Косой таких пачками в землю клал. Вот Васька Крюк либо там Копчик — это для тебя. С ними, хрр, и потягаешься. Годится, гуртовщик? Да или нет? Отвечай!
— Это не вопрос, — сказал Саймон, натягивая рубашку. — Вопрос в другом: сколько?
— Хрр… Сколько? Положим, два песюка в минуту. — Пашка обидно усмехнулся, и толстяк поспешил поправиться: — Ну, три. А больше получит лишь тот, кто вышибет с ринга Косого! Хочешь попробовать, парень?
— Не откажусь.
С минуту они мерились взглядами, потом Саймон уперся кулаком в капот машины и произнес:
— Мне приглянулись эти колеса. Отдашь за Мамонта? — Хрр… — Лицо толстяка вдруг сделалось серьезным. Он покосился в сторону ворот и, понизив голос, сообщил: — Знаешь, это ведь, хрр, его тачка…
— Она ему больше не понадобится, а ты свое получишь. Ставки-то десять к одному! Если знать, на кого ставить.
— Верно… хрр… — Крохотные глазки впились в Саймона. — Рискуешь, гуртовщик! Сильно рискуешь! Косой — из чемпионов чемпион. Это тебе не бычки в Пустоши!
— Там не одни бычки водились, тапирий блин, — заметил Пашка. — Водились, да перевелись.
Саймон медленно поднял руку — ту, которой опирался о капот. В металле осталась заметная вмятина. Не слишком большая, но и не маленькая — с половину кокосового ореха.
Челюсть толстяка отвисла. Это было забавное зрелище — казалось, раскрылась горловина объемистого кожаного мешка с подвешенным к нему подбородком. Несколько секунд он созерцал вмятину, затем ощупал кулак Сайма и пробурчал:
— Железный он у тебя, что ли? Ну, ладно… хрр… Приходи вечером, в шесть, развесели народец. Будут за тобой трое — Васька Крюк, Копчик и, положим, Семка Клюква. Вышибешь их, тогда берись за Косого. Все-таки десять к одному… хрр…
— Договорились, — Саймон кивнул. — Вечером кого спросить?
— Рафку Обозного. — Толстяк растопырил пятерню на жирной груди. — Меня! Я, хрр, здешний паханито. Главная власть — на арене и в ближайших, хрр, окрестностях. Так что уложишь Мамонта — забирай тачку. А не уложишь… — его взгляд метнулся к пыточной яме, из которой торчали сапоги.
— Не уложу, продашь меня в Разлом, — сказал Саймон.
— Если останется что продавать, — буркнул толстяк и скрылся за воротами.
К вечеру главная улица Сан-Эстакадо разительно переменилась. Пальмы, дома, речушка и мосты. над ней остались прежними, но шелест листьев и журчание медленных вод были заглушены гомоном, смехом, резкими гудками машин, цокотом копыт, шарканьем тысяч ноги пьяными выкриками. У живодерни, а также под портиками банка и резиденции дона-протектора маячили фигуры в синем, и среди них, судя по обилию серебряных кантов и шнуров, встречались важные чины; по мостовой тарахтели пролетки и с безумной скоростью — не меньше тридцати километров! — проносились автомобили, и хоть движение никто не счел бы оживленным, было их не так уж мало, десятка два. По мостикам фланировали щеголи в облегающих брюках, расшитых жилетах и сапогах до колен, под ручку с дамами в белых платьях, с кружевными зонтиками и веерами из перьев либо тонких расписных бамбуковых пластин. В распахнутые двери лавок и кабаков устремлялся народ, благопристойная сытая публика, какой доселе Саймон тут не видел — ни в Пустоши, ни в Дурасе, ни среди беженцев Харбохи. Простонародья, впрочем, было больше. Эти, смуглые и бородатые, в живописных отрепьях, не шастали по кабакам и не торчали на мостиках, а плотным потоком двигались к амфитеатру, то и дело шарахаясь от экипажей и машин, провожая щеголей улюлюканьем и свистом, отпуская соленые шуточки и прикладываясь к бутылям с пулькой. Рев и гогот стихали только у живодерни, а верней — у ямы; на нее поглядывали мрачно и со страхом, а на смоленских вертухаев — с откровенной ненавистью.
Саймон вместе с Пашкой и Кобелино, все — без оружия, но с дорожными мешками, протолкался к воротам, по пути удостоверившись, что лиловый автомобиль находится в прежней позиции. Вмятина на капоте была заботливо выправлена, а рядом с лимузином дежурили двое крепких парней, то ли охраняя машину, то ли встречая будущего ее владельца. Оглядев верзил, Саймон довольно кивнул, сбавил шаг и, ухватив Кобелино за локоть, поинтересовался:
— Приходилось ездить на такой?
— А как же, хозяин! С самим доном Антонио Монтальваном. Только подушки у него не кожаные, а плюшевые. На плюшевых, понимаешь, бабы скорее млеют, и потому дон Антонио…
Саймон, под одобрительным взглядом Пашки, пнул мулата в бок и приказал кончать с воспоминаниями. Его вполне устраивали кожаные подушки; главное, что были они просторны и широки, и вся их команда, включая оставшихся в придорожной венте, могла разместиться с удобством и без толкотни.