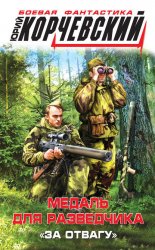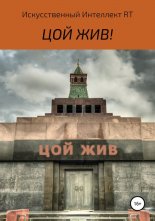Римские легионы. Самая полная иллюстрированная энциклопедия Махлаюк Александр

Однако высказанное в научной литературе мнение о том, что в римской армии не существовало такого понятия, как «парадная форма», и как в бою, так и во время учений и парадов римские солдаты имели одно и то же снаряжение[214], представляется чересчур категоричным. Известно, в частности, что во время торжественных мероприятий старшие офицеры облачались в белые одежды, а остальные надевали нагрудные украшения и наградные знаки. Так, Тацит, рассказывая о вступлении императора Вителлия в Рим в 69 г. н. э., пишет: «Перед орлами шагали, все в белом, префекты лагерей, трибуны и первые центурионы первых десяти манипул; остальные центурионы, сверкая оружием и знаками отличия, шли каждый впереди своей центурии; фалеры и нагрудные украшения солдат блестели на солнце» (История. II. 89). Кроме того, рядовые же воины снимали с оружия чехлы и выходили в полном боевом облачении, лошадей также выводили в полном убранстве, так что вид выстроенного для торжественной церемонии римского войска, блиставшего золотом и серебром, представлял весьма внушительное зрелище, способное произвести мощное впечатление на неприятеля, как показывает, например, парад, устроенный Титом под стенами Иерусалима по случаю выдачи жалованья, который описан Иосифом Флавием: «Все пространство перед городом засверкало золотом и серебром: для римлян не было ничего восхитительнее этого зрелища, для их врагов – ничего ужаснее» (Иудейская война. V. 9. 1).
Рискнем даже высказать и попытаемся обосновать мнение, что эта «внешняя» сторона военной жизни играла в Древнем Риме, пожалуй, более важную роль, чем в настоящее время или в недавнем прошлом, и самым непосредственным образом была связана с практическим применением войск в военных действиях. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, несмотря на довольно высокую степень унификации вооружения и экипировки в отдельных родах войск, в римской армии существовал достаточно большой простор – особенно у командиров разного ранга – для проявления индивидуального вкуса при выборе и приобретении защитного доспеха и личного оружия, отличающихся качеством изготовления и отдельными деталями, например, использованием драгоценных металлов и художественных элементов в их декоре, а соответственно, и стоимостью. Это связано прежде всего с тем, что воинское снаряжение производилось, вплоть до периода Поздней империи, в небольших частных мастерских или индивидуальными оружейниками, а также на так называемых легионных «фабриках», то есть в оружейных мастерских, существовавших при отдельных легионах. По словам известных специалистов по римскому оружию М. Бишопа и Дж. Коулстона, это означало, что в период принципата конечный продукт разрабатывался и изготовлялся военнослужащими для самих себя в такой степени, какую редко можно встретить в более современных армиях. Естественным результатом этого было то, что вкусы солдат находили непосредственное выражение в тех предметах, которые они заказывали или производили для себя; а поскольку они вынуждены были платить за свою экипировку, они, естественным образом, были заинтересованы в том, чтобы снаряжать себя так, как им нравилось. Поэтому экипировка подразделений в период Империи, очевидно, была в значительной мере результатом моды и вкусовых пристрастий в рамках провинциальной армии или даже отдельной воинской части[215]. Кроме того, оружие и другие элементы воинской экипировки являлись собственностью военнослужащих и были, помимо всего прочего, одним из показателей их материального благополучия, а стало быть, предметом особой персональной заботы каждого воина. Поэтому представление о жестком единообразии в одежде и снаряжении античных армий не соответствует действительности: правильнее говорить о некоей однородности этих элементов внешнего облика.
Легионер начала I в. н. э.
Во-вторых, следует иметь в виду, что войска маршировали и выполняли маневры в строю не только на парадах, но и на поле боя, где они выстраивались сплоченными частями и подразделениями, отличавшимися такими деталями вооружения, как, например, цвет и изображения на щитах, форма и украшения шлемов (здесь можно вспомнить созданный Цезарем из галлов легион «Жаворонков» – legio V Alaudae, вероятно, получивший такое название по характерным гребням на шлемах, напоминавшим хохолок жаворонка)[216]. Эти детали, несомненно, служили для того, чтобы различать соответствующие отряды во время сражения, и хорошо «читались» опытным взглядом командующего. Вместе с тем именно эти знаки являлись одним из факторов идентификации подразделений наряду, скажем, с цветом солдатских туник. Отметим, однако, что воины одного и того же подразделения, как показывают изображения на колонне Траяна, могли иметь шлемы различной формы, а украшения в виде султанов и гребней на них были подвержены изменчивой моде или вообще могли в некоторые периоды не надеваться в сражении. Возможно, что некоторые из этих элементов экипировки могли служить также и для того, чтобы опознать после боя павших солдат.
В-третьих, элементы воинского «костюма» и снаряжения были особым знаком, выделявшим военнослужащих как специфическую социальную группу, и средством их индивидуального и статусного самовыражения (причем как в жизни, так и посмертно – на надгробных памятниках, на которых очень часто погребенные воины изображались в военном наряде, с оружием и регалиями). Кроме того, некоторые элементы декора на ножнах мечей, панцирях, накладках перевязей и поясов, наградных бляхах (фалерах) и т. п. предметах вооружения и экипировки могли включать изображения членов императорского дома, различных божеств и обожествленных понятий, которые использовались, таким образом, как одно из средств офицальной пропаганды или же добровольно выбирались и заказывались самими солдатами, стремившимися таким образом заявить о своих ценностных предпочтениях[217].
Следует также подчеркнуть, что качество и характерные детали оружия и доспехов так же, как и некоторые знаки отличия (insignia, dona militaria), надевавшиеся в бой, служили, очевидно, наглядной демонстрацией воинского ранга, престижа и боевых заслуг их обладателя, что было особенно важно в таком иерархическом сообществе, каким была армия. И это имело тем более существенное значение, что в Античности решающий этап всякого сражения представлял собой рукопашную схватку в непосредственном контакте, лицом к лицу с неприятелем, сочетание коллективных действий и серии поединков с участием наиболее отважных бойцов-застрельщиков (прирожденную агрессивность и храбрость которых как раз и призваны были поощрять разнообразные награды). И в этих схватках очень важно было зримо показать противникам, с кем они имеют дело, внушить им соответствующие чувства, заранее продемонстрировав свое потенциальное превосходство. В такой ситуации экипировка и отдельного бойца, и войсковых частей в целом приобретала не только сугубо функциональное, но и знаковое значение, несла определенную информацию, подобно, скажем, боевой раскраске индейских воинов (а если говорить об античном мире, то можно вспомнить татуированные тела и раскраску кельтских воинов, нередко сражавшихся обнаженными). Не стоит забывать и о присущем римской армии духе состязательности, о столь характерном для римского солдата стремлении отличиться в бою, выделиться среди своих соратников и обратить на себя внимание начальников и командующего, о чем мы уже говорили выше.
Можно указать также еще на один немаловажный момент. Вооружение и снаряжение (несмотря на то что многие их элементы появились в римских вооруженных силах благодаря заимствованиям у других народов) были значимым показателем «технического» превосходства римлян (так же, как их дисциплина и организованность, противопоставлявшиеся в этом смысле неистовству и природной отваге варваров). Это обстоятельство, надо сказать, находит свое «идеологическое» выражение в римских изобразительных памятниках. Если в греческом искусстве (во всяком случае, до начала эллинистической эпохи) были широко распространены сцены, подчеркивающие «героическую» наготу эллинских воинов (которые, возможно, и в реальности сражались обнаженными)[218], то на римских памятниках, в частности на рельефах колонны Траяна, обнаженными в сражении представлены только германцы из вспомогательных отрядов, тогда как римские легионеры всегда изображаются в доспехах.
Важно также иметь в виду, что на любой войне весьма значимым фактором психологического воздействия на противника еще до начала сражения являлся общий вид построенных и двигающихся на поле боя войск. И роль этого фактора была особенно велика в Античности, когда исход войн обычно решался в ходе генерального сражения, а дистанционное воздействие на противника чаще имело подчиненное значение по сравнению с прямым физическим контактом. Из многочисленных высказываний античных писателей о такого рода воздействии достаточно привести только несколько наиболее характерных примеров. Плутарх, рассказывая о битве Суллы против войск Митридата Евпатора при Херонее (86 г. до н. э.), пишет: «Даже чванливая пышность драгоценного снаряжения отнюдь не была бесполезна, но делала свое дело, устрашая противника: сверкание оружия, богато украшенного золотом и серебром, яркие краски лидийских и скифских одеяний, сочетаясь с блеском меди и железа, – все это волновалось и двигалось, создавая огненную, устрашающую картину, так что римляне сгрудились в своем лагере, и Сулла, который никакими уговорами не мог вывести их из оцепенения, ничего не предпринимал, не желая применять силу к уклоняющимся от битвы, и с трудом сдерживал себя, глядя на варваров, с хвастливым смехом потешавшихся над римлянами» (Плутарх. Сулла. 16. 3–5). Наверное, еще более сильное впечатление произвело боевое развертывание македонского войска в битве при Пидне на Эмилия Павла, который, по словам Плутарха (Эмилий Павел. 19), ощутил испуг и замешательство и впоследствии часто вспоминал об этом зрелище. Если верить тому же Плутарху (Помпей. 69), даже Цезарь в битве при Фарсале был устрашен блеском оружия помпеянской конницы.
Легионер конца II – начала III в. н. э.
Указания на такого рода впечатления, конечно, представляют собой известное литературное «общее место» и обычно используются античными авторами, чтобы, противопоставляя римлян неримским народам и варварам, подчеркнуть пристрастие последних к роскоши и показному блеску, их более низкую боевую эффективность при всей их многочисленности и экзотичности их снаряжения[219]. Указывая же на единообразие строя римлян и относительную скромность их вооружения, античные историки тем самым выдвигали на первый план римское превосходство в воинской доблести. Так, Ливий, рассказывая о знаменитом поединке Тита Манлия с галлом, пишет: «…посредине остались стоять двое, вооруженные скорее как для зрелища, чем по-военному: заведомые неровни на вид и на взгляд. Один – громадного роста, в пестром наряде, сверкая изукрашенными доспехами[220] с золотой насечкою; другой – среднего воинского роста и вооружен скромно, скорее удобно, чем красиво; ни песенок, ни прыжков, ни пустого бряцания оружием…» (Ливий. VII. 10. 6–8). В изложении истории Самнитских войн тот же Ливий неоднократно противопоставляет римлян с их доблестью самнитам с их роскошным вооружением, рассчитанным на то, чтобы психологически поразить неприятеля, но на деле бесполезным. Характерно при этом, что римские военачальники внушают своим войскам мысль о том, что воину надлежит своим видом устрашать противника и полагаться не на золотые и серебряные украшения, а на железо самих мечей и собственное мужество; «доблесть – вот украшение бойца, все прочее приходит с победой, и богатый противник – всего лишь награда победителю, будь сам победитель хоть нищим» (Ливий. IX. 40. 1–6). Римский военачальник Папирий Курсор, обращаясь к легионерам на воинской сходке и говоря о таком снаряжении противника, подчеркивает, что в нем «много показной роскоши, но мало бранной силы: не гребнями ведь поражают врага, и даже разукрашенный и раззолоченный щит пронзят римские копья, и где мечом решается дело, там строй, блистающий белизной туник, скоро окрасится кровью» (Ливий. IX. 39. 11–13). Аналогичным образом диктатор Камилл, воодушевляя своих бойцов перед сражением с галлами, подчеркивает превосходство римского оружия над кельтским и как бесполезные перед истинным мужеством оценивает приемы, используемые галлами для устрашения врага: «Ведь что ужасного для идущих в бой могут сделать косматые волосы, суровость в их взорах и грозный внешний вид? Ну а эти неуклюжие прыжки и пустое потрясание оружием, и частые удары по щитам, и сколько другого расточается и движениями, и звуками среди угроз врагам из-за варварского и неразумного бахвальства, – какую пользу по самой своей природе способно это принести тем, кто нападает безрассудно, или какой страх внушить тем, кто сознательно стоит среди опасностей» (Дионисий Галикарнасский. Римские древности. XIV. 9. 4 (15)).
Стоит, кстати, отметить, что изображение Ливием внешнего облика самнитских воинов находит соответствие в вазовой живописи, в частности в серии ваз из района апулийского города Арпы, а также в росписях гробниц из окрестностей Пестума. Возможно, что пристрастие самнитов к роскошным одеждам и блестящему вооружению выражает присущий их элите воинский идеал мужественности, который контрастно отличался от римского, заключающегося в суровой простоте и непоколебимой стойкости. Другие италийские народы, с которыми приходилось сражаться римлянам, также питали пристрастие к подобному показному блеску оружия и доспехов, а некоторые использовали и еще более экзотические средства, как, например, воины Фиден, которые, по словам Флора (I. 6. 7), для возбуждения страха выходили в сражение, «словно фурии – с факелами и пестрыми повязками, развевающимися, как змеи». «Но это погребальное обличье, – замечает римский историк, – стало предзнаменованием их гибели».
Отдавая себе отчет в литературности подобного рода свидетельств и оценок, явно преувеличивающих и идеализирующих римскую простоту, не следует думать, что римские военные обращали на свой внешний облик и его использование как средства психологического воздействия на неприятеля меньше внимания, чем другие народы древности, и визуально выглядели некой «серой массой». Суть дела заключается в другом. Как можно заключить из ряда свидетельств, римляне, чьи легионные боевые порядки, конечно, не отличались чрезмерной пестротой и пышностью, отнюдь не чурались использовать демонстративный блеск оружия и тому подобные приемы. Соответствующие предписания можно найти в военно-теоретических трактатах. Онасандр, в частности, пишет (Стратегикос. 28; 29), что военачальник должен развертывать свои боевые порядки, предварительно позаботившись о том, чтобы вооружение его воинов было начищенным и сверкало, ибо «идущие в атаку отряды выглядят более устрашающими, если их оружие блестит, а грозный вид вселяет страх и смущение в сердца врага»; и от таких начищенных доспехов и поднятых над головою клинков, отражающих солнечные лучи, исходит грозное сияние войны.
Разумеется, в числе значимых и достаточно эффективных средств морально-психологического воздействия на противника перед началом боя римляне, как и прочие народы, использовали звук сигнальных труб и рогов, который мог вполне целенаправленно применяться римскими военачальниками как для воодушевления своих воинов, так и для устрашения неприятеля. Этим же целям психологического воздействия на противника служил громогласный боевой клич, дружно издаваемый всем войском, о чем также упоминает Онасандр (Стратегикос. 29). Такой особый клич, получивший распространение в период Империи, был заимствован у германцев и именовался в римской армии barritus[221]. Примечательно в этом плане свидетельство Иосифа Флавия (Иудейская война. III. 7. 25–27). Во время обороны Иотапаты (Йодфата) он распорядился, чтобы защитники города, когда легионы издадут боевой клич, заткнули уши во избежание паники. Арриан в «Построении против аланов» (гл. 25) предписывает хранить молчание до тех пор, пока враг не окажется в пределах досягаемости римского оружия. Так же действуют и легионеры Светония Паулина в битве с британцами: «Вслед за этим противники устремились друг на друга – варвары с громким криком и грозными песнопениями, римляне же в молчании и сохраняя порядок до тех пор, пока не приблизились к неприятелю на бросок копья» (Дион Кассий. LXII. 12).
Легионер III в. н. э.
Это было, очевидно, обычной римской практикой[222]. Можно в этой связи вспомнить и сообщение Аппиана (Гражданские войны. III. 68) о том, как во время так называемой Мутинской войны (43 г. до н. э.) у Галльского Форума в бой с двумя легионами Марка Антония вступил Марсов легион: эти многоопытные ветераны, «обуреваемые честолюбием, больше следуя собственной воле, чем приказу полководцев, считая эту битву своим личным делом», сражались без боевых криков, «так как это никого бы не испугало». Впрочем, выбор между двумя возможными вариантами наступлением на врага – безмолвным или громогласно-шумным (с боевым кличем и бряцанием оружия) – диктовался, по всей видимости, конкретными обстоятельствами в каждом отдельном случае[223]. Известно также, что римские бойцы, как легионеры, так и солдаты вспомогательных войск, иногда шли в бой с песнями: так первые действовали в битве при Фарсале (Дион Кассий. XLI. 60. 6) и в сражении при Лугдуне во время гражданской войны 193–197 гг. (Геродиан. III. 7. 3), а о поющих в битве германских ауксилариях сообщает Тацит (Анналы. IV. 47. 3; История. II. 22. 1).
Так или иначе, с началом непосредственного боевого столкновения противников мощным фактором психологического воздействия на сражающихся становился сам шум битвы, крики, звон и лязг оружия, ржание лошадей, рев животных и т. д. На неопытных воинов это могло оказать даже парализующее воздействие (Испанская война. 31. 6).
Вместе с тем у римлян было другое средство психологически повлиять на противника еще до начала непосредственного боевого столкновения: выучка и слаженность при совершении маневров, и оно было, наверное, не менее действенным, чем у других античных народов, греков или македонян[224]. В связи с этим можно вспомнить эпизод, описанный Титом Ливием (XL. 47. 7–9). Семпроний Гракх во время осады Кертимы в Испании в 180 г. до н. э. приказал всем своим воинам в полном снаряжении совершить серию маневров перед послами этого города. В результате рассказов посланников оказалось достаточно, чтобы город сдался без боя. Даже одно только зрелище римского войска, собранного в одном месте во всем блеске своей экипировки и выстроенного по родам оружия и подразделениями, могло иметь немалый психологический эффект, как показывает упомянутый выше рассказ Иосифа Флавия о том впечатлении, какое на осажденных в Иерусалиме иудеев произвел войсковой парад, устроенный Титом (Иудейская война. V. 9. 1). Более чем 200 лет спустя император Аврелиан, по сообщению Дексиппа (Дексипп. Фр-т. 24 = FHG. III. 682), смог произвести сильное впечатление на посольство скифов-ютунгов тем, что перед встречей выстроил перед трибуналом свои войска в боевой порядок, с золотыми орлами, императорскими изображениями и прочими штандартами на посеребренных древках (в том числе c названиями и номерами легионов, начертанными золотыми буквами). В числе других подобных примеров нужно вспомнить один из эпизодов, рассказанный Плутархом в биографии Лукулла. Когда последний во время военной кампании против армян, действуя под Тигранокертами, направил часть своего войска переправиться через реку, армянский царь Тигран, посчитав, что римляне отступают, сказал со смехом своему вельможе Таксилу: «Видишь, как бегут твои «неодолимые» римские пехотинцы?» На что Таксил ответил: «Хотелось бы мне, государь, чтобы ради твоей счастливой судьбы совершилось невозможное! Но ведь эти люди не надевают в дорогу свое самое лучшее платье, не начищают щитов и не обнажают шлемов, как теперь, когда они вынули доспехи из кожаных чехлов. Этот блеск показывает, что они намерены сражаться и уже сейчас идут на врага» (Плутарх. Лукулл. 27. 5). Здесь, как мы видим, отмечен не только блеск подготовленного к битве вооружения, но и такой важный момент, как облачение перед боем в лучшие одежды.
Античные писатели обращали внимание и на индивидуальный облик отдельного воина, внешний вид его вооружения и снаряжения как на фактор, имеющий большое психологическое и знаково-символическое значение. Так, Полибий (VI. 23. 13) отмечал, что высокие султаны на шлемах создавали впечатление, что воины имеют гораздо более высокий рост, что способствует устрашению врага. По свидетельству Арриана (Тактика. 34. 2), шлемы всадников имели различные украшения в зависимости от ранга воина или его искусства владеть конем. Известно, что передовые бойцы и знаменосцы в эпоху Империи носили шлемы, покрытые медвежьими шкурами – «для устрашения врагов»[225], как отмечает Вегеций (II. 16). Центурионы же, как известно по изображениям (например, CIL III 11213; 4060) и литературным свидетельствам, имели на своих шлемах наискось стоящие и посеребренные гребни, «чтобы их скорее узнавали» (Вегеций. II. 16), что было важно прежде всего в бою[226]. Подобная традиция, несомненно, была в римской армии очень давней. Еще во временя Полибия (II в. до н. э.) легковооруженные воины (velites) носили на голове волчью шкуру или нечто подобное, чтобы командиры могли в сражении отличать по этому знаку храбрых от нерадивых (Полибий. VI. 22. 3). Солдаты I Вспомогательного легиона, созданного из моряков Мизенского флота во время гражданской войны 68–69 гг., носили на шлемах украшения в виде дельфинов, а преторианцы – изображения скорпионов. Одно из подразделений из императорской гвардии в правление Константина Великого в IV в. называлось cornuti (от лат. cornu «рог»), видимо, по особенным шлемам, передняя часть которых была украшена парой рогов.
Важную роль, по всей видимости, играли изображения на щитах в виде молний, крыльев, звезд, животных и т. п.: они имели символическое значение и служили для различения армейских подразделений. О щитах как средстве идентификации со своим подразделением сообщает Вегеций (II. 18), по словам которого легионеры «рисовали на щитах различные знаки для разных когорт, digmata, как они сами их называют; и даже теперь существует обычай так делать». Об этом упоминают и другие античные писатели[227]. Еще более любопытный факт сообщает историк Дион Кассий. Во время дакийской войны, которую вел в 83 г. н. э. император Домициан, один из его военачальников, легат Теттий Юлиан, приказал солдатам написать на щитах свои имена и имена своих центурионов, чтобы на поле боя можно было хорошо различить, кто отличается храбростью, а кто – трусостью (LXVII. 10. 1).
Весьма значимым средством выделиться и произвести впечатление на неприятеля римляне считали саму ценность того оружия, которым они были вооружены. Плутарх сообщает, что всадники Помпея перед битвой при Фарсале (49 г. до н. э.) очень гордились своим боевым искусством, блеском оружия и красотой коней (Плутарх. Цезарь. 42). Но также известно, что и Цезарь специально заботился о том, чтобы его воины имели дорогое оружие, украшенное золотом и серебром, как для внушительности, так и для того, чтобы они крепче его держали в бою, опасаясь потерять столь дорогостоящую вещь (Светоний. Цезарь. 67; Полиэн. Военные хитрости. VIII. 23. 20). Тот же Плутарх, рассказывая о событиях накануне сражения республиканцев и триумвиров при Филиппах (42 г. до н. э.), свидетельствует: «Числом солдат Брут намного уступал Цезарю [Октавиану], зато войско его отличалось поразительной красотою и великолепием вооружения. Почти у всех оружие было украшено золотом и серебром; на это Брут денег не жалел, хотя во всем остальном старался приучить начальников к воздержанности и строгой бережливости. Он полагал, что богатство, которое воин держит в руках и носит на собственном теле, честолюбивым прибавляет в бою отваги, а корыстолюбивым – упорства, ибо в оружии своем они видят ценное имущество и зорко его берегут» (Плутарх. Брут. 38. 5–6). Этим литературным свидетельствам не противоречат современные археологические исследования: находки показывают, что богато декорированные элементы вооружения принадлежали не только офицерам, но и простым солдатам. О том, что такого рода элементы воинской экипировки могли иметь немалую ценность, свидетельствует один пассаж из «Истории» Тацита (I. 57), в котором сообщается, что легионеры верхнегерманской армии, примкнувшие к Вителлию, в массовом порядке и поодиночке вносили в казну новопровозглашенного императора свои сбережения, а если денег не было, отдавали свои наградные знаки, серебряные застежки, богато украшенные портупеи.
Скорее всего с той же целью – подчеркнуть свой статус и заслуги – надевались в битву и знаки воинских отличий (dona militaria, insignia): торквесы, фалеры, браслеты и т. д., которые к тому же, будучи изготовлены из цветных металлов, могли столь же ярко блестеть на солнце, как и начищенное оружие. По сообщению одного из продолжателей «Записок» Цезаря (Испанская война. 25. 7), во время кампании, которую Цезарь вел в Испании против сыновей Помпея, один цезарианец принял вызов на поединок со стороны противника; и на глазах своих соратников они сошлись в схватке, украсив свои щиты блестящими знаками отличия (insignia) как свидетельствами своей доблести и славы. О том, что это было принятым обычаем, может свидетельствовать одно место из «Записок» Цезаря, где он, чтобы подчеркнуть стремительность развернувшегося сражения, пишет, что времени было так мало, что некогда было возложить на себя знаки отличия и даже надеть шлемы и снять чехлы со щитов (Галльская война. II. 21). Понятно, что, выделяясь блеском амуниции, богатством вооружения, наградными знаками и т. п., воин сознательно делал себя более заметной и желанной мишенью для врага, но, с другой стороны, используя эти и другие подобные средства, чтобы отличаться от остальных соратников, воин получал больше шансов, что его храбрость в бою будет замечена и оценена командирами и товарищами. Такого рода желание выделиться и вместе с тем внушить ужас противнику приобретало иногда весьма экзотический вид, как, например, в случае с центурионом Корнидием, о котором рассказывает Флор (II. 26. 16): во время Мёзийской кампании, имевшей место в начале правления Августа, он появился на поле боя с насаженным на шлем горшком с углями, которые разгорались при движении, создавая впечатление, что из его головы исторгается пламя.
Таким образом, высказанные соображения и рассмотренные примеры позволяют, на наш взгляд, утверждать, что во внешнем облике вооруженных бойцов, воинских подразделений и их командиров заключался существенный фактор морально-психологического воздействия, значение которого ни в коем случае нельзя недооценивать, когда речь идет о понимании специфики античного, и в частности римского, военного дела. В римской армии формировался и культивировался особый воинский облик, отдельные элементы которого были насыщены знаково-символическим содержанием, обеспечивали индивидуальную и коллективную идентичность внутри воинского сообщества, играли немаловажную практическую роль как на поле битвы, так и в повседневной жизни военных, в армейских и государственных церемониях и ритуалах[228]. Римская идеология войны предполагала и подчеркивала превосходство римлян в военной «технике» и тактике, но вместе с тем отнюдь не исключала состязания в индивидуальной доблести, обнаружить которую, сделать видимой были призваны и индивидуальная воинская экипировка, и слаженные действия подразделений, также отличавшихся в своем облике известным своеобразием.
Глава 18
Легионер в бою
«Их упражнения отличаются тем же неподдельным жаром и серьезностью, как действительные сражения: каждый день солдату приходится действовать со всем рвением, как на войне. Поэтому они с такой легкостью выигрывают битвы; ибо в их рядах никогда не происходит замешательства, и ничто их не выводит из обычного боевого порядка; страх не лишает их присутствия духа, а чрезмерное напряжение не истощает сил».
(Иосиф Флавий. Иудейская война. V. 1. 1)
Бой является непосредственным применением армий. Поскольку армии состоят из людей, то главным орудием боя является человек, просчитывающий свои возможные действия в ходе схватки и манипулирующий различными вспомогательными средствами ведения вооруженной борьбы. В конечном счете война – соревнование человеческих качеств. Поэтому ко всему, что входит в понятие «военный потенциал», следует добавлять качества солдат – человеческого материала. А раз так, то немаловажным фактором, который оказывает воздействие на исход противостояния, является нравственное состояние бойца в решающий момент боя. Как бы ни был храбр человек, но в его душе в той или иной степени присутствует страх смерти и разрушения собственной плоти.
Чувство страха заразительно: возникая у одних, оно мгновенно передается другим, захватывая все большие массы людей. Наоборот, хладнокровное и мужественное поведение даже одного бойца способствует преодолению страха среди сражающихся рядом с ним – так велика сила примера! Поэтому командир должен личным примером оказывать влияние на подчиненных. Его уверенные и решительные действия побуждают воинов смело и без колебаний выполнять боевую задачу.
Поскольку в минуту опасности человек может растеряться и чувства выходят из-под контроля его сознания, необходимо научить воина умению владеть собой, вовремя уметь мобилизовать свою волю на выполнение поставленной задачи.
Для того чтобы подавить в бойцах страх, в разные эпохи было принято стимулировать воина различными способами[229]. В отличие от многих других народов, римляне не практиковали такое средство боевого возбуждения и снятия боевого стресса, как алкоголь. Римские солдаты отнюдь не были трезвенниками, но в источниках ничего не сообщается об употреблении спиртных напитков перед сражением. Поэтому вдвойне интересно понять, как вел себя в бою отдельный воин, какие действия он принимал в тех или иных условиях и какие факторы действовали на его решимость, смелость и презрение к опасности[230].
Если некоторые сведения о римской военной тактике можно почерпнуть сразу из нескольких источников, то последние практически ничего не говорят о непосредственных боевых маневрах солдат, их индивидуальных действиях и взаимодействии с сослуживцами. Хотя именно эти действия могут дать понимание римской боевой тактики непосредственно на уровне «боевой единицы» войска в виде конкретного воина.
Не секрет, что любое военное столкновение имеет собственную динамику, от развития которой зависит исход схватки. На этом уровне действуют факторы не только полководческого таланта, но и суммы индивидуальных усилий рядовых солдат. Любая ошибка на данном уровне могла привести к сумятице и более неприятным последствиям, включая панику и бегство с поля боя. С другой стороны, если дисциплина и самоорганизация каждого воина были высоки, то подобные риски существенно сокращались.
Изучение этого уровня боя в последнее время привлекает усиленное внимание военных историков, которые выделили особое направление исследований с громким названием «Лик сражения» («Face of Battle»). Начало этому направлению было положено исследованием Дж. Кигана «Лик сражения»[231], где автор отошел от общих абстрактных суждений о механизмах боя и исследовал конкретные действия отдельных воинов в ключевых фазах сражения. Такой подход был подхвачен другими исследователями, которые перенесли его в область изучения античных битв, в результате чего сформировалось направление по изучению природы боя в древности на примере действий рядовых воинов[232].
Первую попытку проанализировать психологическое состояние воинов и их действия в ходе боя предпринял еще в середине XIX в. французский офицер Ш. Ардан дю Пик[233]. Он провел интереснейший сравнительный анализ древних и современных сражений. Рассмотрев психологические аспекты сражения, он доказывал, что характер столкновения обеих сторон определялся всепобеждающим инстинктом страха и самосохранения воинов. В своем исследовании римского военного искусства А. Голдсуорти проанализировал материалы исследований С. Л. А. Маршалла[234] по психологии американских солдат, служивших в годы Второй мировой войны, и пришел к выводу, что во время рукопашной схватки как минимум три четверти из числа бойцов, стоящих во фронте, «сражаются больше с целью остаться в живых, нежели с подлинным намерением убить противника»[235]. Вместе с тем наряду с инстинктом самосохранения на поведение сражающихся или находящихся под вражеским обстрелом воинов не меньшее воздействие оказывает и такой фактор, как нежелание, чтобы товарищи обвинили его в трусости. Страх потерять репутацию в глазах тех, с кем воин жил и воевал бок о бок долгое время, часто был, очевидно, сильнее страха за собственную жизнь. Конечно, этот страх мог притупляться также под влиянием шока и усталости; большую роль играл и ранее приобретенный боевой опыт, и выучка, позволявшая чисто механически делать свое дело и выполнять команды.
В свете этого становится понятным фанатичное стремление римлян укреплять дисциплину и сплоченность своих легионов и малых подразделений[236]. Ведь от прочности товарищеских связей и взаимовыручки внутри контубернии или центурии зависели и исход боя, и жизнь отдельного бойца. Бегство одного могло повлечь за собой бегство всего подразделения. Отдельный боец вне строя мог стать легкой добычей врагов, а отряд с сомкнутыми щитами и оружием на изготовку, твердо занимающий свою позицию и подпираемый такими же отрядами, стоящими в задних рядах, был грозной силой. Дисциплинарная суровость в идеале была рассчитана на то, чтобы вселить мужество в воинов (Веллей Патеркул. II. 5. 2–3; Тацит. Анналы. III. 21. 1–2; XI. 19. 1; XIII. 35. 4). В сочетании с профессионализмом, достигаемым постоянными упражнениями с оружием, доблесть (virtus), а точнее, воинская доблесть (bellica virtus) и воинская честь (honestas) могли обеспечить психологическое превосходство римского воина над его противником, зараженным неистовством боя и полагающимся больше на отчаянную храбрость и физическую силу, а иногда и на коварство. Ключевая доблесть римского легионера заключалась в его способности исполнять приказы и любой ценой удерживать занимаемую позицию и место в строю, от чего зависел исход сражения.
Осознавая это, римские полководцы, как мы уже отмечали, всячески побуждали в своих воинах ревностное соперничество в славе и доблести, и этот мотив часто появляется в речах военачальников, обращенных к войскам перед сражением (Квинтилиан. Воспитание оратора. II. 16. 8). Упор на честолюбие давал свои результаты, и стремление отличиться доблестью усиливалось, когда солдаты могли проявить ее публично. Однако даже такое воспитание презрения к смерти не могло победить страх за свою жизнь абсолютно у всех воинов. Поэтому передние ряды боевых порядков стремились формировать из немногочисленных «прирожденных бойцов», чье мужество и доблесть могли вызвать ревность их сослуживцев. Такие бойцы есть во всех армиях и среди младших командиров, и среди рядовых солдат: это те немногие люди, любящие риск и опасности, отличающиеся прирожденной агрессивностью, у которых возбуждение битвой и желание отличиться храбростью подавляют инстинктивные страхи. Именно эти бойцы способны вести за собой своих товарищей по подразделению. Их-то и ставили командиры в передние ряды боевых порядков.
Идя в бой, легионер должен был чутко слушать команды центуриона. Но в суматохе схватки хоть и был виден поперечный гребень шлема центуриона, возвышавшийся над строем, но его приказы могли и не долетать до легионеров. Поэтому у центуриона было несколько помощников, которые находились в разных местах построения и не теряли друг друга из виду.
Центурион, стоявший в первой шеренге справа от построения, должен был вести за собой солдат, выказывая при этом не только храбрость, но и рассудительность. Горнист же находился позади центурии, рядом с тессерарием[237], который передавал приказы военачальника и, кроме того, помогал опциону следить за равнением задних шеренг. Об этих приказах легионеров извещал сигнал горна. Опцион (заместитель центуриона) также находился позади строя рядом с горнистом и тессерарием. В ходе боя он следил за порядком в строю, подталкивая легионеров своим жезлом. В случае гибели центуриона он брал командование центурией на себя. Впереди них, в центре построения, находился сигнифер – воин, несший штандарт центурии. Такое размещение знамени не позволяло врагу легко им завладеть и давало возможность зрительно отслеживать перемещения центурии не только самими солдатами, но и со стороны командования.
Построение когорты. Цифрами на рисунке отмечены: 1 – центурион; 2 – опцион; 3 – сигнифер; 4 – горнист; 5 – тессерарий
В начальной фазе боя, когда противники начинали сближение, важно было не только поддерживать, но и возбуждать боевой дух воинов. При этом у идущего навстречу опасности происходит выброс адреналина в кровь, не только мобилизующий, но и способный стать причиной неадекватного поведения, которое может выражаться в демонстрации безрассудной храбрости, что далеко не всегда поощрялось в римской армии, особенно если это было связано с нарушением дисциплины или невыполнением приказа и могло повлечь за собой нарушение строя и привести к непредсказуемым последствиям. Такое самовольство, пусть и проявленное в пылу схватки, считалось нарушением дисциплины, и, по словам Саллюстия, таких солдат могли наказывать даже жестче, «чем тех, кто осмеливался покинуть знамена и… вынужден был отступить» (Саллюстий. Заговор Катилины. 9. 4). В период Империи такое невыполнение приказа и действие, запрещенное полководцем, даже если оно могло быть успешным, каралось смертью, что закреплялось военным правом (Дигесты. 49. 16. 3. 15).
Если безрассудство отдельных бойцов, угрожающее нарушением боевого порядка, строго контролировалось, то всеобщее воодушевление, напротив, всячески поддерживалось стимуляцией воинственных эмоций, в том числе посредством бряцания оружием и боевым кличем. Демонстрация угрозы вызывает у противника страх, что иногда позволяет выиграть бой, не прибегая к схватке, очень опасной для обеих сторон.
В дополнение к сказанному в предыдущей главе отметим следующее. Инстинктивно человек, угрожая, издает крик, который в бою всегда считался важным оружием психологического подавления противника. Кроме того, громкий крик и угрожающие гримасы позволяют снизить страх, являясь своеобразным выбросом психической энергии. Древние хорошо понимали это психологическое значение боевого клича, устрашающего врага и придающего уверенность кричащим, да еще в сочетании с метательным залпом (Цезарь. Галльская война. V. 8; VII. 80; Онасандр. Стратегикос. 29; Плутарх. Красс. 23; Авл Геллий. Аттические ночи. I. 11; Аммиан Марцеллин. XVI. 12. 43; XXXI. 7. 11; Вегеций. III. 18). Крик возбуждает сражающихся и пугает врагов (Цезарь. Гражданская война. III. 92; Иосиф Флавий. Иудейская война, III. 7. 25).
Были и иные способы внушить страх и неуверенность противнику на расстоянии одним лишь своим видом. Врожденная программа, гласящая «тот, кто больше тебя, – сильнее тебя», соответствует действительности. Но животные и люди научились обманывать эту программу. Например, преувеличить себя можно за счет поднимающегося гребня над головой. Вспомним, что воины разных народов и разных времен зрительно увеличивали свой рост за счет высоких гребней и султанов на шлемах. Неудивительно, что и сейчас офицеры прибегают к любым ухищрениям, чтобы сделать себе фуражку с тульей повыше. Хоть некоторые авторы и считают, что римские легионеры эпохи принципата не надевали нашлемные украшения в бой, все же практиковались и иные варианты, когда шлемы увенчивались возвышающимися гребнями с изображением птичьих голов (типы шлемов Хеддернхайм и Уэртинг).
Пока шло сближение сторон, каждая старалась запугать противника, демонстрируя свою силу и свирепость. При этом, по мнению античных авторов, самым важным было именно количество шума, которое производили воины, и успеха добивается та сторона, которая кричит громче и в унисон. Полибий упоминает, что у римлян было в обычае наступать с подбадривающими криками, стуча оружием по щитам. Так бойцы из задних линий подбадривали впереди стоящих (Полибий. XV. 12). Эта демонстрация силы духа и решимости воинов была очень важна, так как в идеале она могла сломить решимость противника уже на стадии сближения, и тогда можно было обратить противника в бегство, выиграв схватку, не нанеся ни одного удара (Цезарь. Галльская война. V. 37; Гражданская война. III. 46). Атака противника метательным оружием была другим способом ослабить его или даже победить, не вступая в непосредственный контакт. Потери от точных попаданий вкупе с психологическим воздействием от шума, производимого залпом метательных снарядов, даже если он обрушивался на щиты, ослабляли вражескую решимость сражаться.
Действие легионеров в бою. Первые две шеренги бросают пилумы и, выхватывая мечи, идут врукопашную. Третья и четвертая шеренги бросают пилумы через головы солдат двух первых шеренг. Остальные четыре шеренги выжидают.
Характер действий и техника боя римских солдат в значительной степени определялись тем, с каким противником и в каких условиях им приходилось иметь дело. Например, в сражении с германской фалангой многие воины Цезаря бросались на врага и руками оттягивали щиты, нанося сверху раны врагам (Цезарь. Галльская война. I. 52). Следует также учитывать, что воины разных легионов могли использовать свои специфические приемы и способы сражения, которые вырабатывались благодаря знакомству с тем, как сражаются другие народы. Так, солдаты Цезаря во время гражданских войн, сражаясь в Испании с помпеянцами, были очень удивлены и даже приведены в замешательство тем варварским способом сражения, к которому прибегали последние. Этому способу они научились во время постоянных войн с луситанами[238] и прочими племенами, и заключался он в том, что легионеры сначала набегали с большой стремительностью, не слишком держа при этом строй, сражались небольшими группами и рассыпным строем; если же их теснили, то они подавались назад и оставляли занятое место (Цезарь. Гражданская война. I. 44). В подобного рода случаях военачальникам приходилось на ходу переучивать своих солдат, придумывая новые тактические приемы индивидуальных действий. Когда в ходе Африканской кампании гражданских войн легионеры Цезаря столкнулись с трудностями в борьбе с неприятельской конницей и легковооруженной пехотой, то он сам лично стал учить своих солдат «не как полководец ветеранов… но как фехтмейстер новичков-гладиаторов, наставляя их, на сколько шагов они должны отступать от врага, как они должны против него становиться, на каком расстоянии оказывать сопротивление, когда выбегать, когда отходить и грозить наступлением, с какого места и как пускать копья» (Африканская война. 71).
Как правило, когорты выстраивались в восемь рядов. Из этих рядов только первые два могли непосредственно бороться с противником. Остальные, оставаясь в относительной безопасности, в это время могли только бросать дротики через головы передовых бойцов и обеспечивать то давление, которое мешало сражающимся впереди отступить. Отступлению препятствовали также центурионы и младшие командиры, стоявшие так, чтобы видеть действия своих подчиненных и осуществлять руководство, сменяя уставших и раненых свежими бойцами из задних рядов.
Если ни одна из сторон не дрогнула и не обратилась в бегство при первой же стычке, то ближний бой, по существу, переходил в противостояние, подчас достаточно длительное.
Согласно цифрам, приводимым Вегецием (III. 15), оптимальное пространство, которое требовалось легионеру в боевых порядках, чтобы эффективно применять свое оружие, составляло 90 см по фронту и около 2 м в глубину, включая 30 см, занимаемых самим бойцом. Это давало возможность сделать один-два шага назад, чтобы метнуть пилум, а также действовать мечом при непосредственном единоборстве с противником. В то же время такая плотность строя позволяла бойцам быть достаточно близко друг к другу, чтобы чувствовать поддержку товарищей.
Вступив в индивидуальный поединок с противником, легионер атаковал его, эффективно орудуя щитом и нанося колющие удары мечом. О преимуществах колющего удара писал Вегеций: «Кроме того, они учились бить так, что не рубили, а кололи. Тех, кто сражался, нанося удар рубя, римляне не только легко победили, но даже осмеяли их. Удар рубящий, с какой бы силой он ни падал, не часто бывает смертельным, так как жизненно важные части тела защищены и оружием, и костями; наоборот, при колющем ударе достаточно вонзить меч на два дюйма, чтобы рана оказалась смертельной, но при этом необходимо, чтобы то, чем пронзают, вошло в жизненно важные органы. Затем, когда наносится рубящий удар, обнажаются правая рука и правый бок; колющий удар наносится при прикрытом теле и ранит врага раньше, чем тот успеет заметить» (Вегеций. I. 12).
Нам очень трудно представить, какие приемы непосредственно применялись при фехтовании, какую стойку занимал воин для более удобного и эффективного нанесения удара. Однако практические эксперименты членов современных военно-исторических клубов с репликами римского вооружения дают пищу для размышлений. Например, реальные эксперименты показывают ошибочность реконструкции позиции легионера при нанесении колющего удара, которую предложил П. Коннолли, исходя из конструктивных особенностей римского пехотного шлема[239].
Легионер наносит колющий удар мечом, прикрывшись щитом
Прежде всего, очевидно, что конструктивные особенности шлема никак не должны требовать постановки солдата в неудобную позицию, при которой он скрючен и наклонен вперед. Такая позиция чрезвычайно неудобна, что видно даже без экспериментирования со снаряжением, так как вся нагрузка сконцентрирована на спине и пояснице. Намного удобнее и эффективнее позиция с переносом центра тяжести на правую ногу с упором локтевого сустава – а лучше и колена – в скутум. При этом щит фиксирован для отражения удара противника, тогда как в варианте П. Коннолли нет никакой точки опоры щита; удар сверху или снизу от центра скутума элементарно перекосит его: ведь одной кистью по центру его не удержишь от перекоса. С переносом центра тяжести назад удобнее маневрировать скутумом, тогда как в позиции Коннолли это крайне затруднительно – весь вес приходится на руку и на скрюченную спину.
Тем не менее стойка, предлагаемая в реконструкции П. Коннолли, все же гипотетически может быть рассмотрена как кратковременная поза в движении при нанесении удара, после чего солдат должен был принять более удобную позицию для маневрирования. Рисунок на следующей странице показывает гипотетические варианты самых неудобных, а также наиболее удобных вариантов стоек при отражении щитом вражеского удара и нанесении мощного колющего удара.
Щит же использовался не только для пассивного отражения ударов. При кистевом горизонтальном хвате за рукоятку щита воин мог наносить по крайней мере три вида эффективных ударов. Если горло и подбородок противника оказывались незащищенными, то можно было нанести по ним сильнейший удар верхней кромкой щита. Кроме того, можно было нанести прямой удар умбоном в грудь (Ливий. XXX. 34. 3) либо удар нижней кромкой щита по стопе или голени врага. Удары щитом при столкновении шеренг скорее всего представляли собой толкание щитами противостоящей линии (Дион Кассий. XLVII. 44. 1).
Гипотетические варианты самых неудобных, а также наиболее удобных вариантов стоек при отражении щитом вражеского удара и нанесении колющего удара: 1, 2 – удобная стойка; 3 – крайне неудобный вариант; 4 – приемлемый вариант
Бой мечом против меча был самый убийственный. В ходе ближнего боя ожесточенные рукопашные схватки лицом к лицу с противником приводили к множеству травм и ранений, зачастую очень страшных и кровавых. В римское время мало что в этом плане изменилось по сравнению с тем, как сражались, получали раны и умирали герои поэм Гомера, у которого ужасы боя изображены нередко с натуралистическими подробностями. Вот как, например, в «Илиаде» описывается один из боев с участием Ахиллеса:
- Прямо летящего в встречу, его Ахиллес быстроногий
- В голову пикою грянул, и надвое череп расселся…
- Медяным дротом младого его Ахиллес быстроногий,
- Мчавшегось мимо, в хребет поразил…
- Дрот на противную сторону острый пробился сквозь чрево;
- Вскрикнув, он пал на колени; глаза его тьма окружила
- Черная; внутренность к чреву руками прижал он, поникший…
- После сразил Девкалиона: где на изгибистом локте
- Жилы сплетаются, там ему руку насквозь прохватила
- Острая пика, и стал Девкалион, с рукою повисшей,
- Видящий близкую смерть: Ахиллес пересек ему выю,
- Голову с шлемом, сотрясши, поверг; из костей позвоночный
- Выскочил мозг; обезглавленный труп по земле протянулся.
Надо сказать, что римский короткий меч в умелых руках был страшным оружием. Даже на видавших виды македонских воинов царя Филиппа V в начале II в. до н. э. нанесенные этим мечом ранения произвели сильное впечатление. По свидетельству Ливия, «до сего времени приходилось им [македонянам] видеть лишь раны от копий или стрел, изредка – от пик, да и воевать привыкли они только с греками и иллирийцами; теперь, увидев трупы, изуродованные испанскими мечами, руки, отсеченные одним ударом вместе с плечом, отрубленные головы, вывалившиеся кишки и многое другое, столь же страшное и отвратительное, воины Филиппа ужаснулись тому, с какими людьми, с каким оружием придется им иметь дело» (Ливий. XXXI. 34. 4–5).
Опасность боевого шока, несмотря на поголовное стремление римских воинов к доблести и подвигам, полностью осознавали военачальники и военврачи. Недаром некоторые римские авторы упоминают практику приучать солдат к виду крови и смерти, чтобы уменьшить в бою воздействие этих ужасающих эффектов войны (Писатели истории Августов. Максим и Бальбин. 8. 7). Вегеций считал, что даже опытные воины могут быть подвержены такого рода шоку, если они некоторое время не участвовали в военных действиях и подзабыли вид крови (III. 10).
Легионер в бою. Рельеф с мемориала в Адамклисси
В одном обнаруженном в Египте папирусе, датирующемся III в. н. э., можно найти довольно любопытные сведения, дополняющие то, что говорилось выше о боевом шоке: «Марк – Антонии, Сарапиону и Кассиану, своим родителям шлет привет. Я приветствую вас перед лицом богов. Никто не может подняться вверх по реке, так как тут идут бои между анотеритами и солдатами. Пятнадцать военнослужащих из числа сингуляриев (гвардейцев) погибло, не считая раненых легионеров и эвокатов (сверхсрочников), а также тех, кто пострадал от усталости в бою (т. е. стресса)» (P. Ross. Georg. III 1. 1–7). Марк был врачом в военном отряде, дислоцировавшемся в Александрии в III в. н. э., поэтому его сообщение о такой «усталости» интересно вдвойне. Видимо, речь здесь идет не об обычной вялости или слабости, а о более серьезных проблемах, если бойцы были занесены в список убитых и раненых. Солдаты в условиях рукопашной схватки как нельзя лучше осознавали всю опасность своего положения. Кроме непосредственного риска получить ранение в сумятице схватки, когда вокруг размахивали оружием, а сверху сыпались стрелы, дротики и камни, пущенные из пращи, солдаты видели страшную смерть своих товарищей, что, несомненно, могло сказываться на их психическом здоровье, и некоторые бойцы просто сходили с ума. Такой исход был тем более возможен, когда ожесточенные боевые действия продолжались в течение длительного времени. Нельзя исключать, что некоторые римские воины, возвращаясь к мирной жизни, страдали так называемым посттравматическим стрессовым расстройством (Post Traumatic Stress Disorder), как его называют в современной психиатрии, которое выражается в таких симптомах, как расстройство сна, навязчивые воспоминания, склонность к смерти и нанесению увечий, подавленное настроение и т. п. Вместе с тем в сохранившихся источниках на удивление мало свидетельств о подобного рода проблемах среди римских военных. Учитывая, что проявления и восприятие этого расстройства в значительной степени зависят от культурных традиций и моральных установок конкретного общества (а в этом плане римское общество, несомненно, сильно отличалось от нынешнего, в том числе и с точки зрения отношения к насильственной смерти), вряд ли правомерно проводить прямые аналогии между римскими и современными ветеранами вооруженных конфликтов[240].
Рельеф с изображением легионеров. Археологический музей, Стамбул
Согласно новым исследованиям, посвященным психологии воина, среди физиологических факторов, определяющих характер поведения военнослужащих на поле боя, важное значение имеет тип нервной системы, а также тип темперамента. Только воины с сильным типом нервной системы (их примерно 15 %) не подвергаются ощутимому психотравмирующему воздействию сложной обстановки. Все это в полной мере осознавали и римские стратеги. Поэтому можно говорить о том, что одной из важнейших задач, поставленных перед римскими военными врачами, было поддержание психологического здоровья военнослужащих. Сильный духом воин не только не испытывал в бою страх, но и не страдал угрызениями совести, убивая врагов, не только вооруженных.
Легионер убивает варвара. Деталь рельефа колонны Марка Аврелия
Сразив своего противника, солдат мог продвинуться на его место в неприятельской боевой линии, которая в результате серии таких индивидуальных побед могла начать подаваться назад, а при усиливающемся натиске и поддержке со стороны стоявших в задних шеренгах бойцов быть прорванной и опрокинутой. Схватка со всеми ее ужасами, мстительность воинов и предвкушение появившегося призрака победы над врагом еще больше распаляли в солдатах ожесточение. Когда наступал перелом в ходе боя и противник бежал, сражение перерастало в резню, в которой уже не было места жалости и состраданию. Геродиан рассказывает, как разъяренные воины во время преследования врага убивали всех, кто попадался им под руку: «Они так долго сражались и столько было убитых, что волны текущих по равнине рек несли в море больше крови, чем воды; наконец, восточные люди бежали; оттеснив их, иллирийцы одних сбрасывали в лежащее рядом море, а других, бежавших за холмы, преследовали и убивали, а вместе с ними и множество других людей, которые собрались из ближних городов и деревень поглядеть на происходящее с безопасного места» (Геродиан. III. 4. 5).
Из вышесказанного понятно, что сражение в открытом поле требовало от солдат не только умения искусно маневрировать, но и сохранять в любой ситуации боевой дух и выдержку. Столь разумное поведение в бою показывало психологическое превосходство римского легионера над его противником и в конечном счете приводило к перелому в ходе индивидуальной схватки, а затем и к сумме таких индивидуальных побед, обеспечивающих перелом в ходе боя. Но такое поведение могло быть осуществлено только очень тренированными людьми, которые знали свое место в строю и неукоснительно выполняли приказы командования. Применение этой связки требовало четкого взаимодействия между командирами и солдатами; первые должны обладать военными знаниями, вторые – уметь подчиняться. А выполнять приказы в бою может только адекватно воспринимающий окружающую обстановку и не пораженный страхом солдат. Кроме того, воин не должен был действовать как автомат: механически, не размышляя. Выполняя приказ, он должен был думать, как лучше это сделать, используя умение, на основании наблюдений представить себе картину скрытого, предугадать возможные действия противника. Таким образом, он не являлся лишенной здравого смысла и разума марионеткой в руках полководца, но, подчиняясь приказам, исполнял их рассудительно и инициативно. Выработка таких навыков была одной из важнейших задач, которой римское командование уделяло большое внимание, постоянно тренируя солдат как физически, так и психологически, подготавливая их к решающему моменту схватки.
Глава 19
Полководец в бою
«Для солдата в тяжелом бою поистине самое приятное зрелище – благоразумный император, который усердно соучаствует в трудах… который бодр и бесстрашен в грозных на вид обстоятельствах, а там, где воины чересчур отважны, строг и непреклонен. Ибо подчиненные обычно подражают командующему в осмотрительности и отваге».
(Юлиан Отступник. II Панегирик Констанцию. 87 B–88 B)
Командование войсками в любую историческую эпоху – деятельность исключительно многогранная и ответственная. Она требует от военачальника разнообразных морально-волевых качеств и интеллектуальных способностей, различных специальных познаний и умений. На протяжении своей истории римляне, как и другие народы, вырабатывали свой идеал полководца. Разные его грани воплощались в деятельности многих выдающихся римских полководцев времен Республики и Империи. Римская практика руководства войсками также имела свои специфические особенности, которые обусловливались как идеальной моделью поведения военачальника, так и характером и техническим уровнем военной организации. На этих двух взаимосвязанных сторонах военного командования – идеологии и практике римского военного лидерства – мы и остановимся в данной главе[241].
Начнем с вопроса о том, какие знания, умения, морально-психологические качества считали римляне необходимыми полководцу. Выше мы уже цитировали характеристику качеств, необходимых полководцу, из трактата Онасандра (глава 8). Ее можно дополнить многочисленными высказываниями других римских и греческих авторов. Разносторонний перечень доблестей полководца мы находим, в частности, у Цицерона[242]. Рассуждая о том, в чем состоит наука полководца, он считает нужным сначала дать определение самого полководца (он именует его «руководителем военных действий»), а потом уже говорить о войске, о лагерях, о маршах, о сражениях, об осадах городов, о снабжении, об устройстве и избегании засад. «Тех, кто это осознал и постиг, – резюмирует Цицерон, – я и буду считать полководцем» (Об ораторе. I. 48. 210). Главными же качествами настоящего полководца Цицерон считал четыре: знание военного дела, доблесть, авторитет и удачливость, к которым он добавляет «трудолюбие в делах, храбрость в опасностях, усердие в начинаниях, быстроту в действиях, разумную предусмотрительность» (О предоставлении империя Гн. Помпею. 11. 28–29), а также ряд моральных достоинств: бескорыстие, воздержанность, верность, доступность, ум, человечность (там же. 13. 36). Упоминает он и ораторские способности (там же. 14. 42).
Рельеф с арки в Оранже (Аравзион)
Действительно, роль красноречия в деятельности римского полководца ни в коем случае не следует недооценивать[243]. В Риме «все начинается с речи, и война не исключение из этого правила»[244]. Редко какое описание римских сражений обходится без упоминания или без изложения речей полководцев, обращенных к выстроенным перед боем войскам. Умение влиять на подчиненные войска искусной речью, убеждая и воодушевляя их, было непременной чертой образа выдающегося полководца. Онасандр пишет о том, что в полководцы следует выбирать человека, владеющего словом, ибо это качество приносит огромную пользу на войне: призывная речь военачальника перед началом сражения заставляет воинов презирать опасности и страстно стремиться к подвигам, даже звук боевой трубы не возбуждает их в такой степени, как речь, произнесенная во славу доблести; при неудачах же умелая увещательная речь командующего возвращает воинам бодрость, оказываясь даже полезнее ухаживающих за ранеными врачей (Стратегикос. 1. 1; 13–16). Та же мысль звучит в риторическом вопросе известного учителя ораторского искусства Квинтилиана: «Разве не ораторское искусство часто возвращает боевой дух устрашенным воинам и избавляет их от страха, и не оно ли убеждает устремившихся навстречу опасностям битвы бойцов в том, что слава дороже жизни?» (Воспитание оратора. II. 16. 8). «Во время войны и в боевом строю, – пишет другой ритор, – нуждаются воины в том, чтобы, благодаря речи и ободрению военачальника, превзошли они самих себя в решительности» (Дионисий Галикарнасский. Искусство риторики. 7. 2). По свидетельству Иосифа Флавия (Иудейская война. VI. 1. 5), во время штурма Иерусалима Тит обратился к своим воинам с речью в твердом убеждении, что для возбуждения боевого духа более всего пригодна вселяющая надежду речь и что призывы полководца в сочетании с обещаниями заставляют солдат забывать об опасностях. Характерно, что некоторые римские военачальники не упускали случая обратиться с речью к солдатам, даже если их боевой дух и без этого был на должной высоте (Александрийская война. 22; Тацит. Агрикола. 33).
В речах полководцев давались также наставления и разъяснения особенностей и замысла предстоящего сражения (Цезарь. Галльская война. VII. 19; Александрийская война. 16; Аппиан. Гражданские войны. II. 81; Тацит. Анналы. I. 67; XIV. 36). Как пишет Вегеций (III. 12), «благодаря убеждениям и поощрениям вождя у войска растут храбрость и мужество, особенно если они понимают, что метод предстоящего сражения таков, что они могут надеяться легко добиться победы. Затем нужно указать на неспособность и ошибки врагов и, если они раньше были побеждены нами, напомнить об этом». Тацит пересказывает подобную речь Германика (Анналы. II. 14). Собрав войско на сходку перед сражением, он разъясняет, что римский воин может успешно сражаться не только в открытом поле, но если разумно использует обстановку, то и в лесах, и в поросших лесом горах. «Нужно, – конкретизирует он, – учащать удары, направляя острие оружия в лицо: у германцев нет панцирей, нет шлемов, да и щиты у них не обиты ни железом, ни кожею – они сплетены из прутьев или сделаны из тонких выкрашенных дощечек. <…> Только сражающиеся в первом ряду кое-как снабжены у них копьями, а у всех остальных – обожженные на огне колья или короткие дротики. И тела их, насколько они страшны с виду и могучи при непродолжительном напряжении, настолько же невыносливы к ранам; германцы, не стыдясь позора, нисколько не думая о своих вождях, бросают их, обращаются в бегство, трусливые при неудаче, попирающие законы божеские и человеческие, когда возьмут верх».
Очевидно, для римского полководца недостаточно было просто отдавать приказы и воодушевлять войска, но необходимо было убеждать своих подчиненных в необходимости и целесообразности тех или иных действий.
Ободряющие речи перед началом сражения произносились полководцем «по воинскому обычаю», как выражается в одном месте Цезарь (Гражданская война. III. 90). Признаком внезапности вражеской атаки является невозможность обратиться к солдатам с речью (Тацит. История. IV. 33). Как правило, такая полководческая речь непосредственно предшествует сигналу к бою и назначению пароля (Африканская война. 58. 3; Плутарх. Брут. 41), но нередко словесное ободрение воинов требовалось и в разгар сражения (Цезарь. Галльская война. II. 21; Аппиан. Война с Митридатом. 49; Аммиан Марцеллин. XVI. 12. 28). Понятно, что боевая обстановка не оставляла времени для пространных речей, а протяженность боевого строя исключала возможность обращения сразу ко всему войску. Часто поэтому речь полководца сводилась к набору призывов и лаконичных увещаний. Командующий произносил слова ободрения и воодушевлял воинов на бой, либо обходя ряды выстроенного войска, либо объезжая их верхом на коне и чаще всего по очереди обращаясь к отдельным частям, находя для каждой особые слова. Вот, например, как Тацит излагает подобную речь: «Цериал напоминал солдатам о древней славе римского имени, о победах, одержанных ими и в старину, и совсем недавно, призывал их навсегда покончить с коварным, трусливым, в сущности, уже разбитым врагом, уверяя, что римским солдатам предстоит не сражаться, а мстить… К каждому легиону Цериал обращался с теми словами, которые могли особенно сильно подействовать на солдат. Воинов он назвал покорителями Британии; шестому напомнил, что лишь благодаря его могучей поддержке Гальба стал принцепсом; бойцам второго сказал, что начинающийся бой будет для них первым, что здесь им предстоит стяжать славу своему новому знамени и новым значкам когорт. «Эти лагеря – ваши, вам принадлежат эти берега! – воскликнул Цериал, обращаясь к легионам германской армии и обводя рукой окружающие поля. – Пусть же враги кровью заплатят за попытку лишить вас ваших владений». Эти слова были встречены особенно громкими криками – солдаты, уставшие от длительного мира, рвались в бой; другие, утомленные войной, стосковались по спокойной жизни и надеялись, что предстоящее сражение принесет им награды, а вслед за ними желанный отдых» (Тацит. История. V. 16).
Статуя императора Тита из Геркуланума
В некоторых случаях полководец мог поручить произнести речь отдельным начальникам (Плутарх. Катон Младший. 54), но солдаты могли расценить это как знак неуважения к ним (Плутарх. Антоний. 40).
Конечно, большинство полководческих речей в сочинениях античных историков являются их собственным творением, данью требованиям жанра. Но вряд ли на этом основании стоит вообще отрицать, как делают некоторые исследователи[245], практическую значимость этих речей как средства управления войсками, прежде всего их морально-психологическим состоянием.
Что касается полководческих знаний и искусства, то к ним, согласно римским писателям, относились разнообразные практические умения, а именно: умение выбрать место для лагеря, обеспечить подвоз продовольствия, обезопасить себя от засад, выбрать удобный момент для битвы, построить войска и подкрепить их резервами (Ливий. IX. 17. 15; XLIV. 22. 8). О том, что такое представление было вполне стандартным, свидетельствуют слова ритора Квинтилиана, который, используя в одном месте сравнение из военной сферы, говорит о достоинстве полководца, способного определять диспозицию своих войск для различных ситуаций боя, удерживать территории посредством наблюдательных постов и охраны городов, добывания продовольствия, контроля за дорогами, а также умеющего распределять свои силы на море и на суше (Воспитание оратора. VII. 10. 13). Тацит (История. III. 56), подчеркивая невежество Вителлия в военном деле, пишет, что тот был неспособен что-либо предвидеть и рассчитать, не знал ни порядка совершения маршей, ни организации разведки, не умел ускорить или замедлить ход военных действий.
Действительно, подготовка к сражению, маневрирование и непосредственное руководство боевыми действиями, безусловно, относятся к важнейшим элементам военного искусства. Понятно, однако, что в разных обществах и в разные исторические эпохи формы и способы участия высших военачальников в бою существенно различались, строились по различным моделям, по-разному воспринимались и оценивались общественным мнением. Вопрос о том, каким образом управлялась римская армия непосредственно во время сражения, во многом остается неясным. Здесь важно прежде всего выяснить, где во время сражения полководец должен был находиться и какие действия предпринимать, как вести себя, чтобы наиболее эффективно обеспечить решение тактических и стратегических задач, то есть добиться победы над противником в данной битве и в войне в целом.
Статуя императора Траяна
А. Голдсуорти, один из первых обративших внимание на эти вопросы, выделяет и анализирует три варианта местонахождения римского военачальника во время сражения[246].
1. Военачальник находится в тылу, наблюдая за сражением в целом и вводя в случае необходимости резервы.
2. Военачальник принимает непосредственное участие в бою, сражаясь вместе со своими солдатами в первых рядах, чтобы воодушевить войска своим личным примером.
3. Военачальник располагается в непосредственной близости к боевым порядкам и перемещается вдоль поля битвы, оценивая действия своих подчиненных, отслеживая ситуацию на отдельных участках и внося в нее требуемые и возможные коррективы.
Говоря о соотношении этих трех вариантов в римской военной истории, Голдсуорти отмечает, что только немногие римские военачальники во время сражения постоянно оставались в тылу, руководя боевыми действиями через посыльных или сигналы. Примерами военачальников, которые направляли действия своих войск, находясь в тылу, могут служить Агрикола в битве у горы Гравпий (Mons Graupius) в Британии и Арриан, который определяет свое место как командующего в предполагаемом сражении против аланов в центре позади строя, где он стоит с резервом в 300 пехотинцев и около 200 всадников (Арриан. Построение против аланов. 22–23). Обычное же место командующего у римлян, согласно Вегецию, было на правом фланге (Вегеций. II. 18), однако в диспозиции, предлагаемой Аррианом, там руководит Валент. Возможно, Арриан в данном случае следовал примеру Ксенофонта Афинского (Ксенофонт. Анабасис. I. 8. 22–23). У римлян командование центром считалось вторым по значимости местом (Вегеций. II. 18).
Третий вариант, по мнению Голдсуорти, был наиболее распространенным, хотя достаточно рискованным с точки зрения личной безопасности. Такой мобильный стиль командования требовал от полководца способности учитывать отдельные детали разворачивающегося сражения, «читать» ход битвы и предвидеть, где личное присутствие военачальника может более всего понадобиться на том или ином ее этапе. При этом римский военачальник призван был играть одновременно две роли – «генерала» и лидера, как определяет их Голдсуорти, которые в совокупности и составляли «доблесть» полководца в широком смысле слова, включавшую, по сути дела, как «технические» и тактические умения, так и личную храбрость[247]. В первой роли полководец действовал как тактик, контролировал и корректировал ход битвы, а во второй – воодушевлял свои войска, поскольку римские солдаты, как мы уже отмечали, всегда стремились проявить храбрость публично, когда свидетелями их мужества оказывались полководцы. «Счастливы те воины, – восклицает Плиний Младший, обращаясь к Траяну, – чьи верность и усердие удостоверялись не через вестников и посредников, но тобой самим, не ушами твоими, но глазами» (Панегирик Траяну. 19). И это было достаточно распространенной практикой. По словам Иосифа Флавия (Иудейская война. V. 7. 3), главной причиной мужества римских солдат был Тит, «появлявшийся повсюду и всегда бывший на виду у воинов. Выказать слабость в присутствии Цезаря, сражавшегося вместе со всеми, считалось ни с чем не сравнимым позором, зато для тех, кто отличался в бою, Цезарь был одновременно и свидетелем и награждающим, ибо уже одно то, что Цезарь признал чьи-либо заслуги, было само по себе большой выгодой. И поэтому многие выказывали рвение, зачастую превышавшее их силы». Тиберий во время штурма Серециума в Далмации в 9 г. н. э. сидел на высокой платформе не только для того, чтобы, наблюдая за ходом боя, оказывать, где необходимо, помощь, но и для того, чтобы воодушевить своих людей сражаться более храбро (Дион Кассий. LVI. 13). Тит наблюдал за осадой Иерусалимского храма из крепости Антонии, чтобы никто из храбрецов не остался незамеченным и обойденным наградой (Иосиф Флавий. Иудейская война. VI. 2. 5).
Император Траян вступает в бой с непокрытой головой в сопровождении спальника, несущего его шлем. Рельеф с Форума Траяна
При третьем варианте обязанности командующего были разнообразны, особенно если сражение развивалось стремительно. В этом случае приходилось одновременно делать всё сразу, подобно Цезарю во время кампании против белгов в 57 г. до н. э.: нужно было «выставить знамя (это было сигналом к началу сражения), дать сигнал трубой, отозвать солдат от шанцевых работ, вернуть тех, которые более или менее далеко ушли за материалом для вала, построить всех в боевой порядок, ободрить солдат, дать общий сигнал к наступлению. Всему этому мешали недостаток времени и быстрое приближение врага» (Галльская война. II. 20). Обычный же порядок, согласно Онасандру (Стратегикос. 33), предполагал, что во время сражения военачальник должен объезжать верхом ряды своего войска, «чтобы показывать себя тем, кто подвергается опасности, хвалить храбрых, грозить робким, приободрять вялых, заполнять разрывы в боевых порядках, перемещать при необходимости отряды, наперед предвидеть решающий момент, срок и исход битвы». Полководец мог обходить ряды войска и пешком (Африканская война. 81).
Онасандр (Стратегикос. 32–33) подчеркивает, что военачальник должен, ведя наблюдение за силами и построениями врага, корректировать план действий, когда битва уже началась. Важным моментом было своевременное введение в действие резервов, использование которых было характерной чертой римской тактики. Полководец должен был вводить в действие резервы (subsidium), чтобы развить успех или же в случае непредвиденного и неблагоприятного изменения обстановки переломить ход битвы (Тацит. История. V. 16).
Для направления хода сражения в распоряжении римских военачальников были разнообразные сигналы. Вегеций (III. 5) подразделяет их на три вида: словесные, звуковые и немые. К первым относились не только отдаваемые голосом приказы, но и пароли, использовавшиеся в караулах и в сражении для различения своих и чужих. Паролем, который, как правило, давался командующим, служило какое-нибудь слово или выражение, например: «победа», «доблесть», «слава оружия» и т. п. К звуковым сигналам относились те, которые даются горнистом, трубачом или на рожке. Немыми сигналами служили орлы, драконы[248], значки манипул (signa), знамена (vexilla), флажки (flammulae), конские хвосты, пучки перьев, а также знаки рукой и различные элементы на одежде или оружии. Поэтому на поле боя солдаты должны были держать в поле зрения свои знамена и следовать за ними. Общие сигналы к снятию лагеря, началу атаки, штурма или отступления подавались прямой трубой (tuba). Рожок (cornu), на котором играл корницен, подавал сигнал для знаменосцев. В сражении оба инструмента часто звучали совместно. Менее известны функции и предназначение третьей разновидности духовых инструментов – букцины, которой пользовались реже. Трубачей (tubicenes) было 39 на легион: 27 для манипул когорт от 2-й до 10-й, пять для 1-й когорты, три для конницы и три для офицеров (Арриан. Тактика. 14. 4). Корниценов, распределенных по когортам и коннице, в легионе было 36 (в отличие от трубачей, их не было при командирах). Была, кстати сказать, и особая должность горологиария (horologiarius), который указывал музыкантам, в какой момент они должны подавать сигнал к смене караулов.
Сигналом, призывающим к оружию, в период Республики служило знамя (vexillum), поднятое над палаткой полководца. Его использовал Цезарь, когда его войско подверглось атаке во время обустройства лагеря (Цезарь. Галльская война. II. 20). Ночью использовались костры (Аппиан. Испанская война. 90–92; Цезарь. Галльская война. II. 33; Гражданская война. III. 65). Сигнал трубой не всегда мог быть расслышан на дальнем расстоянии. Например, когда Цезарь в одном из сражений приказал трубить отбой, легионеры не расслышали звуков трубы, так как их отделяла от Цезаря большая долина (Цезарь. Галльская война. VII. 47. 1). Сигналы на дальние расстояния могли передаваться с помощью факелов, костров или дыма, чтобы, например, отозвать фуражиров или солдат, работавших далеко от лагеря. Известен только один пример, когда приказ во время сражения был послан в письменном виде: это случилось в первой битве при Кремоне в 69 г., когда курьер-нумидиец доставил послание с приказом императора Отона полководцам выступать как можно скорее (Плутарх. Отон. 11). Когда во время Африканской войны Цезарь был окружен войсками Лабиена, он приказал, чтобы каждая когорта развернулась так, чтобы можно было сражаться на два фронта (Африканская война. 12). Вероятно, и для столь редкого маневра существовал особый сигнал.
Таким образом, от полководца требовалось умение тщательно подготовить свое войско к битве, определить диспозицию и использовать правильную тактику. Он должен был обладать также умением понимать психологию войны. Личная храбрость в сочетании с присутствием духа необходима была для воздействия на поведение воинов в бою. Этот момент подчеркивал Полибий (X. 3. 7), по словам которого «полководцы должны обладать присутствием духа и быть отважными – это качества, которые действительно являются самыми важными для опасных и рискованных предприятий».
Совсем редкими, считает Голдсуорти, были случаи, когда полководец действовал в переднем ряду боевых порядков как простой воин. При этом английский историк возражает против той распространенной точки зрения, что способности римских военачальников заключались прежде всего в тактическом искусстве. Не соглашается он и с мнением, что исход сражений, которые, как правило, не предполагали сложных маневров и координации действий различных родов войск, лишь в ограниченной степени зависел от командования и контроля со стороны полководца, но преимущественно – от усилий самих солдат; поэтому для римского военачальника важно было в первую очередь создать образец поведения для своих воинов, демонстрируя личную, сугубо воинскую доблесть в бою[249]. Военачальники стремились обосновать свое превосходство и притязания на лидерство не столько наличием особых профессиональных полководческих качеств, сколько желанием и умением участвовать в рукопашном бою и поединках[250]. Это связано с тем, что для римской знати традиционно было важно снискать воинские отличия и славу, которые открывали возможности для успешной государственной карьеры. Существует также точка зрения, что, в отличие от греческих военачальников вплоть до Александра Македонского, римские командующие даже в эпоху Республики редко сражались впереди[251], а в период Империи подобные примеры были редкими исключениями, лишь подтверждающими общее правило. Императоры же вообще до III века крайне редко участвовали непосредственно в сражениях. Например, Дж. Лендон полагает, что только с Тита, многократно принимавшего участие в боевых схватках в ходе осады Иерусалима, в императорской армии получает все большее распространение обычай героического лидерства, причем фактором такого изменения служил пример Александра Великого[252].
На наш взгляд, в римской традиции личное участие военачальника в бою всегда сохраняло важное если не практическое, то по меньшей мере идеологическое значение. Именно здесь обнаруживается очевидное расхождение между теоретическими предписаниями греков и преобладающими оценками римских авторов. Например, согласно Ксенофонту (Домострой. 21. 7), лучший военачальник не тот, кто телесно сильнее своих воинов и превосходит их искусством обращаться с оружием и конем, кто кидается в опасность впереди всех, но тот, кто умеет внушить солдатам стремление идти за ним в любую опасность. Полибий хвалит, к примеру, Филопемена за то, что тот не занимал места впереди войска в противоположность распространенной практике (X. 24. 3). Греческий историк удостаивает похвалы Ганнибала, который заботливо охранял себя от напрасного риска, а также Сципиона, который хотя и участвовал в боях, но по возможности уклонялся от опасности (X. 33. 3; X. 13. 1)[253]. Напротив, Марцелла, погибшего в случайной схватке, Полибий осуждает за неподобающее полководцу легкомыслие (X. 32. 9–10). Эти рассуждения, вероятно, использовал Онасандр (Стратегикос. 33), подчеркивая, что военачальнику не следует лично вступать в бой в качестве простого солдата: полководец подобен кормчему на корабле (то же сравнение использует и Полибий) и приносит больше пользы своим умом, а не силой и отвагой (cp. Ксенофонт. Домострой. 21. 8). Правда, Онасандр оговаривается, что военачальник, чтобы возбудить боевой дух войска, должен выказать себя храбрым воином, но сражаться, помня об осторожности.
Безрассудная храбрость военачальника и у римских авторов могла иногда толковаться как «неистовство», «дерзкая отвага». Как пишет, например, Цицерон (Об обязанностях. I. 23. 81), «…опрометчиво бросаться в сражение и врукопашную биться с врагом – дикость, подобная звериной». Характерно, однако, что Цицерон тут же отмечает, что если обстоятельства этого требуют, то надо не на жизнь, а на смерть сразиться в рукопашном бою и предпочесть смерть рабству и позору. И тот же Цицерон превозносит одного из своих подзащитных одновременно и как храбрейшего воина, и рассудительнейшего полководца (В защиту Флакка. 3. 8).
У большинства же римских авторов одобрение вызывает совмещение «обязанностей смелого воина и доблестного полководца» (Саллюстий. Заговор Катилины. 60. 4)[254]. Например, Цезарь высоко оценивает действия своего легата Луция Котты, который «поспевал всюду, где этого требовало общее благо, обращался со словами ободрения к солдатам и, лично участвуя в бою, исполнял одновременно обязанности полководца и солдата» (Галльская война. V. 33). Цицерон восхваляет консулов Пансу и Гирция за их действия против Марка Антония под Мутиной в 43 г. до н. э., называя первого, сражавшегося в передовых рядах и дважды раненного, прославленным императором[255], а о втором, который в бою сам нес орла легиона, говорит как о доселе невиданном прекрасном образе императора (Филиппики. XIV. 26; 27). По сообщению Светония (Август. 10. 4), Октавиан, не отличавшийся ни физической силой, ни храбростью, во время этой же войны исполнил обязанности не только полководца, но и простого солдата[256]: взяв у раненого знаменосца орла, он долго носил его на своих плечах. Во время Иллирийской кампании Октавиан также принимал личное участие в бою и был дважды ранен, один раз при штурме одной крепости, когда он сам бросился вперед с немногими спутниками и телохранителями, заставив войско устыдиться и последовать за ним[257]. Согласно Тациту (История. III. 17), Антоний Прим во время яростного сражения «не упускал ни одной обязанности твердого полководца и храброго солдата»: он удерживал колеблющихся, отдавал распоряжения и лично вступил в схватку, пронзив копьем убегавшего знаменосца и выхватив у него знамя. И это заставило воинов устыдиться своего бегства. В такой же манере действовал и Сулла в сражении при Орхомене (Плутарх. Сулла. 21; Фронтин. Стратегемы. II. 8. 12).
Доблесть военачальника, проявляемая непосредственно в боевой схватке с врагом, превозносится в оде Горация, посвященной пасынкам Августа Друзу и Тиберию Клавдию по случаю побед, одержанных в 15 г. до н. э. над альпийскими племенами. Он о последнем поэт:
- В пылу сражения стоило зреть его,
- Как он без счета груди врагов дробил…
- …полки врагов
- Без устали теснил Тиберий,
- В самую сечу с конем врываясь.
- <…>
- Громил так Клавдий, ринувшись в смертный бой.
- Одетых в латы варваров без потерь;
- Кося и задних и передних,
- Трупами землю устлал победно.
Известно стихотворное посвящение Венере Эруцинской от имени Луция Апрония Цезиана, который вместе со своим отцом, проконсулом провинции Африка, успешно воевал против нумидийцев, восставших под предводительством Такфарината (Тацит. Анналы. III. 21). В надписи сообщается, что Апроний (именующий себя потомком полководца и полководцем), посвятил в дар богине собственный меч, затупившийся от ударов по врагам, и другое оружие, в том числе копье, которым наносил удары обращенный в бегство варвар (CIL X 7257 = ILS 939). Император Тиберий наградил отца почетной статуей, также посвященной в храм Венеры, а сына – досрочным избранием в жреческую коллегию. Даже если мы имеем дело с поэтическим преувеличением, по всей видимости, сам Луций (а возможно, и его отец) активно участвовал в боях. Другие источники эпохи Империи также свидетельствуют об участии и (или) гибели в бою военачальников высокого ранга. Так, в битве с сарматами в 70 г. н. э. погиб наместник Мёзии Фонтей Агриппа, «который храбро сражался» (Иосиф Флавий. Иудейская война. VII. 4. 3). Позже на войне погиб и другой наместник этой провинции Г. Оппий Сабин (Светоний. Домициан. 6. 1; Евтропий. VII. 23. 4; Иордан. XIII. 76; Орозий. VII. 10. 3). В правление Коммода в Британии вместе со своим войском погиб неизвестный военачальник (Дион Кассий. LXXII [LXXIII]. 8. 2). Около 170 г. н. э. сенат по инициативе Марка Аврелия принял решение установить почетную статую наместнику Дакии М. Клавдию Фронтону, который «погиб, до последнего вздоха храбро сражаясь за государство против германцев и язигов» (CIL VI 1377 = ILS 1098). М. Валерий Максимиан, командуя одной из вспомогательных частей, сразил собственной рукой вождя племени наристов Валаона, за что удостоился награды от императора Марка Аврелия (АЕ 1956, 124). Подобный подвиг в начале правления Августа совершил Марк Лициний Красс, внук триумвира, который в 29 г. до н. э. во время вторжения римлян в Мёзию в ответ на опустошение бастарнами Фракии одолел в поединке вождя бастарнов Дельдона и снял с него доспехи (Дион Кассий. LI. 24. 4).
В некоторых высказываниях прямо подчеркивается значение такой храбрости как примера, воодушевляющего воинов. Ибо, по словам Плутарха, «подлинная жажда доблести возникает лишь из глубочайшей преданности и уважения к тому, кто подает в ней пример…» (Катон Младший. 9). Эту тему подробно развивает Юлиан во 2-м Панегирике Констанцию (Речи. II. 87 B–88 B), который мы процитировали в эпиграфе к данной главе. По мысли оратора, полководец вообще должен приучать свое войско не бояться трудов и опасностей, действовать не только увещеванием, поощрениями или строгими наказаниями, но личным примером, показывая, что он сам является таким, какими хочет видеть своих воинов; поэтому военачальник должен воздерживаться от всякого наслаждения, не стремиться к богатству, не грабить своих подчиненных, не предаваться лени, демонстрировать подчинение законам и приказам. В некоторых случаях личный пример полководца может даже противопоставляться обычным дисциплинарным средствам. Например, у Ливия (VII. 32. 12) Марк Валерий Корв перед сражением с самнитами призывает воинов: «Пусть… не слова мои вас ведут, а дела, и не только подчинение дисциплине, но и мой пример».
Подобного рода эпизоды известны в боевой биографии многих римских императоров и военачальников, как наиболее выдающихся (Сципионов Старшего и Младшего, Катона Старшего, Мария, Суллы, Цезаря, Тита, Максимина Фракийца, Константина I, Юлиана), так и менее прославленных, как, например, консул 202 г. до н. э. Сервилий Гемин Пулекс, который 23 раза участвовал в поединках, бросая вызов врагу (Ливий. XLV. 39. 16), или Петилий Цериал, подавлявший восстание Цивилиса в Галлии в 70 г. н. э. (Тацит. История. IV. 77). По свидетельству Плутарха (Серторий. 4), Серторий, начальствуя над войсками, творил в бою чудеса, не щадил себя в сражениях, в одном из которых даже потерял глаз. Также и император Проб (276–282 гг. н. э.), по словам Зосимы (I. 67. 3), неистово сражался в битвах, идя в бой в первых рядах.
Следует отметить, что хорошая физическая подготовка и воинская выучка, полученные в детстве, позволяли многим римским военачальникам не только служить для своих подчиненных образцом в военных упражнениях, проходивших в поле и на лагерном плацу, но и совершать незаурядные подвиги в сражениях, одолевая в единоборствах вражеских вождей[258], подобно Сципиону Эмилиану, Клавдию Марцеллу, наместнику Македонии Лицинию Крассу, убившему в 29 г. до н. э. в поединке вождя бастарнов Дельдона (Дион Кассий. LI. 24. 4), Германику (Светоний. Калигула. 3.2), Каракалле (Дион Кассий. LXXVII. 12. 2). Выдающимися достижениями в силе и выносливости отличался также Серторий, который, по сообщению Плутарха (Серторий. 3), во время войны с кимврами и тевтонами, потеряв коня и получив рану, смог переправиться вплавь через Родан и сохранить при этом свои доспехи и щит. Если верить Светонию (Тит. 5. 3), Тит во время осады Иерусалима сам поразил двенадцатью стрелами двенадцать врагов.
Император воодушевляет солдат своим примером, бросаясь в гущу врагов. Деталь рельефа саркофага Людовизи. Первая половина III в. н. э. Рим. Музей Терм
В общественном мнении римлян (и тем более самих солдат) полководец мог заслужить упрек скорее в недостаточном личном участии в сражениях, чем в недостатке осторожности[259]. Сципиона Младшего, который и до того, как занять пост командующего, и после не раз проявлял исключительную личную отвагу в бою (вспомним его знаменитое единоборство с испанским бойцом), тем не менее упрекали в том, что он мало участвует в боях. На это он отвечал, что мать родила его полководцем, а не бойцом (Фронтин. Стратегемы. IV. 7. 4). Вряд ли такой ответ мог бы прийтись по нраву самим солдатам. Для них, наверное, была более характерна позиция, о которой пишет Аммиан Марцеллин (XXIV. 6. 15): «…солдаты прославляли Юлиана и благодарили его за то, что он, являясь повсюду столь же вождем, сколь и воином-бойцом, так блистательно вел дело…» Нельзя, по всей видимости, оценить как прямое осуждение личного участия в бою те сетования, которые принадлежат автору панегирика в честь императора Константина: «Но ты, император, думаешь, что я прославляю все, что ты сделал в этом сражении? А я вновь жалуюсь. Ты все предусмотрел, все устроил, исполнил все обязанности Верховного главнокомандующего, но зачем же сражался сам? <…> Зачем ты подвергал благополучие государства столь большой опасности? Неужели ты полагаешь, будто мы не знаем, как, охваченный чрезмерным рвением, ты ворвался в самую середину вражеского войска… Что общего у тебя, император, с людьми более низкой судьбы? Сражаться следует тем, кому на роду написано или победить, или быть убитым; но зачем же подвергаться какой-либо опасности тебе, от жизни которого зависит судьба всех? <…> Нужно ли тебе, император, самому поражать врага? Тебе даже не пристало делать это» (Латинские панегирики. IX. 9). Вполне очевидно, что за этим нагромождением риторических вопросов скрыто желание польстить императору, подчеркнув его личное мужество. Воодушевляющее воздействие личного примера императора, кстати сказать, со всей определенностью акцентируется и в других панегириках. Пожалуй, наиболее разностороннюю формулировку соответствующая парадигма получает в речи Паката к Феодосию: «…стремясь к чести, ты не упускал случая, чтобы первым или в числе первых взяться за выполнение всех многочисленных воинских обязанностей: становиться во главе строя, нести караульную службу, возводить вал, занимать боевую позицию, производить разведку, укреплять лагерь, в бой идти первым, из сражения выходить последним, в качестве полководца (действовать) разумением, а в качестве воина – примером: тогда-то и можно было увидеть, что другие сражаются за императора, а ты – сам за себя. Но по сравнению с прочим то удивительно, что ты, делая все, о чем должен был отдавать приказы, совершенно не нуждался в приказах» (Латинские панегирики. XII. 10).
Следует обратить внимание на то, что во многих случаях непосредственное участие полководца в бою не было вызвано какой-либо тактической необходимостью или критическим развитием ситуации. Это особенно очевидно в тех случаях, когда военачальник с самого начала сражения направляется в первые ряды сражающихся или демонстративно отсылает своего коня, чтобы повысить моральный дух своих солдат (Цезарь. Галльская война. I. 25; Светоний. Цезарь. 60; Плутарх. Цезарь. 18; Тацит. Агрикола. 35). В дополнение к приведенным выше примерам укажем на действия Гая Мария в битве при Аквах Секстиевых, когда он сражался в пешем строю вместе со своими легионерами (Плутарх. Марий. 20). Молодой Гней Помпей в 83 г. до н. э. во главе конницы атакует неприятеля и поражает дротиком галльского вождя (Плутарх. Помпей. 7); и в более зрелые годы Помпей успешно принимает участие в рукопашных поединках (Плутарх. Помпей. 19; 35).
Подытоживая сказанное, можно добавить следующее. Несмотря на очевидный смертельный риск, вопреки прямым предписаниям военной теории и даже соображениям практической пользы, римские военачальники довольно часто – и не только в критических ситуациях – принимали непосредственное участие в бою, действуя в первых рядах вместе со своими подчиненными, как в героической манере наподобие Александра Великого, так и по-солдатски, сражаясь в пешем строю. В этом отношении некоторые из них не уступали прославленному полководцу и бойцу эпирскому царю Пирру, об участии которого в сражении при Гераклее в 289 г. до н. э. Плутарх рассказывает следующее: «Во время битвы красота его оружия и блеск роскошного убора делали его заметным отовсюду, и он делом доказывал, что его слава вполне соответствует его доблести, ибо, сражаясь с оружием в руках и храбро отражая натиск врагов, он не терял хладнокровия и командовал войском так, словно следил за битвой издали, поспевая на помощь всем, кого, казалось, одолевал противник» (Плутарх. Пирр. 16).
Как и в других аспектах римской военной жизни, здесь на первый план выдвигаются «театрально-символические» компоненты поведения военного лидера. В римском понимании сущности военного лидерства всегда явно или неявно продолжало сохраняться корневое, изначальное содержание понятия «доблесть», которая была именно воинской, «физической», боевой доблестью.
Очевидно, что не следует преуменьшать и недооценивать роль военачальника в ходе сражения: она была гораздо более активной и действенной, нежели считалось ранее. Конечно, в первую очередь важно было со всей тщательностью подготовить сражение, навязать противнику свои условия при выборе места и времени вступления в битву, определить боевое построение, приготовить резервы, предусмотреть варианты действий на случай неожиданных обстоятельств. Как говорил известный военачальник середины I в. н. э. Светоний Паулин, «предусмотри всё, чтобы тебя не разбили, а победа придет в свое время» (Тацит. История. II. 25). Однако римский военачальник отнюдь не был пассивным наблюдателем, взирающим на то, как подчиненные ему войска маневрируют и сражаются на поле боя согласно принятому плану. Римская тактика была достаточно сложной и гибкой, чтобы влияние полководца на исход битвы могло ограничиваться только выбором определенного места и времени боя, разработкой тактического варианта и расстановкой сил на поле боя. От римского военачальника требовалось не только поддерживать моральный дух войска, но также непосредственно контролировать складывающуюся ситуацию, корректировать выработанный план путем прямого вмешательства в ход сражения. В конечном счете именно на командующем лежала ответственность и за результат отдельной битвы, и за кампанию в целом. Для успешного руководства войсками римским военачальникам, безусловно, требовались не только личная храбрость и опыт, но и знания, которые приобретались в первую очередь на практике, хотя не следует недооценивать и значения военно-теоретической литературы, которая была в их распоряжении[260].
Возвращаясь к вопросу, который мы поставили в главе 8 в связи с дискуссией о профессионализме римских военачальников, мы можем теперь сделать заключение, что было бы несправедливо считать их дилетантами от военного дела. Круг обязанностей, знаний и умений, необходимых полководцу, был весьма широк, и для успеха на военном поприще требовались энергия, мужество и стойкость, развитая интуиция и понимание психологии солдат. Конечно, не все римские военачальники были наделены этими качествами в одинаковой мере, но для них всех сохранял свою непреходящую значимость идеал полководческой доблести (virtus imperatoris), в котором сочеталось множество качеств, но важнейшее место принадлежало личной храбрости. Там, где мы для характеристики выдающегося полководца употребили бы такие понятия, как профессионализм и военный гений, римляне говорили бы о «доблести».
Глава 20
После боя
«После успешных действий и опасностей битвы полководцу следует разрешить воинам празднества и пиры и освободить от трудов, с тем чтобы они, зная, что их ждет в результате победы, стойко переносили все тяготы, необходимые для достижения победы».
(Онасандр. Стратегикос. 35. 5)
«…и хотя раненых было больше, чем накануне, и по-прежнему не хватало продовольствия, в одержанной победе для них было всё – и сила, и здоровье, и изобилие».
(Тацит. Анналы. I. 68)
Каждое сражение развивается по собственному, всегда неповторимому сценарию, но рано или поздно оно заканчивается – победой ли, поражением или же неопределенным исходом. В регулярных генеральных сражениях с внешними врагами римляне в эпоху Империи почти всегда выходили победителями, но в отдельных столкновениях и локальных боях, случалось, терпели поражения, подчас весьма жестокие. Большие решающие битвы в древности были чаще всего кровопролитными, при этом потери стороны, потерпевшей поражение, как правило, многократно превосходили потери победителей, хотя на основании имеющихся источников бывает очень сложно установить точное соотношение потерь. Дело в том, что сообщаемые античными авторами цифры часто выглядят малодостоверными. Например, в битве с восставшими бриттами под предводительством царицы Боудикки римляне потеряли 400 человек убитыми против 80 000 убитых у противника, что дает соотношение 1 к 200 (Тацит. Анналы. XIV. 37). Более достоверными представляются приводимые Тацитом (Агрикола. 37) цифры потерь в сражении при Mons Graupius, в котором римляне одолели тех же британцев, потеряв 360 человек против 10 000 убитых врагов (соотношение 1 к 28). В первом случае римские потери составили около 8 % от общей численности войска, а во втором – менее 3 %. В знаменитой битве при Фарсале между Помпеем и Цезарем в 48 г. до н. э. последний, по его собственным словам, потерял не более 200 солдат, тогда как из войска Помпея пало около 15 000 человек (соотношение 1 к 75); по другим источникам, соотношение потерь было 200 на 6000, т. е. 1 к 30 (Аппиан. Гражданские войны. II. 81). Трудно доверять сообщению Диона Кассия, согласно которому в первой битве при Кремоне в 69 г. н. э. между войсками Отона и Вителлия общие потери составили 40 000 человек, а в сражении при Иссе в 194 г. между войсками Септимия Севера и Песценния Нигра потери последнего были 20 000 убитых (Дион Кассий. LXIV. 10. 3; LXXV. 8. 1). Но это были битвы гражданских войн, где сходились одинаково обученные и вооруженные армии. Явно преувеличивает Дион и потери римлян во время похода императора Септимия Севера в Шотландию, оценивая их в 50 000 человек (LXXVII. 13. 2), что составило бы одну восьмую общей численности римской армии в начале III в. н. э.
Еще до точного подсчета потерь масштаб победы или поражения можно было определить по количеству захваченных значков и штандартов. Об этом часто упоминают античные авторы. Так, в кратком отчете о потерях в битве при Фарсале Цезарь пишет, что ему досталось 180 воинских знамен (signa) и 9 легионных орлов противника (Цезарь. Гражданская война. III. 99). Марк Антоний в апреле 43 г. до н. э., потерпев поражение при Форум Галлорум от войск сената, потерял 60 знамен и двух орлов (Цицерон. Письма близким. Х. 30. 5). Кстати сказать, в Риме всегда огромное значение придавалось возвращению потерянных на войне знамен. Об этом, как о большой своей заслуге, упоминает Август в своих «Деяниях» (29. 2); не проходили данные факты и мимо внимания поэтов и историков (Гораций. Оды. IV. 15. 4–4; Веллей Патеркул. II. 91. 1; Флор. II. 34. 63; Аппиан. Иллирийские войны. 28). В 16 г. н. э. по случаю возвращения знамен, захваченных германцами при разгроме легионов Вара, в Риме была освящена специальная арка (Тацит. Анналы. II. 25; 41). Возвращению знамен посвящались памятные выпуски монет с соответствующими легендами[261].
Поле битвы принадлежало победителям. И они первым делом, если позволяла обстановка, грабили убитых и раненых, у которых в поясах[262] под доспехами могли быть спрятаны деньги. Иногда, пока основные силы были заняты преследованием опрокинутого неприятеля, эту роль на себя брали обозные служители (Цезарь. Галльская война. II. 24). При раскопках города Дура Европос были обнаружены останки римских солдат, погибших при осаде в III в. н. э., у которых под доспехами имелись такие кошельки с немалыми суммами денег[263]. Упование на добычу было весьма существенным мотивом для сражающихся, и это понимали и командиры, и военные теоретики. Онасандр в своем «Наставлении полководцу» советует дать возможность солдатам разграбить лагерь и обоз побежденного врага или город, если он был взят штурмом (Онасандр. 34; ср. Цезарь. Гражданская война. III. 97). Обещание полководцев отдать на разграбление осажденный город становится настолько действенным стимулом для солдат, что они готовы были ради наживы забыть об опасностях, усталости, ранах и крови и даже в собственных соратниках увидеть скорее соперников, нежели товарищей (Тацит. История. III. 27; 28; V. 11; Плутарх. Антоний. 48). В некоторых случаях ожесточение после боя приводило к беспощадному разграблению захваченного города, всевозможным эксцессам и зверствам в отношении его жителей. Вот, например, как описывает Тацит судьбу города Кремоны после сражения у ее стен, в котором победу над силами Вителлия одержали войска флавианцев под командованием Антония Прима (69 г. н. э.): «Сорок тысяч вооруженных солдат вломились в город, за ними обозные рабы и маркитанты, еще более многочисленные, еще более распущенные. Ни положение, ни возраст не могли оградить от смерти. Седых старцев, пожилых женщин, у которых нечего было отнять, волокли на потеху солдатне. Взрослых девушек и красивых юношей рвали на части, и над телами их возникали драки, кончавшиеся поножовщиной и убийствами. Солдаты тащили деньги и сокровища храмов, другие, более сильные, нападали на них и отнимали добычу. Некоторые не довольствовались богатствами, бывшими у всех на виду, – в поисках спрятанных кладов они рыли землю, избивали и пытали людей. В руках у всех пылали факелы, и, кончив грабеж, легионеры кидали их потехи ради в пустые дома и разоренные храмы. Ничего не было запретного для многоязыкой многоплеменной армии, где перемешались граждане, союзники и чужеземцы, где у каждого были свои желания и своя вера. Грабеж продолжался четыре дня» (Тацит. История. III. 33). Аналогичную картину рисует Иосиф Флавий, рассказывая о поведении римлян после окончательного захвата Иерусалима и сожжения Храма (Иудейская война. VI. 5. 1). Подобные эксцессы не имели ничего общего с теми старинными порядками и организованностью, которые отличали римское войско при взятии городов и были с восхищением описаны Полибием (X. 16).
Так или иначе, по завершении сражения надо было дать отдых войскам, принести благодарность богам в случае победы, позаботиться о погребении павших и лечении раненых, наградить отличившихся и наказать проявивших трусость, привести в порядок оружие и снаряжение. Победоносный полководец мог рассчитывать на высокие почести в Риме и увековечивание памяти своих свершений.
После решающего сражения победоносное войско обычно могло позволить себе на несколько дней приостановить активные военные действия. Известно, что Цезарь после большого и удачного сражения иногда освобождал воинов от всех обязанностей и давал им полную волю отдохнуть и разгуляться (Светоний. Цезарь. 67). Но первым делом, конечно, была забота о раненых. Римляне всегда уделяли этому большое внимание и имели хорошо отлаженную военно-медицинскую службу[264]. Военные врачи (medici) были в составе всех видов и во всех частях вооруженных сил. Некоторые «медики» были, вероятно, простыми солдатами-иммунами, другие имели офицерский ранг. В некоторых надписях упоминаются medici ordinarii. Этот эпитет, возможно, означает, что они служили в составе подразделений и имели ранг, соответствующий центуриону. Так, например, именуется Гай Папиррий Элиан из Ламбеза, который прожил 85 лет и имел репутацию хорошего врача (ILS 2432). Некоторые «медики» имели романизированные греческие имена. Это могли быть вольнонаемные лекари, часто греческого происхождения, которые нанимались на римскую службу, чтобы приобрести практический опыт, и назначались в различные подразделения во время кампаний.
Capsarii выносят раненых с поля боя. Рельеф колонны Траяна
К медицинскому персоналу относились также optiones valetudinarii и capsarii. Первые, возможно, принадлежали к персоналу госпиталей, но скорее канцелярскому, нежели собственно медицинскому. Название вторых происходит от слова capsa – сумка для бинтов. Капсарии выполняли, вероятно, роль санитаров, оказывавших первую помощь раненым прямо на поле боя, как показано на одном из рельефов колонны Траяна[265]. «…Когда несут из сражения раненых: неопытный новичок издает жалостные стоны от каждой легкой раны, а бывалый ветеран, сильный своим опытом, только зовет врача, чтобы тот помог…» (Цицерон. Тускуланские беседы. II. 38).
Военные медики в римской армии имели, судя по всему, хороший инструментарий, позволявший успешно проводить сложные операции. В медицинских трактатах, в частности у Авла Корнелия Цельса (начало I в. н. э.), приводятся способы извлечения различных наконечников метательного оружия, указываются необходимые для этого медицинские инструменты, способы остановки кровотечения и предотвращения воспалительных процессов, а также ампутации конечностей (О медицине. VII. 5. 3–4; 26. 21–24; 33. 1–2). Римские медицинские инструменты, очень напоминающие современные, были найдены при археологических раскопках римских крепостей и фортов.
Вероятно, в походном лагере могли располагаться полевые госпитали, а во время сражения рядом с полем боя находились перевязочные пункты. Дион Кассий (LXVIII. 14. 2) рассказывает об одном отважном коннике, сражавшемся в войске Траяна в одной из кампаний против даков. Его, тяжелораненого, вынесли из сражения в надежде вылечить, но, когда стало ясно, что его рана смертельна, он нашел в себе силы выбежать из палатки, снова занял место в боевых порядках и геройски погиб. В постоянных же лагерях имелся госпиталь – valetudinarium. Например, открытый при раскопках легионного лагеря в Нойсе в Нижней Германии госпиталь имел операционную и 60 небольших четырехместных палат, т. е. по одной на каждую центурию: это значит, что он был способен вместить примерно 5 % личного состава легиона. При госпиталях имелись свои кухня и бани; возможно, существовали садики для выращивания лекарственных растений. После госпиталя раненые могли пройти затем реабилитационное лечение на водах или других курортах[266]. Один папирус из Египта свидетельствует, что солдаты XXII легиона Deiotariana были отправлены выздоравливать на морское побережье.
Забота о раненых, их моральная поддержка была одной из обязанностей хорошего полководца. Марк Антоний после одного жестокого боя с парфянами, в котором римляне потеряли около трех тысяч убитыми и пять тысяч ранеными, обходил палатки и со слезами на глазах старался ободрить своих израненных воинов. Как пишет Плутарх (Антоний. 43), «сочувствием к страдающим и отзывчивой готовностью помочь каждому в его нужде он вдохнул в больных и раненых столько бодрости, что впору было поделиться и со здоровыми». Так же и Германик «обходит раненых и каждого из них превозносит за его подвиги; осматривая их раны, он укрепляет в них, – в ком ободрением, в ком обещанием славы, во всех – беседою и заботами, – чувство преданности к нему и боевой дух» (Тацит. Анналы. I. 71). Исключительную заботу о больных и раненых проявлял Тиберий, командуя римскими войсками в кампаниях против германцев и паннонцев. Веллей Патеркул, служивший под началом Тиберия, вспоминал, что для больных и раненых офицеров была наготове запряженная повозка, им предоставлялись носилки самого командующего, «не было никого, кому не сослужили бы службу для поправки здоровья и лекари, и кухонное оборудование, и переносная баня, предназначенная лишь для него одного» (Веллей Патеркул. II. 114. 2). Император Траян во время первой войны с даками, когда в кровопролитном сражении не хватало даже перевязочных материалов, приказал разорвать на бинты собственные одежды (Дион Кассий. LXVIII. 8. 2).
Обязанность погребения павших также лежала на командующем. Онасандр (Стратегикос. 36) подчеркивает, что он должен позаботиться об этом, не откладывая ни под каким предлогом, как при победе, так и при поражении, ибо это священный долг перед усопшими и необходимый пример для живых. Римляне, как правило, погребали павших около поля боя в братской могиле, поверх которой насыпался курган (Аппиан. Гражданские войны. I. 43; II. 82; Тацит. Анналы. I. 62). Г. Вебстер высказывает предположение, что павших кремировали, а их прах, помещенный в керамические или стеклянные сосуды, отправляли потом к месту постоянного захоронения, на родину[267]. Но такое предположение не находит подтверждения в источниках[268]. Если тело павшего найти не удавалось, на его родине возводили так называемый кенотаф – надгробный памятник над пустой могилой. Так, центурион Марк Целий, погибший при разгроме легионов Вара, был похоронен в Ксантене, в провинции Германия (ILS 2244).
Кенотаф центуриона Марка Целия, погибшего при разгроме легионов Вара в Тевтобургском лесу. Ксантен
Оставить павших без погребения считалось позором. Это происходило в случае полного разгрома, как с легионами Вара, либо было знаком крайнего ожесточения гражданской войны, как в битве при Кремоне в 69 г. н. э., когда победители-вителлианцы оставили лежать незахороненными горы трупов своих противников. «Тело легата Орфидия отыскали и сожгли с подобающими воинскими почестями, – рассказывает Тацит (История. II. 45), – немногих похоронили друзья, трупы других остались валяться на земле». Император Вителлий, посетивший поле битвы через сорок дней и осмотревший ужасную картину, даже приободрил одного из своих спутников циничными словами: «Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше – гражданина!» (Тацит. История. II. 45, 70; Светоний. Вителлий. 10. 3; Дион Кассий. LXV. 1. 3). Тацит (Анналы. IV. 73) с осуждением пишет о наместнике Нижней Германии Луции Апронии, который после сражения с восставшими фризами в 28 г. н. э. «не предал погребению трупы, хотя пало большое число трибунов, префектов и лучших центурионов».
Побежденные варвары падают ниц перед императором, прося пощады. Рельеф с саркофага из Пизы
Плененный варвар и трофей. Рельеф с саркофага из Изернии
Случалось отдавать последний долг павшим боевым товарищам и соотечественникам и спустя несколько лет после их гибели. Так было в 15 г. н. э., когда Германик приказал предать погребению останки легионеров Вара, разгромленных за шесть лет до этого в Тевтобургском лесу. Над могилой был воздвигнут курган, в основание которого «первую дернину положил Цезарь[269], принося усопшим дань признательности и уважения и разделяя со всеми скорбь» (Тацит. Анналы. I. 62).
Богиня Виктория с трофеем. Рельеф из Карфагена
В некоторых случаях в память одержанных побед и в честь павших римских воинов возводили более монументальные памятники вроде трофея Августа в Ля Турби (Монако), на котором также перечислялись покоренные альпийские племена (Плиний Старший. Естественная история. III. 136–138). В ознаменование великих побед сооружались мемориалы. После победы при Акции на месте, где располагался лагерь Октавиана, был сооружен памятник, украшенный бронзовыми таранами захваченных кораблей Антония, воздвигнуто святилище Аполлона, которого Октавиан считал своим покровителем (Дион Кассий. LI. 1). Самым знаменитым является мемориал, открытый в Адамклисси в Южной Румынии. Он был воздвигнут Траяном в 108/109 г. н. э. после побед над даками в виде возвышающегося на кургане мавзолея, на котором была высечена надпись, начинающаяся словами: «В память храбрейших мужей, которые отдали свои жизни ради римского государства»; ниже перечислялись имена 3800 солдат из легионов и вспомогательных отрядов (CIL III 12467 = ILS 9107). Траян также воздвиг памятник и установил ежегодные поминальные ритуалы в память о солдатах, погибших в битве с даками при Тапах (Дион Кассий. LXVIII. 8. 2)[270].
Так называемый «Трофей Мария» на площади Кампидольо в Риме
Мемориал в Адамклисси. Современная реконструкция
Еще одной обязанностью полководца было совершение религиозных ритуалов по случаю одержанной победы. Надлежало принести положенные жертвы богам. На поле битвы или поблизости по обычаю, заимствованному у греков, воздвигали и посвящали богам трофей, представлявший собой столб, увешанный захваченными у врага доспехами и оружием. Потом это приношение увековечивали в бронзе или мраморе на триумфальных арках и других монументах. После победы над германцами Германик повелел написать на трофее гордую надпись: «Одолев народы между Рейном и Альбисом[271], войско Тиберия Цезаря посвятило этот памятник Марсу, Юпитеру и Августу» (Тацит. Анналы. II. 22). Другая его победа была отмечена трофеем, водруженным на насыпи и снабженным надписью, в которой были перечислены побежденные племена (Тацит. Анналы. II. 18). Изображения подобного трофея мы находим и на колонне Траяна (сцена 78). Иногда часть захваченного у врага оружия и другой добычи сжигали в качестве жертвы богам. Плутарх рассказывает, что, когда Гай Марий после победы у Секстиевых Вод совершал жертвоприношение и готовился в присутствии вооруженных увенчанных воинов поджечь сложенные в кучу трофеи, примчались гонцы с сообщением об избрании Мария в пятый раз консулом, и воины излили свой восторг в рукоплесканиях и бряцании оружием (Плутарх. Марий. 22).
Жертвоприношение свиньи, овцы и быка (suovetaurilia). Рельеф колонны Траяна
По случаю одержанных войсками побед в Риме проводились благодарственные молебствия, назначаемые сенатом. Август в своих «Деяниях» отмечает, что в честь военных успехов, достигнутых под его командованием, сенат 55 раз выносил решение об организации благодарственных молебствий богам, так что в общей сложности они совершались на протяжении 890 дней (Деяния Божественного Августа. 4).
Жертвоприношение свиньи, овцы и быка (suovetaurilia). Рельеф на правой панели большой мемориальной плиты из Бриджнесса на восточном конце Антонинова вала
«Гемма Августа». Вена, Музей истории искусств
Отдав долг павшим и отблагодарив богов, военачальники устраивали торжественные воинские сходки, сопровождавшиеся публичными церемониями, во время которых проводились награждение и публичное восхваление (laudatio) отличившихся воинов и командиров, иногда – вместе с выплатой жалованья, как это сделал Тит во время осады Иерусалима (Иосиф Флавий. Иудейская война. V. 9. 1). Среди рельефов колонны Траяна имеется изображение подобной сходки, на которой император награждает отличившегося командира почетным копьем[272]. В случае необходимости командующий осуществлял также наказание тех, кто нарушил дисциплину или проявил трусость (см.: Цезарь. Гражданская война. III. 74; Тацит. Анналы. III. 20; Фронтин. Стратегемы. IV. 1. 21), причем это также делалось публично, перед строем всего войска. Согласно римскому военному закону, тот, кто в строю первым обратился в бегство, подлежал в назидание остальным смертной казни на глазах у своих товарищей (Дигесты. 49. 16. 6. 3).
Император Траян вручает воину наградное копье. Рельеф колонны Траяна
Римляне по праву могли гордиться детально разработанной и гибкой системой поощрения воинов. Еще Полибий подчеркивал, что причина высокой доблести римлян заключается не только в их прирожденных качествах, но и в том, что стремление к ратным подвигам умело и действенно стимулируется наградами за храбрость и усердие (Полибий. VI. 39; 52). Первоначально награждение тем или иным знаком отличия определялось характером совершенного деяния, на что явно указывают названия наградных венков: obsidionalis («осадный», им награждался военачальник за освобождение от осады войска)[273], muralis («стенной», вручавшийся тому, кто первый взойдет на стену вражеского города), castrensis («лагерный», которым награждали того, кто первым врывался в неприятельский лагерь), vallaris (венок, которым награждали того, кто первым всходил на вал укреплений противника), civica («гражданский», которым отмечался подвиг спасения согражданина в бою) (Плиний Старший. Естественная история. XVI. 7; XXII. 6; Полибий. VI. 39; Авл Геллий. V. 6). Исключением из этого ряда был золотой венок (corona aurea), которым награждали за подвиги, не подпадавшие под другие категории. Кроме венков, в качестве знаков отличия использовались особые наградные копья (hastae purae), флажки (vexilla), ожерелья (torques), браслеты (armillae) и фалеры – особые металлические или стеклянные бляхи с разного рода изображениями. Происхождение и форма этих наград связаны с предметами, служившими трофеями или являвшимися частью римского военного снаряжения. В императорское время набор и количество наград стали определяться воинским званием[274]. Рядовой солдат теперь мог быть награжден только торквесами, браслетами и фалерами, а также гражданским венком, который остался единственным исключением среди прочих наградных венков, на которые теперь, так же как на vexilla и hastae, имели исключительное право только офицеры.
Наградные венки
Боевые награды являлись почестью, которую далеко не каждому удавалось заслужить. Это подтверждается анализом надписей, содержащих списки воинов с отметками о награждении[275]. В одном из таких списков, относящемся к солдатам преторианской гвардии, которые вышли в отставку между 169 и 172 гг., из 69 сохранившихся имен лишь 9 (13 %) имеют пометку d (onis) d (onatus) – «награжден знаками отличия». В списке солдат VII Клавдиева легиона (конец II в.) такую пометку имеют лишь 10 солдат из 150 (7 %). Примечательно, что эти списки показывают большую пропорцию награжденных рядовых, чем можно было бы предположить, основываясь лишь на индивидуальных надписях, судя по которым гораздо чаще награды получали офицеры. Один ветеран, служивший в XIII Сдвоенном легионе, назван в надписи miles torquatus et duplarius – «воин, награжденный торквесами и получающий двойное жалованье» (CIL III 3844). И рядовые, и командиры высоко ценили полученные награды. Помимо всего прочего, на это указывает тот факт, что знаки отличия нередко изображались на надгробных памятниках в виде отдельных рельефов или вырезались на униформе в скульптурных изображениях погребенного.
Наградные копья
Отметим также, что в период Ранней империи право быть награжденными знаками отличия в индивидуальном порядке имели только легионеры и другие воины, являвшиеся римскими гражданами. В то же время воины из числа неграждан (перегринов) могли награждаться коллективно, целым подразделением: когорта или ала получала почетное наименование либо по названию награды (torquata – «награжденная торквесами» или armillata – «награжденная браслетами»). Такие награды, очевидно, крепились к знаменам данного подразделения (Зонара. VII. 21). В качестве награды за доблесть вспомогательные формирования могли получать также римское гражданство в индивидуальном и коллективном порядке, как, например, I когорта бетазиев, получившая гражданство «за доблесть и преданность» (AE 1904, 31).
Источники свидетельствуют, что в представлении солдат воинские награды непосредственно связывались с императором. По предположению В. Эка, от имени императора награды отличившимся могли вручаться наместниками соответствующих провинций, но при этом награжденные получали свитки с собственноручным письмом императора и поэтому имели все основания указывать в своих надписях, что были награждены императором[276]. Судя по некоторым надписям, иногда вручение наград приурочивалось к триумфу императора. Например, в надписи в честь Веттулена Цериалиса из Карфагена указано, что его различными венками, копьями и флажками наградил император Веспасиан, собираясь отпраздновать триумф над иудеями (CIL VIII 12536 = ILS 988). Гай Стаций Цельз был награжден Траяном по случаю триумфа над даками (CIL III 6359 = ILS 2665).
Наградные ожерелья и браслеты
В качестве наград использовались также денежные подарки, увеличение доли в добыче, внеочередные повышения в чине, двойное жалованье и дополнительный паек, а со времени Септимия Севера перевод легионеров в преторианскую гвардию (Дион Кассий. LXXIV. 2. 3). Примипил Тит Аврелий Флавин, к примеру, был удостоен Каракаллой награды в 75 тыс. сестерциев и получил повышение в чине, как сказано в надписи, «за вдохновенную доблесть, проявленную против враждебных карпов, и за блестящие и энергичные действия» (CIL III 14416 = ILS 7178 = АЕ 1961, 208).
Наградой, возможно, могло служить и досрочное увольнение в почетную отставку. Так, в надписи от 71 г. н. э. упоминаются воины, которые за проявленные на войне храбрость и усердие были досрочно отпущены со службы (CIL XVI 17). Отличившиеся центурионы могли быть причислены к всадническому сословию[277]. Известно также о такой почести, как воздвижение в честь отличившихся воинов статуй в боевом вооружении (Аммиан Марцеллин. XIX. 6. 12). Валерий Максим (III. 1. 1) рассказывает об Эмилии Лепиде, которому, после того как он 15-летним юношей вступил в битву и спас согражданина, была воздвигнута статуя на Капитолии.
Сцены с изображением триумфа с серебряного кубка из Боскореале
Не оставались без наград и почестей и командующие, получавшие их от войска. Сулла во время Союзнической войны был почтен наградой со стороны войска (Плиний Старший. Естественная история. XXII. 6. 12). После Фарсальской битвы первую и вторую награды получил Цезарь, признанный всеми наиболее отличившимся, а вместе с ним и Х легион (Аппиан. Гражданские войны. II. 82). По описанию Аппиана, в триумфальной процессии, среди прочего, несут венки, которыми наградили полководца за доблесть или города, или союзники, или подчиненные ему войска (Ливийские войны. 66).
Высшей же почестью за победу со стороны войска было провозглашение победоносного военачальника императором, обычно происходившее в тот же день, когда произошло сражение. По рассказу Иосифа Флавия (Иудейская война. VI. 6. 1), после захвата Иерусалимского храма римляне принесли в его священные пределы свои знамена и, водрузив их против Восточных ворот, тут же совершили перед ними жертвы и при громких славословиях провозгласили Тита императором.
Однако эта почесть, как и предоставление триумфа, уже при императоре Тиберии окончательно становится монополией самих принцепсов или членов их семьи. По возвращении в Рим полководец мог быть удостоен в лучшем случае так называемого малого триумфа (овации) или триумфальных украшений (triumphalia insignia). В период Республики овация назначалась в том случае, когда не были соблюдены все условия, необходимые для получения большого (курульного) триумфа, если, в частности, победа была одержана без кровопролития. Теперь же она стала высшей формой отличия для полководцев императора. Во время овации победоносный военачальник входил в город пешком. На голову ему возлагалась митра, а не лавровый венок, как при большом триумфе; полководец был одет не в тогу, расшитую пальмовыми листьями, а в так называемую тогу претексту, украшенную пурпурной каймой, и приносил в жертву не быка, а овцу. Триумфальные отличия (ornamenta, или insignia triumphalia) включали в себя статую полководца, увенчанную лавровым венком, одежду триумфатора – пурпурную, расшитую золотом тогу и тунику, украшенную золотыми пальмовыми ветвями.
Фрагмент рельефа, изображающего парфянский триумф Луция Вера. Рим, Музей Терм
Высшие военные почести имели слишком важное политическое и пропагандистское значение, чтобы императоры могли позволить кому бы то ни было из военачальников соперничать с ними в той славе, которую они приносили. Следует также иметь в виду, что триумфальное шествие было религиозной церемонией, наделявшей победителя благоволением божества. Триумфатор, стоя на колеснице в расшитой тоге, с выкрашенным красной краской лицом, с лавровым венком на голове и со скипетром в руках, представлял ни много ни мало самого Юпитера – высшего бога римского пантеона. Процессия, в которой вели пленных, провозили захваченную добычу и картины с изображением эпизодов войны, проходила через весь Рим, двигаясь от Марсова поля через Форум на Капитолий, где триумфатор совершал жертвоприношение в храме Юпитера Капитолийского. Таким образом, результаты победы, одержанной под водительством самого императора или его божественной силы (numen) и Гения, зримо представлялись Риму и увековечивались в списках триумфаторов и в триумфальных арках.
В торжественном шествии принимали участие и солдаты, добывшие эту поеду. Триумф в Риме всегда рассматривался как честь не только для полководца, но и для воинов (Ливий. XLV. 38. 3). Для них это тоже было кульминацией того победного торжества, которое начиналось еще на поле битвы, не остывшем от пролитой крови. Страдания, тяготы и раны, даже смерть товарищей – всё в такие моменты отходило на задний план. Гордость добытой славой и сознание значимости своей воинской миссии становились преобладающими чувствами.
Глава 21
Оружие победы
«…Оружие для солдата все равно что часть тела».
(Цицерон. Тускуланские беседы. II. 16. 37)
«Пехотинцы защищены панцирями и шлемами и носят с обеих сторон острое оружие. Меч на левом боку значительно длиннее меча, висящего на правом и имеющего в длину только одну пядень. Отборная часть пехоты, окружающая особу полководца, носит копья и круглые щиты; остальная часть пехоты – пики и продолговатые щиты, пилы и корзины, лопаты и топоры и, кроме того, еще ремни, серпы, цепи и на три дня провизии; таким образом, пешие солдаты носят почти столько же тяжести, сколько вьючные животные. Всадники имеют с правой стороны длинный меч, в руке такое же длинное копье; на лошади поперек спины лежит продолговатый щит; в колчане они имеют три или больше длинных, как копья, метательных дротиков с широкими наконечниками; шлемы и панцири они имеют одинаковые с пехотой; избранные всадники, окружающие особу полководца, вооружены точно так же, как их товарищи в эскадронах».
(Иосиф Флавий. Иудейская война. III. 5. 5)
«Оружие и мужа пою», – писал Вергилий (Энеида. I. 1). И при этом ставил войну и оружие на первое место. Эта фраза как нельзя лучше характеризует отношение римлянина к оружию как инструменту войны, с помощью которого он стал властителем всего обозримого мира. Оружие наделялось сакральной сущностью и становилось объектом поклонения. Нелишне будет здесь вспомнить, что император Нерон самолично освятил кинжал Сцевина, повелев на нем начертать посвящение Юпитеру Мстителю (Тацит. Анналы. XV. 74), а меч Юлия Цезаря хранился в храме Марса Ультора (Мстителя) (Светоний. Вителлий. 8. 1). Отдаленным отзвуком этого почитания можно считать и определенные черты римской иконографии, когда солдат предпочитали изображать как богов, мифических героев или в застывшей вне времени и неизменной по своему виду традиционной экипировке легендарных земных правителей прежних времен. Поэтому, к глубокому сожалению, зачастую не следует искать на изобразительных источниках точного отражения реального вооружения и экипировки римского солдата. Так, уже в эпоху Ранней империи мы все еще можем видеть памятники, на которых нет-нет да промелькнет вооружение республиканского времени, или вооружение, изображавшееся на надгробиях и других иконографических памятниках, где имели место некоторая фантазия скульптора и подражание эллинистическим (и даже греческим) образцам, дабы придать воину вид одного из героев Эллады.
Античные авторы объясняли военные успехи Рима его превосходством в области вооружения и в значительной степени индивидуального защитного снаряжения воина (Иосиф Флавий. Иудейская война. III. 5. 5; Геродиан. III. 4. 9). Совершенствование оружия, вне всякого сомнения, происходило вместе с расширением государства; чем больше у Рима появлялось врагов, тем совершеннее становилось римское вооружение, поскольку римляне нисколько не стеснялись заимствовать и модифицировать самое эффективное оружие своих противников. Можно утверждать, что начиная с республиканского периода уже не существовало никакого специфически римского оружия и дальнейшая его модификация в значительной степени определялась той удивительной способностью римлян к адаптации в области военной техники, которая формировала в результате заимствований наиболее совершенные образцы.
На протяжении римской истории довольно четко прослеживается несколько сменявших друг друга волн заимствований[278]. Первое, наиболее продолжительное по времени влияние в области римского вооружения было оказано кельтами, принесшими из Центральной Европы на Италийский полуостров такие предметы, прочно ассоциирующиеся с республиканским вооружением, как монтефортинский шлем и продолговатый овальный щит (scutum). Далее следует отметить влияние со стороны иберов, благодаря которым римляне обзавелись новыми модификациями мечей (gladius Hispaniensis) и кинжалов (pugio), которые хоть и видоизменялись со временем, но все же служили римлянам довольно продолжительное время. Те испанские гладии, возможно, также являлись вариантом кельтского меча с удлиненным заостренным лезвием. Когда же племена Северной Европы, возглавляемые тевтонами, пришли в движение, и затем, когда уже римские завоевания стали распространяться на территорию галлов и восточных кельтов, влияние с их стороны на римское вооружение начало возрастать. В результате в римской армии появляются новые модификации шлемов. Спата являлась вариацией длинного кельтского меча, заимствованного римскими кавалеристами и в первую очередь через галльских всадников из вспомогательных частей.
В республиканский период происходила все большая унификация вооружения, связанная сразу с несколькими причинами. Среди наиболее существенных следует выделить стремление к технологической простоте изделий, которых с увеличением воинских контингентов приходилось выпускать всё больше и больше. Стало необходимо снабдить всех воинов по возможности одинаковым оружием. Теперь, в отличие от времен царского периода, когда прослеживается влияние на римское вооружение в основном извне, ситуация меняется. Адаптированное римлянами и в некоторых случаях значительно улучшенное римскими мастерами вооружение начинает вместе с победоносными римскими легионами шествие по землям, находящимся в орбите интересов Рима. Римский военный импорт появляется даже там, где нога римского легионера никогда не ступала, а это свидетельствует о его ценности как товара в системе международной торговли и обменов.
Таким образом, мы видим, что в республиканское время римские военные технологии, стремясь к упрощению и удешевлению предметов вооружения, тем не менее были конкурентны на мировом рынке. Тем более что продолжался выпуск и дорогих, роскошных элементов вооружения, которые были способны удовлетворить и самый взыскательный вкус.
Для римлян времен Империи война стала предметом науки, ведь надо было обеспечивать безопасность Империи и захватывать добычу у противника. Получила свое распространение стратегия организации лимесов и размещения на них постоянных и основанных на качественном наборе армий. Такой территориальный разброс войск породил необходимость организации производства вооружения в разных частях Империи, что порождало появление вооружения, изготовленного с учетом различных локальных особенностей, отражавших вкусы солдат того или иного подразделения и народности. При этом поражает пестрота вооружения, представленного реальными образцами и изображениями. Мы видим боевое и парадное вооружение, причем последнее в эпоху Империи получило значительное развитие в силу тенденции стремления к роскоши даже в среде военнослужащих.
В данный период наблюдается массированное внедрение различных заимствований у вчерашних побежденных или сегодняшних противников. Проводником этих влияний были и вспомогательные формирования, в эпоху раннего принципата еще имевшие обычное для них местное вооружение. Именно в период Империи наиболее ярко проявилась удивительная способность римлян к адаптации в области военного дела, одним из важнейших направлений которого являлось развитие защитного вооружения. Неслучайно мы можем найти у античных авторов строки, в которых они объясняли успехи Рима в том числе и его превосходством в области индивидуального вооружения (Иосиф Флавий. Иудейская война. III. 5.5; Геродиан. III. 4.9).
В императорский период римское вооружение продолжало свое развитие на основе трех оружейных традиций: италийской, кельтской и эллинистической. Затем к этому прибавилось влияние со стороны восточных противников: сарматов, парфян и персов.
Наконечники пилумов с плоским язычком: 1 – Ксантен; 2 – Смихель; 3 – Алезия; 4 – Валенсия; 5 – р. Сона; 6—7 – Каминреаль; 8 – деталь пилума из р. Сона
Следует отметить, что эти влияния больше сказывались на традиции производства защитного вооружения, в то время как наступательное вооружение, также, несомненно, во многом заимствованное римлянами у других народов, видоизменялось более медленно. Основная связка – пилум – гладий – кинжал (пугио) была обусловлена тактикой римского боя, совершенствуясь со временем в узких рамках такого применения. Как наиболее типичный пример следует привести удлинение железной части метательного копья – пилума[279]. Атака противника метательным оружием была неотъемлемой и важной частью вышеописанной тактики легионеров. Залп метательных снарядов должен был ошеломить противника и вывести его из строя еще до непосредственного соприкосновения, если не физически, то морально и технически. Римляне сделали железный наконечник метательного копья достаточно тонким и длинным и этим добились, чтобы он сгибался под весом самого копья, воткнувшегося в щит, что мешало управляться со щитом и практически обезоруживало, так как вытащить согнутое копье в гуще боя было очень сложно. Однако пилум сгибался не всегда, и враги иногда, все же вытащив его из щита, бросали обратно. Гай Марий решил эту задачу, удалив одну из железных заклепок, крепивших наконечник к древку, и заменил ее на деревянный штырек, который ломался при ударе. В этом случае «осечек» практически не случалось, и наконечник, свободно болтаясь на одной железной заклепке, волочился по земле, выполняя ту же самую функцию (Плутарх. Гай Марий. 25). Вышесказанное относится к так называемым пилумам с плоским язычком, хотя существовали пилумы и с втульчатым насадом. Облегчение обычного пилума в эпоху Ранней империи, видимо, привело к созданию утяжеленного пилума с круглым свинцовым грузом, крепившимся в месте соединения древка и наконечника, изображения которого можно видеть на иконографических памятниках. Однако находок образцов такого типа пилумов пока нет, хотя найдено несколько наконечников с шипами на хвостовике, которые могли быть частью подобных утяжеленных экземпляров.
Наконечники пилумов с втульчатым насадом: 1, 5 – Алезия; 2, 9 – Зальцбург; 3 – Осуна; 4, 8 – Виндонисса; 6 – Валенсия; 7 – Вадден Хилл; 10 – Велсен; 11 – Майнц
Пилумы из Оберадена
Копье (hasta) с распространением пилума еще в республиканский период стало применяться только триариями, но зато копье являлось отличительным признаком солдат вспомогательных войск. Легионеры же иногда получали серебряные наградные копья (hasta pura), ничего общего не имевшие с боевым оружием.
После атаки пилумами наступала очередь рукопашной схватки, где главная роль отводилась мечу и фехтовальной выучке солдата. Вопреки расхожему мнению для римлян слово «гладий» было обобщающим и обозначало любой меч.
Эволюция гладия во II в. до н. э. – начале I в. н. э.: 1 – Смихель; 2 – Ренеблас; 3 – Эс-Сумаа; 4 – Мюре; 5 – Делос; 6 – Осуна; 7 – Берри-Буи
Знаменитый испанский меч (gladius Hispaniensis)[280], вероятно взятый римлянами на вооружение вскоре после битвы при Каннах (216 г. до н. э.), использовался в некоторых римских подразделениях вплоть до 20 г. до н. э. (если судить по экземпляру из Берри-Буи во Франции). В конце I в. до н. э. – в начале I в. н. э., в ходе реформ армии, проводимых Октавианом Августом, он был быстро вытеснен гладием, тип которого представлен находками в Майнце и Фулхэме. Этот меч имел более короткое и широкое, суженное у рукоятки, лезвие. Его длина составляла 40–56 см при ширине до 8 см. Вес такого меча составлял около 1,2–1,6 кг. Параллельно происходил процесс видоизменения гладия в декорировании его рукояти и металлических ножен, отделанных оловом и серебром. На экземплярах переходного вида между типами Майнц и Помпеи декор не имел никаких политических тем, ограничиваясь изображениями богов: Диоскуров, Минервы, Аполлона, Вакха и Виктории.
Формы клинков гладия (по археологическим находкам)
Короткий гладий вроде того, что был найден в Помпеях, был введен в эпоху Флавиев, но скорее всего этот эталонный экземпляр из города, разрушенного страшным извержением Везувия в 79 г. н. э., являлся уже вполне развитым представителем типа, которому и дал в археологической литературе наименование. Тенденция дальнейшего развития сводилась к сближению форм лезвий гладия и спаты. Этот меч с параллельными краями лезвия и коротким треугольным острием совершенно отличался от предыдущих моделей и имел длину от 42 до 55 см, а ширину лезвия около 5–6 см. При этом декор на ножнах становится более разнообразным и включает в себя уже и политические мотивы – медальоны с изображением представителей правящей династии, и даже откровенное прославление императорских побед, как, например, на экземпляре из Неймегена, где изображено пленение иудеев в захваченном Иерусалиме. Весил такой меч около 1 кг, и им одинаково эффективно можно было наносить как рубящие, так и колющие удары. Римляне прекрасно научились управляться в бою с такими мечами даже в столкновениях с противником, у которого были в ходу огромные мечи, искусно компонуя фехтовальную технику с умелым использованием своего более совершенного защитного вооружения, что прекрасно иллюстрируют рельефы из Адамклисси.
Формы клинков спаты (по археологическим находкам)
В конце II – начале III в. гладий постепенно уступил место спате, которая, в отличие от своего более короткого предшественника, была более эффективна при нанесении рубящего удара. По свидетельству Вегеция, к эпохе Диоклетиана (в конце III в. н. э.) все легионеры уже были вооружены этим длинным мечом, длина клинка которого доходила до 80 см. Во время Маркоманнских войн римские кавалеристы начинают использовать и длинные сарматские мечи с характерным кольцеобразным навершием на рукоятке.
Римские клинки с клеймами. II—III вв. н. э.
Типы рукоятей римских мечей I—III вв. н. э.
В тесноте схватки легионер мог воспользоваться коротким кинжалом, не раз выручавшим своего хозяина в случае поломки или утери меча. Хотя некоторые исследователи, ссылаясь на богатый декор большей части найденных экземпляров, считают данный предмет вооружения скорее парадным, декоративным, нежели исключительно боевым оружием. Вместе с тем имеется множество изображений, позволяющих говорить о широком распространении кинжалов в римской армии; ими пользовались и преторианцы, и легионеры, и солдаты вспомогательных войск. Исключением был декоративный кинжал паразоний (parasonium), обычно с навершием в виде головы хищной птицы, который как отличительную особенность носили старшие офицеры. На некоторых статуях паразоний изображен зажатым в руке и напоминает жезл. Кинжалы сохранились в арсенале легионеров до конца принципата. Исчезнув в начале II в., он, правда, появляется снова в значительно более грубой форме как часть вооружения ауксилариев.
Рукояти мечей с кольцевидным навершием из Боденского озера. III в. н. э.
Меч и кинжал солдаты часто носили на едином поясном ремне, хотя для ношения меча нередко использовали и перевязь, надеваемую через плечо. Однако если пояс был один, а гладий и пугио носились на одном и том же балте, то ремни, которыми они прицеплялись к балту, должны были позволять некоторую свободу движений. При двух поясах (гладий на одном, пугио на другом) сами пояса не затягивались туго, а висели крест-накрест, тем самым обеспечивая желаемую свободу движений.
Богато декорированные ножны гладия из Виндонисы. I в. н. э.
Ножны гладия с затонувшего судна у Порто-Веккьо (Корсика). I в. н. э.
В течение III в. происходят коренные изменения вооружения. Теперь солдатский пояс (cingulum), бывший некогда символом солдата, был заменен кожаным поясом, который часто носили не на талии, а на бедрах. Меч стали подвешивать на перевязи примерно в 5 см шириной. Пехота по-прежнему была вооружена метательным оружием, но уже не пилумом, a его производными: спикулумом, верутой и плюмбатой. У спикулума был трехгранный железный наконечник длиной в 22 см и деревянное древко длиной около 1,6 м. Верута (первоначально vericulum) имела наконечник в 12 см длиной и деревянное древко немногим длиннее метра и предположительно являлась сочетанием пилума и двух видов германских копий – ангона и бебры. Плюмбата (plumbata), или маттиобарбула (mattiobarbula), – дротик со свинцовым утяжелителем и оперением, который был дальнобойным оружием, предназначенным для поражения противника на большой дистанции вне досягаемости его метательных снарядов (Вегеций. I. 17). Техника броска плюмбаты отличалась от техники броска обычного дротика. Когда плюмбату бросали из-под руки, снизу вверх, то дальность броска могла увеличиваться до 60 м.
Изображение пленения иудеев в захваченном Иерусалиме на ножнах гладия из Неймегена. I в. н. э.
Кинжалы с ножнами – III в. н. э.: 1 – Лоренцберг; 2 – Виндонисса; 3 – Вайзенау; 4 – Лееувен; 5—6 – Лондон; 7—8, 12 – Кюнцинг; 9—10 – Айнинг; 11 – Шпайер; 13 – Линкольн; 14—15 – Уск; 16 – Лугор; 17 – Аллере-сюр-Сон
Если наступательное вооружение легионера, как было указано выше, не претерпевало существенных изменений вплоть до конца II в. н. э., то защитное вооружение прошло через значительные усовершенствования, вызванные необходимостью максимальной защиты при столкновении с новыми, доселе не виданными римлянами видами оружия их новых противников. В то же время различные его элементы: шлем, панцирь, щит и дополнительные средства защиты (наручи, поножи и военный пояс, усиленный бронзовыми бляшками) – со временем усовершенствовали, видоизменяя в соответствии с требованиями обеспечения максимальной гибкости и разумного сокращения их веса, до такого предела, который не наносил заметного ущерба защитным качествам.
Реконструкция римской кольчуги по фрагментам из усыпальницы Сципионов. Музей римской цивилизации (Museo della Civilt Romana), Рим
Тяжелую кольчугу (lorica hamata) весом 12–15 кг в самом начале I в. н. э. изрядно потеснили пластинчатые ламинарные доспехи (так называемая lorica segmentata), хотя до конца так и не вытеснили. Появление ламинарного доспеха в римской армии следует связывать с необходимостью применения адекватной защиты в столкновениях с парфянской и сарматской тяжелой кавалерией – катафрактами, которые использовали данный тип доспеха. Кроме того, ламинарная защита руки была очень полезна при рукопашной с даками, которые орудовали изогнутым мечом на длинном древке-рукояти (falx Dacica). Однако в отличие от кольчуги, которая являлась самым удобным видом доспеха, так как совершенно не стесняла движений и, кроме того, вкупе с поддоспешником обеспечивала неплохую защиту даже от стрел, пущенных с расстояния 5–10 м (как и у чешуйчатого доспеха, проникают всего на 4 мм), сегментный доспех был менее удобен, так как крепление полос металла на кожаных ремнях несколько ограничивало подвижность элементов доспеха и, не будучи подогнанным на конкретного пользователя, приносил массу неудобств при ношении. Тем не менее, если судить по рельефам колонны Траяна, во времена дакийских войн данный тип доспеха был весьма популярен среди легионеров. Хотя то строгое разграничение, представленное на этом памятнике победителю непокорного Децебала, при котором легионеры носят только лорику сегментату, а воины вспомогательных войск – кольчугу, скорее всего можно объяснить как пропагандистским характером памятника, так и артистическими конвенциями. Изображения представляются слишком стилизованными для упрощения визуальной идентификации зрителем и вследствие этого стандартизированными. Скульпторы были незнакомы со многими из воспроизводимых ими предметов и при таком огромном количестве фигур были вынуждены работать в иконографии типов (солдат-граждан, ауксилариев, офицеров и т. д.). Тем более становится все более очевидным, что сегментированную лорику могли носить далеко не только легионеры. Судя по находкам в крепостях Риштиссен и Лонгторп, где базировались вспомогательные войска и вексилляции, этот тип панциря имел более широкое распространение. Не исключено, как было отмечено выше, вторичное использование этого вида доспехов либо даже ограниченное снабжение ими солдат вспомогательных войск, ибо рассматривать лорика сегментата следует не как идентификатор особого рода войск или показатель статуса легионера, а в его функциональной, крайне специализированной плоскости; ведь благодаря своей конструкции, с максимальной защитой плеч, этот вид доспеха был более всего пригоден для противостояния в схватках с народами, использовавшими стиль боя с применением длинных мечей[281].
Конструкция лорики, сегментаты из Корбриджа (1, 2) и Ньюстеда (3)
Изобразительные источники показывают разнообразие конструкционных вариаций данного типа доспеха. Вследствие этого, до обнаружения двух полных комплектов сегментированной лорики в 1964 г. в Корбридже, рядом с Адриановым валом, не было единого мнения о том, как монтировался подобный доспех. Благодаря упомянутой находке, а также другим фрагментам панцирей, найденным в Калкризе, Карнунте и Ньюстеде, стало известно, как они были устроены, а также было доказано существование различных, отличающихся деталями вариантов. Г. Рассел Робинсону удалось изготовить убедительные реконструкции этих панцирей, поскольку на внутренней стороне найденных деталей доспехов еще сохранились остатки кожаных ремней.
У каждого варианта панцирей, соотносимых с местами вышеперечисленных находок, был свой способ прикрепления нагрудных и верхних наспинных пластин к нижней части доспеха. Либо они скреплялись крючками, либо – ремнями и пряжками, которые спереди располагались снаружи, а на спине – внутри доспеха. Благодаря этому доспех наполовину собирался, а потом надевался, и остальные пряжки застегивались уже на себе. На лориках из Калкризе и Корбриджа левая и правая нагрудная и верхняя спинная пластины были соединены ремнями с пряжками, а на экземпляре из Ньюстеда – петлями и штифтами.
Римские ламинарные наручи: 1 – Карлайл; 2 – Ньюстед; 3 – Карнунт; 4 – изображение на рельефе с мемориала в Адамклисси; 5 – изображение наруча на надгробии Валерия Севера в Майнце
Сходную конструкцию с ременным креплением имели и ламинарные наручи (manicae) и поножи, с которыми римляне познакомились скорее всего еще в битвах при Тигранокерте и Каррах. Во всяком случае, уже в I в. н. э. некоторые римские памятники изображали военную модификацию маники. Она появляется на памятнике Траяну у Адамклисси. Довольно неразборчивое изображение, из которого все же можно понять, что изображено именно ламинарное прикрытие руки на могильной стеле легионера Секста Валерия Севера. По мнению некоторых исследователей, маники могли появиться в римской армии в результате столкновений в ходе войны с Сакровиром (29 г. н. э.). Тогда римским легионерам пришлось сражаться с тяжеловооруженными гладиаторами – крупелляриями (crupellarius), в экипировку которых, по всей видимости, входили и ламинарные маники. По мнению других, такие маники были введены во время дакийских войн, как специальная защита от дакийского древкового колюще-режущего оружия. Римские маники известны не только по изобразительным данным. Их фрагменты найдены в Карнунте, Тримонциуме (Ньюстед), Ричборо, Корбридже, Айнинге и Леоне. Три практически полностью сохранившихся железных экземпляра недавно были обнаружены в Карлайле и еще один экземпляр – в Ульпия Траяна Сармизегетуза. На основании изучения этих остатков, хотя и с большой долей гипотетичности, можно рассмотреть конструкцию римской маники.
Как и в ближневосточном прототипе, наруч состоял из горизонтально расположенных металлических пласин. Они были приклепаны к кожаным ремешкам, пропущенным с внутренней стороны по всей длине, и, возможно, даже приклеены к внутренней подкладке. Внутренняя подкладка или рукав, если он присутствовал, должен был быть хорошо защищен по отношению к краям металлических полос. Каждая полоса имела отверстия по центру у самого края, сквозь которые могли проходить ремешки или шнуры, скреплявшие между собой пластинки. При этом ремешки крепления могли быстро изнашиваться и перетираться, подвергаясь воздействию граней железных полос. Поэтому более целесообразно было пропускать короткие ремешки сквозь парные отверстия в центральной части полос, где они наименее всего изнашивались. Скрепленные между собой полосы и пришитые к кожаной или матерчатой основе, возможно, крепились к руке при помощи шнурования или системы ремней и застежек. Фрагменты из Тримонциума все же скорее всего принадлежат к остаткам пластинчатых поножей для бедра или полностью для ноги. При этом три полосы из найденного набора не имеют отверстий по краям. Вполне вероятно, это была коленная секция, в которой не применялось ременное крепление и пластинки пришивались прямо на ткань без связи между собой.
В I в. н. э. вес кольчуги, крайне популярной в римской армии, несмотря на введение сегментного доспеха, под его влиянием становится немного легче, приближаясь к весу чешуйчатого доспеха (lorica squamata), также довольно широко распространенного в римской армии. Судя по изображениям, его носили и легионеры, и солдаты вспомогательных подразделений (в основном кавалеристы). При толщине пластин в 0,3 мм вес такого доспеха составлял около 6 кг, и, хотя основная нагрузка приходилась на плечи, его носить было не тяжело. Защитные свойства чешуйчатого доспеха довольно высоки, так как каждая из пластин перекрывается соседней, за счет чего образуется тройной слой латуни толщиной около 1 мм. Кроме этого, существовал своеобразный гибрид чешуйчатого панциря с кольчугой, когда чешуйки крепились поверх кольчужного плетения (lorica plumata)[282], который показан на надгробии центуриона Квинта Сертория Феста, вследствие чего некоторые исследователи предполагают, что такого рода доспех мог изготовляться специально для центурионов и лиц из числа младшего офицерского состава.