Фаворит. Книга вторая. Его Таврида. Том 3 Пикуль Валентин
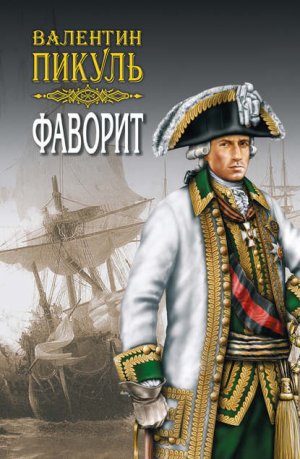
Ветер радостно наполнил паруса. Вот и Лигурийское море.
– А что виднеется там… слева? – спросила женщина.
– Корсика, – скупо отвечал Самуил Карлович Грейг…
Тараканова обнаружила, что Орлов куда-то исчез. К ней подошел караул гвардии с капитаном Литвиновым.
– А где же адмирал? Позовите сюда Чесменского.
– Орлов, яко заговорщик, арестован и предстанет перед судом.
Тараканова требовала хотя бы де Рибаса.
– А сей изменщик, – отвечал ей, – уже повешен… Повинуйтесь!
Мимо Гибралтара она проплыла почти равнодушно, казалась даже веселой и много пела по-итальянски. Но, увидев берега Англии, ей знакомые, хотела броситься в море. Ее удержали матросы. Тут женщина поняла, чту ждет ее впереди, и надолго потеряла сознание. Холодные ветры нелюдимо гудели в парусах, чужое море неласково стелилось под килями громоздких кораблей. 22 мая эскадра Грейга бросила якоря. Тараканову вывели на палубу, отстранив от нее камеристку Мешеде и верного Даманского. Она зябко вздрагивала, кашляла.
Увидев на берегу строение, Тараканова спросила:
– Как называется эта ужасная крепость?
– Кронштадт, – отвечали ей.
Ночью пришла галера, доставившая ее в Петербург – прямо в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В растерянности женщина оглядела страшные, молчащие стены.
– О dio… – простонала она.
В камеру вошел генерал, сказавший по-русски:
– Не пугайтесь! Я фельдмаршал и здешних мест губернатор, князь Александр Михайлович Голицын, мне поручено допросить вас… Первый вопрос самый легкий – кто вы такая?
Увы, ни слова по-русски Тараканова не знала. Ее тонкую и нежную шею украшал странный кулон – на белой эмали черный ворон, оправленный в золото. Женщина в яростном гневе сорвала с себя этот кулон и зашвырнула его в угол:
– О, карамба! О, какое гнусное коварство!
…
В перерыве между танцами Екатерина воскликнула:
– Ради одной паршивой мухи потребно стало гонять вокруг Европы целую эскадру – с адмиралом Грейгом во главе!
– Тяжелая попалась нам муха, – согласился Потемкин.
6. Продолжение праздника
Едва подсохли подмосковные дороги, Екатерина с Потемкиным удалилась в село Коломенское, ища покоя и уединения. Москва-река текла под окнами, скользили лодки под парусами, было очень тихо, лошади переплывали реку на другой берег, там горел одинокий костер пастушонка. На зеленых лугах расцветали ромашки, а далеко-далеко уже зачернели полосы свежевспаханной землицы-кормилицы… Хорошо тут было, хорошо!
Ночью, пугая императрицу, Потемкин угукал филином, зловеще и бедово, как леший. А под утро сказал:
– В лесу родился, из лесу в люди вышел, и в лес тянет… Хочешь, я сейчас всех куриц в округе разбужу?
Потемкин запел в окно петухом, да так задиристо, так голосисто и радостно, что поверили даже все петухи из деревень и откликнулись на его боевой призыв. Лакеи еще спали, туман слоился над рекою, едва открывая росные берега. Любовники спустились во двор. Екатерина разулась, босая шла по мокрой и холодной траве. Остановилась сама и велела ему остановиться. Взяв Потемкина за руку, приложила его ладонь к своему животу:
– Тут последний мой… от тебя, тоже последнего!
…
Павлу шел уже тридцатый год. Алексею, рожденному от Орлова, исполнилось тринадцать лет, и только теперь Екатерина присвоила ему фамилию Бобринский. Потемкин спрашивал ее:
– А наше отродье какой фамилии будет?
– Не Романово же… У тебя, друг мой ласковый, переднее «По» отрубим, останется «Темкин»…
Москва наполнилась слухами, будто Потемкин желает увести императрицу под венец. В церкви на Пречистенке он каялся в грехах, кормил свое «сиятельство» грибками и рыбками, постничая праведно. Однажды из кабинета царицы слышали его голос:
– А если не по-моему, так я и в монастырь уйду…
Плохой сын, он оказался хорошим дядей, все чаще появляясь с выводком племянниц Энгельгардтовых. Одна лишь Танюшка была еще девчонкою, а сестры ее уже взрослые барышни, и, когда они, приодетые дядюшкой, явились во дворце на Волхонке, женихи московские света божьего не взвидели. И впрямь хороши были они, собранные в один букет с пахучих полян Смоленщины, с детства сытые огурцами да пенками, медами да морковками. Только Наденьку фаворит звал «Надеждою без надежды», ибо, не в пример сестрицам, лицом была неказиста. Попав же в придворное общество, деревенские барышни поначалу смущались, слова сказать не могли и просили его:
– Дядюшка, отпусти нас в деревню, а? Скоро, гляди-ко, и ягоды поспеют, девки хороводы водить станут…
В один из вечеров фаворит читал при свечах очередной том Бюффона. Сквозняк от дверей задул свечи. Незнакомый офицер с порога нижайше его сиятельству кланялся.
– Ты кто таков? – спросил его Потемкин.
– Поручик гвардии Петр Шепелев, честь имею.
– Чего тебе от меня… честному-то?
– Руки прошу племянницы вашей.
– Какой? У меня их много.
– Любую беру. Хоть и Надежду без надежды.
Потемкин колокольцем позвал дежурного офицера:
– Жениха сего под арест… за дерзость!
Румянцев прикатил в Москву за два дня до триумфа своего – со штабом, с канцелярией походной. Петр Александрович, не желая враждовать с Потемкиным, представил его к ордену Георгия первой степени, но фаворит скромно отказался:
– Не достоин! Вторую степень, ладно, приму. Но и ты уступи мне, матушка-государыня: Саньке Энгельгардтовой, старшей моей, дай шифр фрейлинский: пора девке в свете бывать…
10 июля вся Москва, от мала до велика, устремилась на Ходынское поле, которое символически изображало Черное море, текли там реки – Дон, Днепр, Дунай, было много расставлено макетов крепостей, отвоеванных у турок, иллюминация выражала радость наступившего мира, берега обставились павильонами, в которых разливали дармовое вино… Екатерина велела:
– Так наклоним же рог изобилия над победителем!
Глашатаи возвестили народу о наградах Румянцеву:
– Наименование графа Задунайского, жезл фельдмаршала с бриллиантами, шпага с камнями драгоценными, шляпа с венком лавровым, ветвь масличная с алмазами, звезда орденская в бриллиантах, медаль с портретом его (ради поощрения в потомстве), имение в пять тысяч душ – для увеселения душевного, сто тысяч рублев из Кабинета – для строительства дома, сервиз из серебра на сорок персон и картины из собрания эрмитажного, какие сам пожелает, – ради украшения дома своего…
Вереница карет покатила в имение героя, названное теперь новым именем «Кайнарджи»: там, среди богатых оранжерей и зеркальных прудов, под сенью старинных дедовских вязов, Румянцев-Задунайский принимал гостей, для которых были накрыты столы в трофейных турецких шатрах, колыхавшихся на ветру шелками – голубыми, желтыми, красными.
Румянцев был мрачен. Потемкин тоже не веселился.
– Что мы, князь, с тобою будто на похоронах?
– Да, невеселы дела наши… Девлет-Гирей опять принял в подмогу себе десант турецкий, а на Кубани смутно стало.
– Сам знаю: война грядет. Страшная! – сказал Румянцев. – Князь Василий Долгорукий-Крымский, Алехан Орлов-Чесменский, я, слава богу, Задунайский стал, вакантное место – Забалканского… Эту титлу недостижимую тебе и желаю!
– И без того расцвел, аки жезл Ааронов…
Вскоре пришло письмо из столицы от фельдмаршала князя Голицына, допрашивавшего Тараканову. «Из ея слов и поступков, – прочел в депеше Потемкин, – видно, что это страстная, горячая натура, одаренная быстрым умом, она имеет много сведений».
– Сущая злодейка! – сказала Екатерина. – Но я уже согласна отпустить ее на все четыре стороны, если она откроет свое подлинное имя и честно признает – кто она.
Тараканова писала Екатерине, умоляя о личном свидании и чтобы убрали из камеры офицера с солдатом, кои при ней безотлучно находятся, а она ведь женщина, и ей очень стыдно. Екатерина отвечала – через Голицына: «Объявите развратнице, что я никогда не приму ее, ибо мне известны ее безнравственные и преступные замыслы…»
Она просила Потемкина поспешить с делами запорожскими, боялась новых возмущений народа.
– Один лишь Яик с Пугачевым, – говорила Екатерина, – чего нам стоил, а по окраинам еще сколько развелось войск: донское, волжское, гребенское, терское… Вся голытьба российской свободы да безделья в казачестве алчет! Петра Калнышевского, атамана Запорожского, я в Соловки сошлю…
…
Грицко Нечёса не забыл гостевания в запорожском стане, когда ходил там, небритый и лохматый, пил горилку по куреням, заедая ее вкусной саламатой. И виделись звезды украинские, белые хутора под лунным сиянием, снова, казалось, чуял он поступь лошадей в теплой духоте ночи. Сам был волен: «Пугу-пугу – едет казак с лугу!»
Польское панство уж на что люто ненавидело запорожцев, но и то признавало: «Турция веками пасть разевала на Киевщину, Волынь да Подолию… где вы, москали, были? Одни лишь запорожцы храбро клали руку в эту пасть, выламывая зубы и султанам, и ханам крымским…» Вольность казачья в поговорку вошла, а бунты казачьи вошли в историю. Москва, потом Петербург всегда учитывали опасность, какую несла эта вольность, паче того, казака в голом-то поле голыми руками не словишь… Кучук-Кайнарджийский мир закрепил новые границы, уже на берегах черноморских, и Сечь Запорожская, оказавшись внутри Украины, прежнее значение форпоста потеряла.
Румянцев грубо, но справедливо доказывал:
– Волдырь посередь Украины! Живут в Сечи своей, все в холостом состоянии, в брачное же силком не затащишь. А когда список поименный у них требуешь, они огрызаются: мол, сколько их – не упомнят, а считать по головам – не бараны же…
Потемкин вникал в запорожские неустройства с опаскою. Тронь их – так куда они побегут? Не к султану ль турецкому, не в мамелюки ль?
Но Румянцев тоже был прав: внутри спаянного государства, в котором украинцы и русские все крепче сжимались в единую братскую семью, разлагалось автономное устройство, дикое, неуправляемое. Потемкин говорил Екатерине, что не желает проливать кровь запорожскую, сам в Сечи живал:
– И нужды казачьи мне ведомы. А что делать?
– Вот и делай как знаешь… Но – истреби!
Разгромить Сечь удалось без крови и выстрелов. Многие запорожцы рыбу ловили, гостили на хуторах «гнездюков» (женатых казаков), пушкари дремали в тени лафетов. Запорожцев попросту разогнали, как сброд, а все реликвии их (бунчуки там, булавы гетманские и прочее) свалили на возы и увезли. Горланили, конечно, чубатые много. Но куреня их сгорели, укрепления их рассыпались – куда денешься? Сообща решили слать депутатов.
Екатерина дала запорожцам последнюю аудиенцию, повелев им жениться, на что чубатые отвечали ей честно: «Женатый чоловик для нас – хуже пса бродячего!» Кошевые да куренные получили от нее чины офицерские. А другие ушли – пропадать в степях да разбойничать. Но много казаков покинуло родину: они перешли Дунай, били челом султану турецкому. Там, за Дунаем, и возникла новая Сечь – Сечь Задунайская.
– Нажили мы себе мамелюков, – ворчал Потемкин. – Ну да пусть потешатся, все равно внуками из-за Дуная вернутся…
Петр Калнышевский, последний атаман Сечи, был навеки заточен в монастырь Соловецкий, где и скончался в возрасте 112 лет. Могила последнего запорожца ныне охраняется государством. Но была еще одна могила тех времен, которую неслышно затоптало безжалостное время. Ровно через полвека декабристы, заточенные в Петропавловской крепости, с трудом разберут на стене каземата выцарапанное обращение к милости божией: «О dio…» – и все!
…
Допрос самозванки Голицын вел по-французски, а листы допросные женщина подписывала именем «Елизавета», что особенно бесило императрицу. Уже поднаторевшая в политических процессах, Екатерина с пристрастием руководила из Москвы следствием, указывая в Петербург – Голицыну, как создавать «ловушки» из слов, дабы принудить самозванку к раскаянию… Борьба была слишком неравной: противу беззащитной больной женщины, запутавшейся в своих фантазиях, воедино сплотились «герой Хотина», слезам не верящий, и житейски опытная императрица, верящая только фактам. Только фактам! О монолиты стен Алексеевского равелина безжалостно разбивались хрупкие иллюзии и сказочные вымыслы, в тишине казематов угасали молитвы и жалобы. На защиту самозванки храбро выступил один лишь консилярий – Михаил Даманский.
– Я страстно люблю эту женщину, которую стоит и пожалеть, – говорил он князю Голицыну. – Я согласен вывести ее отсюда в одной рубашке и на руках пронести через всю Европу.
Голицын злым человеком никогда не был:
– Я отпущу вас… без нее.
– Без нее лучше пусть я здесь и умру.
– Вы были ее любовником?
– Никогда. Я только любил.
– Скажите – кто она такая?
– Если об этом не знает она сама, могу ли знать я?..
Следствие зашло в тупик. Тараканова убеждала фельдмаршала, что в голове у нее давно сложился забавный проект торговли с Персией, что князь Лимбург мечтает о продаже сыра в Россию и сейчас ждет ее как муж, а к дому Романовых она, упаси бог, себя причислять и не думала:
– Подобная ересь могла возникнуть только в голове Радзивилла, вечно пьяного враля и хвастунишки…
Все писанное своей рукой, все манифесты и завещание Елизаветы самозванка объявила копиями с чужих бумаг, которые ей кто-то прислал. Она кашляла кровью. Голицын перевел узницу из равелина в помещение коменданта крепости. В самый неожиданный момент князь Голицын вдруг заговорил с ней на польском языке. Увы, она едва его понимала.
– Хорошо, – сдался Александр Михайлович, – тогда вот вам бумага. Своей рукой начертайте любую фразу на персидском, ибо не знать вы не можете, благо вы там долго жили; в Персии, по вашим же словам, осталось и ваше великое состояние.
Тараканова легко начертала странные кабалистические знаки. Голицын велел отнести написанное в Академию наук; ответ ориенталистов пришел незамедлительно:
– Ни в персидском, ни в арабском, ни в каких других языках подобных фигураций не существует…
– Ваши ученые просто невежды, – сказала самозванка.
Коменданту крепости Голицын жаловался:
– Штурмовать Хотин, в крови по колено, куда как легше было, нежели дело сие волочь на себе…
И уж совсем стало невмоготу старому воину, когда врач выяснил, что Тараканова должна стать матерью:
– У беременной еще и легочная апостема…
Отец известен – Алексей Орлов! Но что случится ранее – родит она или умрет? Фельдмаршал иногда даже хотел спасти ее, как отец спасает заблудшую дочь. Напрасно он доказывал ей – даже ласково:
– Вы еще молоды, дитя мое. За этими стенами – свобода, солнце, пение птиц, сама жизнь! А вы хотите умереть непременно в ранге принцессы, нежели покинуть этот каземат обычной плутовкой, но без высокого титула. Вы придумали себе знатное происхождение, с которым теперь вам страшно расставаться. Однако, – говорил Голицын, – нет ничего зазорного в том состоянии, в каком человек родился… Наш генерал Михельсон, победитель Пугачева, тоже причислял себя к древнему шотландскому роду. А недавно, будучи сильно пьян, сознался, что его отец – столяр с острова Эзель. Однако решпекта своего при дворе императрицы сын столяра не потерял…
Тараканова молчала. Голицын депешировал Екатерине: «Я использовал все средства… никакие изобличения, никакие доводы не заставили ее одуматься!» Помощь пришла с неожиданной стороны. Посол короля Георга III сообщил Екатерине, что, по сведениям, которыми располагает Лондон, самозванка – дочь еврейского трактирщика из Праги. «Впрочем, – добавил посол, – ее отцом может быть и булочник из Нюрнберга…» Голицын, заранее торжествуя, вошел в камеру к Таракановой и сказал, что теперь-то он знает о ней все. При этих словах глаза Таракановой осветились новым блеском. Женщина напряглась. Но, выслушав английскую версию, рассмеялась:
– Дочь трактирщика? Или булочника? О-о, нет…
Струйка крови сбежала из ее рта на ворот сорочки.
7. Поединки
Ассигнации вошли в быт страны, появились уже и фальшивые деньги из бумаги (что каралось ссылкой в Сибирь). Директором Ассигнационного банка был граф Андрей Петрович Шувалов – щеголь, с ног до головы осыпанный бриллиантами.
– Друг мой, – сказала ему Екатерина, – Швеция сама по себе нам неопасна. Но она станет очень опасна, ежели политику свою будет сочетать с турецкой и версальской. Ныне король Густав выехал в Финляндию и меня туда завлекает, чтобы я анекдоты его выслушивала. Я занята Москвой, вместо меня ты и поезжай до Стокгольма: вырази королю мои родственные чувства…
Андрей Шувалов сочинял стихи на французском языке, он был корректором переписки императрицы с Дидро и Вольтером. Баловень судьбы был обескуражен, когда Густав III, одетый в худенький мундирчик, принял его, аристократа, на молочной ферме. За стенкою павильона мычали коровы, а баба-молочница наклонила ведро над графскою кружкой, грубо спрашивая:
– Тебе, русский, добавить сливок или хватит?..
Екатерина в небрежении к своему посланцу видела нечто большее, и шведскому послу Нолькену от нее досталось.
– Я не стану щеголять перед вами остротами, – сказала она. – Но если брату моему, королю вашему, пришла охота пощипать меня за хвост со стороны нордической, то я с любой стороны света в долгу не останусь…
Над Москвою-рекою медленно сочился рассвет.
– Гриша, давай убежим, – вдруг сказала императрица.
– Куда? – сонно спросил Потемкин, уютно приникнув щекой к ее плечу.
– Все равно куда. Утром моего «величества» хватятся, а меня и след простыл. Я ведь, Гриша, озорная бываю. Иногда, чтобы лакеев напугать, под стол прячусь.
Над нею теплилась лампадка иконы «Великомученица Екатерина», фаворит лежал под образом «Григорий Просветитель».
– Скажи, Катя, кроме меня, никого боле не будет?
Она перебирала в пальцах его нежные кудри:
– Последний ты… верь! А какой туман над полянами. Слышишь, и лягушки квакают. Чем тебе не волшебный Гайдн?
– Сравнила ты, глупая, Гайдна с лягушками.
– Ах, по мне, любая музыка – шум, и ничего более. А вот Елизавета концерты лягушачьи слушала. На этом же берегу в Коломенском слезами умывалась. До того уж ей, бедной, симфонии эти нравились… Утешься, – сказала она фавориту. – Куда ж я от тебя денусь? А что глядишь так? Или морщины мои считаешь? Да, стара стала. Куда ж мне, старой, бежать от любви твоей ненасытной? От добра добра не ищут…
Утром они принимались за дела. Потемкин погружался в историю Крымского ханства, Екатерина набрасывала проект «Учреждение о губерниях». Дворянская оппозиция никогда ее не страшила. Но усилением власти дворянской провинции хотела она предупредить новую «пугачевщину». Здесь, в тиши древних хором, женщина завела речь о том, что от власти в уездной России остался лишь жалкий призрак:
– Откуда я знаю, что накуролесит завтрева в Самаре воевода Половцев, какие черти бродят в башке губернатора казанского?
Потемкин напомнил ей поговорку: ждать третьего указу! Первый указ мимо глаз, второй мимо ушей, и лишь третий побуждал провинцию к исполнению.
– Так и получается, – согласилась Екатерина. – Думаю, что провинциям следует дать власти более. Я думаю, и ты думай!
В августе она по-хорошему простилась с графом Дюраном, ей представился новый посол маркиз Жюинье, в свите которого императрица выделила черноглазого атташе Корберона. Екатерина спросила Жюинье:
– Вы здесь недавно, маркиз, каковы впечатления?
– Признаюсь, страшновато жить в стране, где каждую ночь происходит ужасное убийство, о котором по утрам возвещают жителей истошным воплем: «Horrible assassinat!»
– Если перевести этот вопль с французского на русский, – расхохоталась Екатерина, – то «ужасное убийство» обернется просто «рыбой лососиной», о чем и оповещают жителей разносчики-торговцы… А что скажете вы, Корберон?
– Когда я засыпаю под звуки роговых оркестров, я невольно вспоминаю игру савояров на улицах Парижа.
– Да, музыки у нас много, – согласилась императрица. – Никто на скуку не жалуется. Кашу все едят с маслом. В садах от обилия плодов ломаются ветви. Оранжереи зимой и летом производят тропические фрукты. На каждом лугу пасутся стада. А реки кишат рыбой и раками. Но довольства нет… Люди так дурно устроены, что угодить им трудно. Даже в райские времена счастливых не будет. И как бы я ни старалась, по углам все равно шуршать памфлетами станут: тому не так, другому не эдак…
Корберон поинтересовался мнением посла о царице.
– Гениальная актриса! – отвечал ему Жюинье…
Вечером при дворе танцевали. Корберон записал в дневнике: «Турецкую кадриль открыли императрица с Потемкиным; усталость и вожделение на их пресыщенных лицах…»
…
Прусский посол граф Сольмс информировал короля, что великая княгиня Natalie, большая охотница до танцев, на этом балу отсутствовала: «Болезнь ея не из тех, о которых говорят открыто. У нее тошнота, отвращение к пище, что служит признаком беременности…» Фридрих поразмыслил.
– Генрих! – позвал он своего брата. – Не пора ли тебе снова навестить Петербург, чтобы застать там самый смешной момент придворной истории русского царства…
Екатерина при встрече с невесткой ощутила брезгливость.
– Пфуй! – сказала она с отвращением. – Я прежде как следует изучила русский язык, а уж потом брюхатела…
Вскоре лейб-медик Роджерсон доложил императрице, что Natalie имеет неправильное сложение фигуры.
– Не это ли сложение костей сделало из нее немыслимую гордячку, которая не способна даже поклониться как следует?
– Возможно, – отвечал Роджерсон.
Екатерина с безразличным видом тасовала карты.
– «Ирод» подсунул нам завалящий товар, – сказала она…
Глядя на свою «несгибаемую» супругу, Павел тоже разучился кланяться, приветствуя людей не кивком головы, а, напротив, – запрокидывая голову назад, так что виделись его широкие ноздри, дышащие гневом. Он уговаривал Потемкина, чтобы Андрею Разумовскому дали чин генерал-майора, и Потемкин дал:
– Но об этом прежде вас просила его сестрица Наталья Кирилловна…
В это время, на свою же беду, при дворе появился князь Петр Голицын, прославленный сражением с Пугачевым. Молодой генерал был скромен, образован, женат, имел детей. Голицын был очень хорош собой, и Екатерина однажды, не удержавшись, при всех выразила свое восхищение:
– А каков князь Петр! Прямо куколка…
Громыхнул стул, резко отодвинутый: это удалился фаворит. Придворные сразу же начали шептаться:
– Вот и конец Голиафу сему… теперь перемены будут. Ну и пущай князь Петр, не все одноглазому лакомиться…
Потемкин велел заложить лошадей. В кривизне переулков обнаружил он сладкое прибежище своей юности – домишко, где когда-то проживал коломенский выжига Матвей Жуляков.
– Стой, – велел кучеру и остался здесь.
С выжигой он расцеловался в губы, они поплакали.
– Эх, Гришка-студент! Величать-то тебя ныне как?
– Без величанья хорош. Эвон, вижу бочку-то старую… Зачерпни-ка, друг сердешный, как в былые хорошие времена, капустки кисленькой. Вина ставь. Говорить станем…
Одряхлел выжига, но водку глотал исправно. Однако он шибко печалился, что вконец обнищал:
– Сейчас не как раньше. Тогда и баре щедрее были. Мундиров да кафтанов с покойников своих не жалели. Принесут мне: на, жарь! Я и жарю в свое довольство. А теперь, Гришка, сами норовят позолоту содрать, чтобы другой не поживился…
Потемкин смахнул с головы парик, сказал:
– Матяша, верь, и дал бы… да с чего? По семьдесят пять тыщ в год из казны забираю. А долгов уже на двести тыщ наскреб… Вот и считай сам: где тут деньгам быть? Да что деньги – вздор, а люди – все… Чего рот-то открыл? Подцепи-ка еще капустки из бочки.
Они выпили. Громко жевали капусту.
– Жарь духовку свою, – велел Потемкин.
Он сбросил с плеч тяжелый кафтан, обшитый золотом. Оторвал с нагрудья бриллиантовые пуговицы, даренные Екатериной. Швырнул одежду поверх железа, докрасна раскаленного.
– Жги! Чего там жалеть-то? Все дерьмо…
Смрад пошел по лачуге – хоть беги.
– Будто не кафтан, а меня жарят… Наливай!
Золото и бриллианты горкой лежали на столе – промеж бутылок да мисок с капустой, пересыпанной клюковкой.
– Бери все, – сказал Потемкин другу младости.
– Гришка, да ведь спьяна ты… одумайся!
– Твое… забирай, – отвечал фаворит.
Вернулся в карету – пьян-распьян, хватался ручищами за доски заборов, весь черный от копоти, напугал кучера:
– Эко вас, хосподи! Ваш сясь, никак пограбили?
– Должок другу вернул… езжай, не вырони меня.
Утром, когда пробудился, Москва гудела, встревоженная. На рассвете дрались на шпагах князь Голицын и Петр Шепелев, который коварным выпадом и заколол «куколку» насмерть.
Убийца не замедлил навестить Потемкина.
– Ваше сиятельство, – сказал Шепелев с подобострастием, – не токмо я, но и персоны важные приметили, что внимание особы, нам близкой, к петуху сему неприятно вам было. За услугу, мною оказанную, извольте руку племянницы вашенькой…
Григорий Александрович спустил его с лестницы:
– Убирайся, скнипа! Иначе велю собаками разорвать…
Панин позвал его к ужину, где были и послы иноземные. Оглядев их, Никита Иванович сказал, табакеркой играя:
– Из Америки слухи военные: англичане тамошние расхотели быть королевскими. Чую, вскорости Петербург обзаведется новым посланником – заокеанским. А эти фермеры, я слыхивал, чай лакают с блюдечек, по углам через палец сморкаются…
Корберон в тот вечер записал: «У гр. Панина была княг. Дашкова… она не терпит нас, французов, зато исполнена любви к англичанам. Скоро она отъезжает в Ирландию, где и останется с сыном, воспитание которого поручает знаменитому философу Юму». Потемкин спросил у посла Англии:
– Так ли уж плохи дела в Америке?
– Об этом предмете мой король подробно извещает императрицу вашу, прося предоставить ему для войны в Америке русскую армию, кстати освободившуюся после войны с турками. Георг Третий обещает платить Екатерине золотыми гинеями.
– Вам, милорд, – обозлился Потемкин, – не хватит Голконды в Индии, чтобы за кровь русских солдат расплатиться!
…
Дашкова вскорости отъехала в Европу, увозя с собою дочь, бывшую женой пожилого бригадира Щербинина, и холостого сына, которому внушала по дороге: «Я дам вам самое лучшее воспитание – аглицкое, чтобы благородству ваших поступков и мыслей все в России завидовали». О, горькое заблуждение материнского сердца! Екатерина в этом случае рассуждала более здраво и Никите Панину сказала напрямик:
– Ваша племянница укатила, и черт с ней! Ни с кем она не уживется. Вот увидите, дети княгини Дашковой станут еще злейшими врагами своей тщеславной матери…
В поединке с самозванкой Екатерина понесла поражение. Теперь ей еще более хотелось знать – кто же она такая? Фельдмаршал Голицын, получив от императрицы новые инструкции, навестил в камере Даманского.
– Государыня велела мне объявить, что она не враг вашему счастью. Вам предоставлено право свободы. Вы можете венчаться согласно обычаям любой веры. Казна России берет на себя все свадебные расходы, и вы получите богатое приданое от нашей императрицы.
– О, как она милосердна! – воскликнул Даманский.
– Не спешите, – притушил его радость Голицын. – Вы должны пройти к своей госпоже, и пусть она честно признается перед вами, кто она такая, откуда родом и прочее.
Даманский беседовал с Таракановой по-итальянски: через дверь было слышно, как она плачет, упрекая его в чем-то, потом громко вскрикнула – и Даманский выскочил из камеры:
– Она утверждает, что сказала вам правду.
– Так кто же она такая? – рассвирепел Голицын.
– Дочь покойной Елизаветы и Разумовского…
Тараканова просила священника православного, но со знанием немецкого языка. Такого ей представили. Перед ним она каялась во многих грехах и любострастии, но своего подлинного имени так и не открыла. А в декабре умерла. Самозванка покоилась на плоской доске, еще не убранная к погребению, с широко открытыми глазами. Растопырив два пальца, князь Голицын аккуратно закрыл их… Бездонное, как океан, великое молчание истории – о, как оно бывает тягостно для потомков!
В декабре двор – длиннейшими караванами – покинул Москву, устремившись в столицу. До нового 1776 года оставались считанные дни. Морозище лютовал страшный. Лошади закуржавились от обильного инея. Дорога занимала пять дней и десять часов. От старой столицы до новой было 735 верст, аккуратные дощечки с номерами отмечали каждую версту… В конце поезда скромно катились Безбородко и Завадовский, а пьяный кучер из хохлов часто задевал боками возка верстовые столбы…
– Понатыкали столбив, що и нэ проихать чоловику…
8. Комедия Бомарше
В карете императрицы Потемкин сам топил печку.
– Все время загадки! – жаловался он, обкладывая берестой поленья. – Дашь человеку мало прав – считаться с таким не будут, дашь много воли – распояшется, мерзавец, и других под себя подомнет. До чего трудна эта наука!
Екатерина, грея руки в муфте, сидела в уголке кареты, поджав под себя зябнущие ноги. Она сказала, что империя двигается не столько людьми, с нею, императрицей, согласными, сколько умными врагами ее царствования. И даже назвала их поименно: граф Румянцев-Задунайский, братья Панины, князь Репнин. Главное в управлении государством – не отвергать дельных врагов, а, напротив, приближать их к себе, делая их тем самым безопасными, чтобы затем использовать в своих целях все их качества, включая и порочные.
– Но помни, что имеешь дело с живыми людьми, а люди – не бумага, которую и скомкать можно. Человека же, если скомкаешь, никаким утюгом не разгладишь…
Отношение ее к людям было чисто утилитарным: встречая нового человека, она пыталась выяснить, на что он годен и каковы его пристрастия. Всех изученных ею людей императрица держала в запасе, как хранят оружие в арсенале, чтобы в нужный момент извлечь – к действию. Кандидатов на важные посты Екатерина экзаменовала до трех раз. Если в первой аудиенции он казался глупым, назначала вторую: «Ведь он мог смутиться, а в смущении человек робок». Второе свидание тоже не было решающим – до третьего: «Может, я сама виновата, вовлекая его в беседы, ему не свойственные, и потому вдругорядь стану с ним поразвязнее…»





