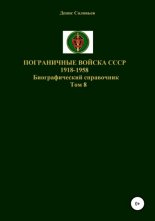Царская любовь Прозоров Александр

Иоанн и Анастасия остались наедине, не сводя друг с друга глаз.
– Три месяца я мечтаю услышать твой голос, ладушка моя ненаглядная, – признался юный царь. – Скажи мне хоть что-нибудь. – И улыбнулся: – Только не шепотом!
– Я люблю тебя, муж мой, – ответила ему царица. – Люблю до беспамятства. Люблю с того самого часа, как увидела впервые три месяца назад. Ты не представляешь, как я ныне счастлива!
– Представляю, моя любимая, – ответил Иоанн и провел рукой по ее голове, освобождая волосы от ненужных более украшений. А потом снова крепко-крепко, надолго прильнул губами. – Это лучшие слова, каковые токмо я слышал в сей жизни!
– Только бы не проснуться! – взмолилась Настя, когда ее уста вновь оказались разомкнуты.
– Вот уж нет! – Юный богатырь легко, как пушинку, подхватил девушку на руки. – Из нашего сна я тебя никогда и ни за что не отпущу!
Он вдруг крутанулся на месте, рассмеялся и понес жену в опочивальню.
Юный царь изрядно потрудился в минувший месяц, просмотрев и подписав многие сотни если не тысячи грамот, что каждый день разносились на стремительных скакунах во все края огромной державы, утверждая новое звание ее правителя, новую подпись и печати. Не меньше было составлено и приказов о назначениях. Род потомков боярина Андрея по прозвищу Кобыла оказался воистину многочисленным и разветвленным, его правнуки служили земле русской во многих городах и крепостях, почти во всех приказах, проживали в самых разных землях. А уж сваты, девери, побратимы были всюду. И отныне почти все представители рода Захарьиных внезапно возносились по службе своей к весьма весомым должностям. Иван Висковатый, Никита Фуников, Иван Головин, Андрей Васильев из стряпчих мгновенно превращались в дьяков, принимая под руку Посольский, Казенный, Земской, Поместный, Разрядный приказы; боярские дети Кобыльины, Юрьевы, Яковлевы, Кошкины – становились наместниками, окольничими и воеводами.
Впрочем, первым из рода Захарьиных окольничим стал, конечно же, Данила Романович, родной брат юной царицы. Хотя он о сем возвышении еще даже не подозревал, где-то на мерзлой Оке оберегая в дозоре православный люд от басурманских душегубов-разбойников.
Иван Васильевич потрудился изрядно – но зато теперь смог вовсе отойти от дел, исчезнуть с глаз людских долой, утонуть душою в темных глазах хрупкой и нежной Анастасии, забыть обо всем на свете, отдавшись любви и счастью. Молодые супруги не знали – да и знать ничего не хотели о том, что происходит за стенами их покоев и жаркой бани, каковую Иван и Настя посещали через два дня на третий. Не то чтобы сильно пачкались – просто таков уж на Руси обычай…
Только боярин Алексей Адашев время от времени просачивался в запретные комнаты – чтобы поменять свечи, перестелить постель, убрать грязную посуду и заветрившиеся угощения, принести новые. Он старался не попадаться молодым на глаза. Но даже когда сие и случалось – царственные супруги были слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на тихого стряпчего…
Почти две недели длилось их уединенное счастье, пока в один из дней молодой боярин не постучал настойчиво в дверь, особо привлекая внимание, а войдя в горницу, не склонился в низком поклоне:
– Не гневайся, государь, что от дум важных отвлекаю! Дозволь слово слуге свому верному молвить.
– Что скажешь, дума моя единственная? – обратился царь к сидящей рядом жене. – Позволим добру молодцу уста свои разомкнуть?
– Пусть сказывает, душа моя… – улыбнулась Анастасия, одетая лишь в нижнюю рубаху и жемчужную понизь. – А то я его уж за тень бесплотную принимать начала.
– Сказывай, боярин, – милостиво кивнул Иоанн.
– Князья московские из Думы боярской челом тебе бьют, государь, – поклонился Адашев. – Пред очи твои предстать желают с делами насущными…
Юный царь повернул голову к жене.
– Возвращайся скорее, супруг мой ненаглядный, – попросила Анастасия.
Иоанн улыбнулся и поднялся из-за стола. Кратко распорядился:
– Одеваться! – поцеловал жену в сладкие алые губы и направился к стряпчему.
Спустя час государь сидел в кресле, поставленном у стены в просторной трапезной дворца. Столы были сдвинуты к стенам и накрыты коврами; перед ними тянулись в два ряда деревянные скамьи, и оттого просторное помещение, освещенное десятком масляных светильников, торжественным отнюдь не выглядело. Ощущение простоты и небрежности дополняла свита правителя всея Руси: худощавый митрополит в серой суконной рясе и черной скуфье, Григорий Юрьевич, ныне уже думный боярин – в простом коричневом кафтане и вышитой катурлином тафье, и стряпчий Алексей Адашев в нарядном синем зипуне – все украшение которого, однако, составляли лишь желтые шелковые шнуры на швах и застежках. Царь выглядел ненамного богаче. Отороченная соболем суконная шапка, подбитая бобром шуба, перстни на пальцах да тяжелый золоченый шестопер-скипетр в крупном богатырском кулаке.
Увы, но во время бегства из Москвы правителю Руси было не до сундуков с рухлядью. Посему, что в кладовых дворца нашлось – в то старье и одевался.
Княжье посольство смотрелось куда как богаче: высокие бобровые и горлатные шапки, шубы песцовые да соболиные. На шеях сверкали оправленные в золото самоцветы и жемчужные оплечья, ферязи под шубами сияли драгоценным шитьем, о половицы пола стучали резные посохи с серебряной оковкой, с яхонтовым навершием. Однако кланяться пришлось все-таки им: князьям Глинскому и Вельскому, обоим Шуйским и Мстиславскому, боярину Тучкову и прочим думским сидельцам:
– Долгие лета тебе, государь Иван Васильевич!
– И вам здоровья, бояре, – кивнул в ответ юный царь. – С чем пожаловали?
– От всей державы русской и люда православного кланяемся тебе, государь, – сделав шаг вперед, еще раз склонил голову гладко выбритый князь Василий Глинский. Надо сказать, что рябое лицо со множеством старческих морщин сия литвинская мода отнюдь не украшала. – Ведаем, юн ты и горяч! Возжелал деву красную, загорелся сердцем, под венец ее привел. Случается сие, и оно понятно. Однако же побаловал немного – пора и честь знать! Ныне Дума боярская приказов насущных утвердить не в силах, ибо печати ее и подписи незаконными объявлены! В приказах чехарда и разброд, города указы не принимают, Разрядный приказ роспись исполчения нового утвердить не в силах. Посему просим тебя, Иван Васильевич, ныне же в Москву возвернуться и решения Думы подписью и печатью новыми утвердить, смуту ненужную прекратив!
– С какой стати ты, Василий Михайлович, за всю державу и народ православный речи решил вести? – спокойно удивился царь. – Неделю тому назад я повелел собор Земский созвать, на коем люди от каждого сословия и от земли волости сами от имени свого говорить смогут. Сие и выйдет глас державы и народа истинный. Его услышать желаю. Помыслы Руси православной на соборе сем я узнаю в точности, о планах важнейших с народом своим посоветуюсь, с ним и воплощать чаяния общие станем. Вас же, Василий Михайлович, в Думе всего семеро засело. Да и то лишь от одного сословия: своего, думного.
– Может, и семеро! – не выдержав, вскинул посох князь Вельский, на груди которого лежала обширная и седая, хорошо ухоженная борода, наглядно доказывая, что возрастом он своему сотоварищу ничуть не уступает. – Но семь родов древнейших и знатных! Разумность свою и честь веками доказавших! Ты же указами своими смердов худородных в дьяки и воеводы ставишь! Боярских детей на места, исстари княжеские, возводишь! Рода честные позоришь! Где это видано, чтобы князья и бояре люду служивому кланялись, указы смердов черных сполняли?! Ты и в жены-то тоже худородку жалкую избрал! Нечто тебе средь княжон красавиц не нашлось?! Ты что же хочешь, чтобы жены наши и дщери в свите великокняжеской Кошкиной отщепенке прислуживали?! Пустышке безродной кланялись и прислуживали?! Невместно сие!
– О местах вспомнили, псы плешивые?! – вскочив со своего места, громогласно рявкнул царь. – Что же о чести сей не заботились, когда питали нас с братом Юрием, яко холопов иноземных или яко убожайшую чадь?! Когда унижали нас во одеянии и во алкании?! Нешто не помню я, как мы во юности детства играющие были, а ты на лавке сидел, локтем опершися, на постель мою ногу положив, к нам же не преклоняяся?! Вся юность моя в невместности прошла! С чего мне ныне о сем беспокоиться?!
– Чадо… – забеспокоился митрополит, однако Иоанн уже сел, зло взмахнув скипетром, откинулся на спинку кресла:
– Господь велел нам прощать обиды врагам нашим. Как государь православный, сей завет я исполняю и объявляю вам, бояре, что карать за прегрешения прежние никого не стану и обиды забуду. Однако же с часа сего вы мою волю исполнять станете, а не помыслы хитрые, что меж собой тайно сочиняете!
– Коли воля твоя, Иван Васильевич, ее исполнить не позорно, – высказался русобородый и голубоглазый князь Иван Михайлович Шуйский, больше известный по прозвищу Плетень. – Но Захарьиным безродным знатные семьи служить не станут! Лучше я на плаху взойду, чем Гришке худородному поклонюсь!
– Пред Господом нашим все равны, княже, – степенно, словно подражая святителю Макарию, ответил юный царь. – Нет для него разницы меж правителем и рабом. Един бог на небе, един царь на земле. Предо мною все равны, Иван Михайлович! И ты, и сын боярский, и смерд черный. И всем вам надлежит волю мою с равным старанием исполнять!
– Воля твоя, государь, – пристукнув посохом, склонил голову князь Шуйский. – Однако же ныне от переживаний сих занемог я сильно. Из постели посмотрю, каково боярские сыны худородные полки ратные в походы водить смогут, росписи разрядные составлять да дела посольские вести. И в свите Анастасии Кошкиной ни супруге моей, ни дочерям не бывать!
Иван Плетень еще раз решительно стукнул об пол посохом, развернулся и неспешно вышел из трапезной.
– Занемог я, государь, – после короткой заминки ударил посохом об пол князь Шуйский-Горбатый, Александр Борисович, и вышел вслед за родственником.
– Занемог! – решился князь Вельский, а вслед за ним Глинский, Мстиславский и все остальные. Не прошло и минуты, как в трапезной, перед импровизированным троном, стало почти что пусто. Наступила тишина.
– Вот так, отче… – Иоанн в задумчивости прикусил губу. – Хотели мы нынешним годом Казань одолеть, люд православный из рабства освободить, набеги разбойничьи пресечь… А полки вести, видишь, уж и некому. Коли войско большое соберется, в нем и князья, и бояре, знамо, будут. А князья уделов разных никому, кроме как Рюриковичам, подчиняться не захотят. Взбунтуются… как вот эти… – Юный царь указал подбородком на распахнутую дверь.
– Князь Владимир Иванович Воротынский рати возглавит, – сообщил думный боярин Григорий Захарьин. – Он ведь от Рюрика род свой ведет, двадцать первое колено. И все семьи рода Воротынских его поддержат. Им токмо в радость будет доблесть показать, покуда старшие княжеские ветви по уделам отсиживаются. Убежать от чести легко. Вернуться трудно.
– Не откажется? – В голосе Иоанна прозвучало сомнение. – О местах и худородстве речей заводить не станет?
– Матушку князя Владимира Ивановича величают Анной Ивановной Захарьиной, – широко ухмыльнулся Григорий Юрьевич. – В любви он зачат, в любви и согласии, в нежной заботе матушкиной вырос и чтит ее, ако святую. Так что при нем о худородстве Захарьиных лучше не поминать.
– Воистину вы есть везде! – сразу повеселел Иоанн и поднялся с кресла. – Что же, раз Шуйские, Глинские и Милославские от службы отказываются, их места займут Воротынские и… И прочие достойные слуги!
– Я горжусь тобой, чадо, – негромко произнес митрополит Макарий. – Ты показал себя истинным государем. Достойным, волевым и решительным!
– Благодарю, святитель… – наклонившись, поцеловал руку священника юный царь.
– Дозволь, государь, и мне слово молвить? – неожиданно подал голос притаившийся за спиной боярина Захарьина стряпчий.
– Сказывай, раз так хочется, – благодушно улыбнулся ему Иоанн.
– В странах самых развитых и полных мудрости, – неуверенно облизнув бледные губы, произнес Алексей Адашев, – государи великие в делах ратных не столько на волю знати своей полагаются, сколько на людей ратных, лично им преданных. У султана османского янычары имеются, у халифов египетских – мамлюки, у падишахов персидских – гулямы. Кабы у тебя, государь, таковые полки личные имелись, так и гнев любой князей знатных тебя бы ничуть не беспокоил.
– Вот как? – заинтересовался юный царь. – Тебе ведомы обычаи халифов и падишахов? Похоже, ты неплохо образован, боярин?
– Я посвятил много времени чтению «Четьих миней» святителя Макария, государь, а также учился счету и красивому письму, – склонил голову стряпчий.
– Коли так, то ты должен знать, боярин, что воины сии воспитывались из детей-рабов, – сказал Иоанн. – Нам, людям православным, подобные обычаи заводить невместно!
– Не нужно детей и рабов! – опять облизнулся Андрей Адашев. – Надобно просто людей вольных в сии полки набирать! Не княжеских, государь, черных! Твоих!
– Не очень пока понимаю, о чем сказываешь, боярин, – покачал головой Иоанн. – Но может статься, здравое зерно в помыслах твоих и имеется. На бумагу слова сии выпиши и мне опосля подашь. Так оно вернее выйдет, дабы затея не потерялась. Коли успеешь, так сегодня перед ужином…
Иоанн в задумчивости посмотрел на скипетр, потом вдруг сунул его за пазуху и поспешил из трапезной.
– Да пребудет с тобою милость Господа нашего Иисуса Христа, чадо, – торопливо перекрестил его спину митрополит. – А лоно супруги твоей обильным…
Между тем в эти же самые минуты совсем рядом, во дворе Воробьевского дворца, шел совсем другой разговор, начатый боярином Тучковым.
– Вестимо, телепневский ублюдок полагает, Земский собор сразу ему в ножки поклонится и все желания исполнять станет! – со злостью ударил он посохом о столб крыльца. – Вот забавно вышло бы, коли на собор этот взять да и старшего брата Иванова привести, коего Соломея Сабурова в обители родила! Вы помните историю с родами монастырскими, бояре? Великий князь Василий тогда шибко гневался, что жена разведенная ребенка ему не отдала, однако же церковь в его честь поставил и Соломею деревней наградил. Что там далее с дитем сим случилось, никто не помнит? Где оно ныне? После того как Василий Ваньку наследником назвал, я как-то и не справлялся более…
– Вроде как умер мальчик… – ответил князь Глинский. – Оспа.
– Так не было мора в Суздале, – покачал головой Тучков. – Откуда ей взяться-то? Мальчику же ныне годков двадцать должно исполниться. Вот и привести бы его на собор Земский, да вопросить народ, кому надлежит державой править – старшему брату али младшему? Вот Ваньке нежданчик бы так нежданчик случился!
– Может, и не оспа, – засомневался князь Глинский. – Но умер он, верно говорю.
Прислушиваясь к разговору думных бояр, князь Иван Шуйский по прозвищу Плетень опустил посох к груди князя Александра Горбатого-Шуйского, вынуждая того замедлить шаг. А когда они отстали от остальных посланцев, негромко спросил:
– Брат мой… Кажется, нам надобно навестить нашу тетушку. Как полагаешь?
– Это верно, Иван Михайлович, – согласно кивнул Александр Борисович. – Про великих княгинь лучше ее никто не знает.
– В таком случае, брат, приглашаю тебя сегодня на ужин, – решил Иван Плетень, и князья Шуйские направились к саням. Каждый к своим, разумеется.
До Москвы обе свиты добрались уже ночью, в полной темноте. Однако княжеское подворье было ярко освещено десятью факелами. Набежала дворня, встречая гостей: приняли за уздцы лошадей; поднеся свет к саням, помогли спешиться боярам.
– Мамай, дворню брата моего в людскую определи, – распорядился ключнику Иван Михайлович. – Накормите, напоите с дороги. Нам же стол в малой горнице вели накрыть. Тетушка Анастасия еще не ужинала? Передай, за честь почтем трапезу с нею разделить.
Пятиюродные братья Шуйские не спеша поднялись по лестнице, поклонились дверной иконе, в сенях скинули шубы холопам на руки – чего меж родичами чиниться? Вместо расшитых катурлином валенок обулись в мягкие войлочные полусапожки, так же медленно двинулись по расстеленным по коридору половикам.
Однако, как они ни медлили, слуги все же не успели накрыть стол в небольшой комнате возле хозяйских покоев и теперь суетились, толкая друг друга локтями, расставляя миски с бухарской курагой, крымским изюмом и персидскими финиками, блюда с соленой беломорской семгой, копченой астраханской белорыбицей, печеными двинскими судачками и местной, московской, заливной щукой. Из закуски имелась квашеная капуста с брусникой и яблоками, маринованные огурчики, балтийская селедка, а из горячего – тушенные в сметане караси и пироги с вязигой. Мяса не принесли никакого. Все же день выпал постный, и в еде следовало проявить воздержание.
Иван Плетень терпеливо дождался, пока дворня закончит с хлопотами. Наконец ключник самолично принес два серебряных кувшина, покрытых тонкой самаркандской чеканкой, золотые кубки с самоцветами. Подворники водрузили в центр стола вместо масляной лампы пятирожковый светильник со свежими восковыми свечами – эти горели с запахом лаванды, а не гнилого жира – и вышли за дверь, затворив тяжелые толстые створки.
Александр Борисович прошел к окну, бесшумно ступая по толстому ковру ногайской выделки, попытался выглянуть наружу – но сделать это сквозь две рамы, заделанные ребристой слюдой, понятно, не смог. Спросил, не оглядываясь:
– Нас точно никто не услышит?
– Холопы научены издалека следить, чтобы к дверям никто не подходил, когда я тут гостей потчую, – ответил Иван Михайлович. – И сами ничего не слышат, и другим не дают. Тебе какого вина налить, брат, белого али красного? Оба немецкие.
– Красное фряжское, – прозвучал женский голос.
– Чуть не пролил! – ругнулся вздрогнувший от неожиданности Иван Плетень. – Что же ты меня так пугаешь, тетушка?!
– Ты же сам меня к ужину пригласил, Ванечка, – ответил голос. – Чего же тогда боишься? И кто сие с нами трапезничает?
– Александр Борисович, тетушка, из ветви Горбатых.
– А-а, Сашка-крикун! – Послышался шелест, из сумрака в углу горницы вышла пожилая женщина в темном сарафане и темном платке, с морщинистым уже лицом и глубоко сидящими белесыми глазами. В этой старушке ныне было уже не узнать красавицу Анастасию Шуйскую, кравчую из свиты двух великих княгинь, умную, находчивую и хорошо образованную, надежду всего клана Шуйских на восхождение к власти.
Увы, после смерти князя Василия по прозвищу Немой она как-то сразу сдала, потеряла интерес к жизни и теперь тихо доживала отпущенный век в родовых хоромах. Тем паче что кравчие при дворе вот уже более десяти лет не требовались. Прежняя великая княгиня скончалась давным-давно, а новая у государя всего полмесяца как появилась.
Княжна подобралась к гостю и неожиданно подергала его за окладистую бороду, хлопнула ладонью по животу:
– Заматерел мальчик, заматерел… Когда последний раз тебя видела, у тебя еще даже пушка на подбородке не появилось.
– Это когда же было, тетушка? – не посмел гневаться на грубую ласку Александр Борисович.
– Давно, мальчик, давно, – с грустью вздохнула женщина. – Надо чаще встречаться.
– Тебе красного налить, тетушка? – спросил Иван Плетень.
– Да, фряжского, – кивнула княжна. Она дождалась, пока хозяин дома наполнит золотой кубок, после чего отправилась обратно в сумрачный угол.
– А к столу с нами не сядешь, тетушка?
– Спасибо, Ванечка, я уже покушала, – ответила Анастасия Шуйская. – Так что сказывай, зачем звал, да почивать пойду. Зимой спится хорошо. Воздух сладкий, печь горячая, дрова трещат. Лепота…
– Великая княгиня Соломония после пострига в монастырь мальчика родила, помнишь? – Хозяин дома налил вина себе, после чего повернулся к гостю: – К столу прошу садиться, Александр Борисович. Чем богаты, тем и рады.
– Как же не помнить? – хмыкнула из темноты княжна. – Сразу после переворота Ленки Глинской его боярский сын Кудеяр Тишенков от греха увез, дабы не убили. Он ведь Ивана, сына Глинской, старше, и прав на стол у него куда как поболее. Вот токмо права-то у него были, ан сторонников никого. Потому Соломея дитя и спрятала. А чтобы не искали, могилку ложную сделала. Куклу какую-то закопала.
– Так он жив?! – хором переспросили братья.
– Да какая, князья, разница? – удивилась Анастасия Шуйская. – Могилка есть, свидетелей похорон не счесть. Плита надгробная с именем в наличии. А коли так, то и нет его, старшего наследника. Сгинул. А жив, нет – то уже без разницы. Я его и искать не стала. Что я, упырь какой дикий, дитя малое жизни лишать? А литовка поверила.
– Твое здоровье, тетушка, – налив себе вина, поднял кубок гость. – Позволь спросить. Откель ты проведала, что жив царевич?
– Так ведь то тайна невеликая, – засмеялась темнота. – Великая княгиня, пусть и в обители, однако же под надзором все время оставалась. Как же без такой предосторожности? В отчете Разрядного приказа все в подробностях записано. Кто мальчика забрал, когда, что после того Соломея сотворила. Князь Василий Немой сей отчет просмотрел. А Ленке Глинской недосуг оказалось, своим соглядатаям поверила. Вот литовка и успокоилась.
– Выходит, доказать сие выйдет нетрудно? – переспросил Иван Михайлович.
– Смотря что. – Анастасия Шуйская отпила немного вина. – Вы все спрашиваете, спрашиваете, мальчики. Сами-то ничего рассказать не желаете?
– Государь наш, Великий князь Иоанн, взбунтовался, – вздохнул князь Горбатый-Шуйский. – На царствие после Крещения Господня венчался, а через две недели тезку твою, боярскую дочь Анастасию замуж взял. Из Захарьиных. Род сей худородный, однако же плодовитый, и их на Руси больше, чем мышей в старом амбаре. Все места под себя враз растащили, нас же, князей родовитых, от службы отставили.
– Нешто вы собрались государя свергнуть, мальчики? – неприкрыто изумилась женщина. – Неразумно сие. Род Шуйских хоть и велик, но супротив всех прочих князей разом не выстоит. А даже коли победит, то в смуте начавшейся держава разорена окажется. Заместо царствия вам токмо пепелище с мертвецами бесчисленными останется. Ляхи поганые, татары волжские, сарацины османские слабости нашей не попустят, тут же, аки крысы, со всех сторон накинутся. Порвут все, что останется. На что вам такая победа? Не-ет, мальчики, смуты допускать нельзя. Власть брать надобно тихо и незаметно, при общем согласии, державу отчую никак не послабляя.
– Старшим в ветви Ярославичей ныне князь Владимир Старицкий выходит, коли по роду, али Юрий, брат Иоанна, коли по отцу, – сказал Александр Борисович, накалывая ножом ломоть копченой белорыбицы. – Если Ивана свергнуть, на престоле окажутся они. Если же поперва их убирать, то покуда управимся, наш шустрый царь живенько своих наследников настрогает. Так что на сем пути нам успеха не видать. Но вот коли старший брат государя жив, то тут все совсем иначе складывается. Старшего брата можно сразу на царствие венчать, даже при живом Иоанне, и потомки Иоанна после того наследниками более ужо не окажутся. Рожай не рожай, то без разницы.
– А коли он еще и неженат, то его можно с кем-то из Шуйских повенчать, – задумчиво продолжила княжна. – Тогда уже мы, а не Ярославичи, старшими средь наследников станем.
Женщина поднялась, вышла в свет свечей, уже распрямившись и развернув плечи. И даже морщины на ее лице вроде как частью расправились. Похоже, возникающая интрига разом вернула бывшей кравчей интерес к жизни.
– Доказать, что царевич Юрий жив, несложно, достаточно взять из архива дело Соломеи. – Анастасия Шуйская залпом допила вино, поставила кубок на стол. – Труднее доказать, что это именно он. Надобно сыскать людей, что ребенка малого увидеть успели, приметы определить. Родинки, облик, изъяны какие на теле. Среди монахинь спрос надобно учинить, всех родственников Сабуровских расспросить. Не может быть, чтобы она никому из семьи малыша не показала! Сам ребенок ныне с Кудеяром, полагаю. Как отыщете, от меня поклон боярскому сыну передайте. Меня он знает хорошо, в мое слово должен поверить.
Женщина провела ладонью над столом, опустила пальцы на миску с ягодной пастилой, кинула несколько розовых полупрозрачных ломтиков себе в рот.
– А где он ныне обитает, тетушка? – живо спросил Иван Михайлович. – Куда бояр доверенных посылать?
Княжна пожала плечами и покачала головой:
– Даже не представляю…
11 апреля 1547 года
Степь перед Перекопским валом
Всего лишь небольшая полоска весенней степи продолжала сочно зеленеть молодой травой; тут и там среди нее начали распускаться многочисленные бутоны алых диких тюльпанов, словно предвещая близкие реки крови. Полоса чистоты и покоя полтораста шагов в ширину и полверсты длиной. По одну сторону этой полосы темнела широкая лента из десяти тысяч ногайских воинов, пришедших сюда под командой храброго и многоопытного Алимирзы. По другую – плотно сбитая трехтысячная крымская армия калги Эмин-Гирея, закрывающая собой подступ к воротам через Перекоп.
Теплое солнышко поднималось к зениту, наполняя степь блаженной негой, и многие тысячи степняков никак не решались сделать первый шаг к смерти.
– Ал-ла-а!!! Ал-ла-а!!! – прокатился громкий клич по рядам ногайцев, и они тронули пятками коней, вынуждая скакунов медленно двинуться вперед. Луки выскользнули из колчанов в руки, легли на тетивы многие тысячи стрел. – Ал-ла-а!!!
Воздух загудел от бесчисленных темных черточек, что взметнулись ввысь, падая на ряды крымчаков. Заржали от боли лошади, закричали, ругаясь, раненые; кого-то из татар вынесла из строя обезумевшая лошадь, еще кто-то рухнул мертвым под копыта товарищей. Воины калги-султана, в свою очередь, тоже начали стрелять по приближающемуся врагу – но ливень ногайских стрел вышел куда как гуще, и крымчаки не выдержали, сорвались с места, уходя от верной смерти. А поскольку бежать назад было некуда – за их спиной возвышался неодолимый вал, – конная масса двинулась вправо и вперед.
Ногайцы отреагировали мгновенно, двинув на перехват левое крыло своего войска – однако крымчаки не отступили, а наоборот – ускорили скачку, стремительно опустошая колчаны. Когда же до столкновения оставалось всего два десятка шагов – внезапно прянули в стороны, и легкоконные степняки увидели перед собой уже разогнавшуюся во весь опор полусотню закованных в броню всадников в сверкающих стальных, золоченых и вороненых шлемах, с развевающимися за плечами плащами, с круглыми русскими щитами, на которых, однако, были нанесены арабской вязью изречения из Корана.
– Юра, к стремени жмись! – выкрикнул в последний миг непонятную команду воин в вороненом шлеме, и отряд кованой рати стремительно врезался в рыхлую татарскую массу.
Ногайцы поднимали скакунов на дыбы, тянули поводья, пытаясь развернуться – но их не пускали собственные товарищи, напирающие сзади, и несчастным головным нукерам пришлось принять весь напор на себя – тяжелые рогатины пробивали тела, прикрытые лишь ватными халатами, насквозь; на всю длину входили в лошадиные туши, пробивая затем и седло, и всадника, превращали в щепу легкие тополиные щиты, которыми пытались прикрыться степняки. К тому же кованая конница шла плотным строем, стремя к стремени, и на каждого, привыкшего стоять вольготно, ногайского воина пришлось по два, а то и по три крымчака – так что многих врагов тяжелые всадники просто опрокинули грудью крупных холеных коней и стоптали копытами, продолжая на хорошей скорости двигаться вперед.
– Стремя! Стремя держите! – выкрикнул в самый момент сшибки командир отряда, опустил голову и вскинул щит, принимая на него удар копыт поднятого на дыбы степного коня, толкнул вперед рогатину, метясь в нижний край вражеского щита. Бедолага слишком поздно стал менять лук на пику и потому в самый важный миг своей жизни оказался практически безоружен. Острая закаленная рогатина легко прошла сквозь древесину, расщепив доски щита вдоль, впилась степняку в живот – но не слишком глубоко. Бывалый боец успел отдернуть свое копье, не дав ему застрять в плоти и сохранив оружие для новой схватки.
Идущий рядом воин в золоченом шлеме по своему врагу промахнулся, рогатина прошла мимо цели, однако удар конской грудью опрокинул ногайца, и острие копья тут же достало врага, что открылся за ним, войдя в грудь по самые усики.
– Бросай! – выдохнул командир, понимая, что наконечник неминуемо застрянет в ребрах.
Неизвестно, услышал его крымский нукер или догадался сам – но он разжал руку и потянул из ножен саблю.
Навстречу попался какой-то знатный татарин, в расшитом халате и стальной мисюрке на голове, попытался достать старшего пикой. Тот ловко подбил ее вверх, пустив над вороненым шлемом, тут же опустил щит, дробя окантовкой ключицу, колоть рогатиной оказалось несподручно. Прикрылся от летящей издалека пики, рогатиной подбил другую, направленную в товарища, тут же опустил наконечник, направляя степняку в живот. Промахнулся – но воин в золотом шлеме срубил отвлекшегося ногайца саблей. Вороги легли под копыта коней, а впереди открылись другие, уже опустившие пики.
– Ах ты… – Командир наклонился вперед, принимая на щит копье, нацеленное в голову коня, резко ударил в ответ рогатиной, намертво прибивая к седлу ногу противника, отпустил копье и, пролетая мимо, ударил в голову окантовкой щита. Выхватил саблю, пригнулся под очередное копье, сближаясь, рубанул влево, тут же вправо, по нацелившемуся в товарища клинку, снова влево. Еще трое степняков провалились вниз, под копыта несокрушимой полусотни, еще десяток шагов преодолела кованая конница.
Мелькнула пика. Командир быстро повернул тело, позволяя наконечнику со скрежетом скользнуть по нагрудным пластинам бахтерца, ударил щитом под вскинутую руку, ломая ребра, тут же поднял его выше, закрываясь от опасности слева, сам качнулся в другую сторону, подбивая вверх наконечник, нацеленный в грудь воину в золотом шлеме, хлестнул клинком вдоль ратовища, по пальцам, отпрянул обратно, опуская щит и оглядываясь. И тут же его вскинул, принимая в дерево наконечники пики. Острие прошило щит, и воин в вороненом шлеме отпустил спасительный деревянный диск – все равно теперь не удержать! – стремительно выдернул из петли на поясе топорик, перехватил за рукоять и успел рубануть проносящегося мимо ногайца по колену – туловище тот закрыл щитом.
Еще несколько степняков ушли под копыта, еще десяток шагов остался позади. Впереди открылся свет чистой бескрайней степи.
– Иншал-ла!!! – Воин подогнал скакуна шпорами, вскидывая над головой саблю и топорик.
Впереди оставались только самые молодые, неопытные татары, каковых ногайцы прятали за свои спины, и потому командир кованой полусотни без страха налетел грудью на наконечник пики. Резко повернулся, вынуждая скользнуть по броне, щелкнул топориком по вражескому запястью на ратовище, качнулся вправо, ударил топориком в верх татарского щита. Деревянный диск подпрыгнул выше, и сабля тут же рубанула понизу в открывшуюся щель. Ногаец, целившийся в сотоварища воина, согнулся, падая с седла, а опытный боец уже качнулся в другую сторону, цапанул топориком верх вражеского щита слева, дернул к себе, открывая противника, стремительно уколол в горло, отмахнулся от пики татарина за ним, стукнул топором по ноге и… И первым вырвался на степной простор:
– Иншал-ла!!!
Закованная от головы до пят в сталь слитная полусотня прошла через рыхлую массу легкой степной конницы, как горячий нож сквозь масло, и, потеряв всего десять воинов, вырвалась на степной простор за спину ногайской армии. И все бы ничего – но вслед за нею в пробитую брешь широким потоком хлынула и остальная крымская конница, выхлестывая сотня за сотней за крупы всадников Алимирзы, скача вплотную к врагу и почти в упор расстреливая из луков открытые спины вражеских воинов. Тысяча луков, полста стрел в колчане, с расстояния, не допускающего промахов.
Ногайцы видели и осознавали опасность. Однако развернуться верхом в общем строю, пусть даже таком рыхлом, как у степной армии, – не такая простая задача. И потому татары просто шарахнулись от смерти вперед – к валу, благо крымчаков впереди почти не осталось. Быстро и ловко отстреливаясь с седла назад, ногайцы подкатились почти к самым воротам и… И тут со стен в густую толпу жахнул слитный картечный залп, выкосивший разом почти половину и без того поредевшей армии Алимирзы. Османские пушкари, охраняющие Перекопский вал, хорошо знали свое дело, и ни один вылетевший из стволов камень не прошел мимо цели.
Несчастные взвыли от ужаса, шарахнулись в стороны, заметались, пытаясь развернуться – а по ним стреляли и стреляли турецкие пищали и гаковницы.
На залитом кровью, усыпанном телами и лошадиными тушами предполье наконец-то стало достаточно просторно, чтобы выжившие ногайцы развернулись, кинулись прочь – но это была уже не армия, а толпа, в который каждый дрался только за себя, за свою жизнь. Встречала же беглецов на пики вполне еще бодрая армия калги Эмин-Гирея.
Это была уже не битва. Это была резня…
Слуги накрыли дастархан для знатных крымчаков прямо на месте недавней битвы. Даже не дастархан – просто бросили на затоптанную траву ковры, на которые выставили кувшины с кумысом и пиалы да разное угощение: блюда с сухофруктами, с копченой рыбой и вяленым мясом. Во главе этого импровизированного стола сидел молодой калга Эмин-Гирей – круглолицый гладкокожий розовощекий татарин неполных тридцати лет, чем-то напоминающий китайскую фарфоровую игрушку: чистенькую, глянцевую, с аккуратно нарисованными тонкими черными бровями и такой же узкой короткой бородкой, в бело-зеленой чалме и крытом шелком халате такой же расцветки. Рядом с сыном крымского хана Сахиб-Гирея, на воткнутом в землю копье, покачивалась голова Алимирзы, смотревшая на победителей тусклыми глазами. Тело предводителя ногайцев нашли на поле боя порванным картечью, однако голова уцелела. Так что Эмин-Гирею имелось что отвезти отцу в доказательство успеха.
– Аллах, да святится имя его, милостив к нам, други! – поднял пиалу калга-султан. – Он даровал великую победу мечам нашим, и участием в сей битве каждый из вас сможет гордиться пред детьми своими и родичами! Восславим Всевышнего, братья!
Татары выпили, слуги торопливо наполнили пиалу Эмин-Гирея снова. Татарин, переведя дух, скользнул глазами по рядам гостей, указал рукой на двух нукеров в сверкающих доспехах:
– Ты великий воин, Бек-Булат! Прими мое восхищение. Нельзя не признать, ты не зря носишь такое прозвище. И твой сын ничуть не уступает тебе доблестью!
– Милостью Всевышнего, да будет благословенно имя его, – прижал ладонь к груди старик с такой же узкой, как у ханского сына, но совершенно седой бородкой, – мы рады сражаться во славу Крымского ханства. Но наш успех не был бы полным без помощи умелого Бека-Рустама, что до последнего мига прятал от ногайцев мою полусотню за спинами своих нукеров.
– Бек-Булат скромничает, – улыбнулся старик, сидевший возле него по левую руку. – Именно его хитрость и его нукеры, хорошо обученные и вооруженные, принесли нам удачу! Что проку от моего умения, кабы у нас не имелось достаточно одетых в железо воинов?
– И османских пушек на стенах, калги-султан, послушных твоей воле, – поклонился ханскому сыну Бек-Булат.
Эмин-Гирей довольно рассмеялся, отводя руку с пиалой за новой порцией кумыса.
– Довольно, беки! Зело наслышан я о старой вашей дружбе, можете друг друга не хвалить. Ценю! И потому хочу спросить, доблестные воины: зачем вам киснуть в соленых болотах Сиваша? Переезжайте в Бахчисарай! Мой отец и я по достоинству оценим вашу храбрость и ратную мудрость. Вам надлежит сидеть на дворцовых дуванах, купаться в подарках и уважении и служить там аталыками, воспитателями султанов!
– Это великая честь, калги-султан, клянусь могилами предков! – прижал ладонь к груди и слегка поклонился Бек-Булат. – Двадцать лет назад я бы без колебаний отдал руку за такое приглашение! Но ныне, храбрый Эмин-Гирей, я слишком стар и немощен для долгих походов и мудрых советов. Мы, старики, ныне больше о болячках своих речи ведем, нежели о победах ратных. Тягость от меня выйдет, калги-султан, а не польза. Боюсь разочаровать твои ожидания.
– Я видел тебя на поле брани, Бек-Булат, – недовольно поджал губы ханский сын. – Не всякий зрелый нукер сравнится с тобой в ловкости и силе. Ты наговариваешь на себя, старик!
– Так ведь сие рядом с домом, храбрый Эмин-Гирей, и в краткой сшибке, – развел руками старик. – И с милостью Аллаха, да святится имя его! Дальний поход и долгая битва мне уже в тягость.
– Пусть будет так, – смирился победитель. – А что ты скажешь, сын Булат? Готов ли ты пойти ко мне на службу?
Бек-Булат отвел руку назад и незаметно сжал локоть юного воина.
– Это великая честь, калги-султан! – приподнявшись, поклонился Эмин-Гирею молодой нукер. – Однако дозволь сперва навестить свой дом. Нас изрядно потрепали в этой сече. Надобно наградить детей погибших, проверить и обновить снаряжение, лошадей, распорядиться по хозяйству. Отец стар и уже давно переложил сии хлопоты на меня.
– Вижу, ты уже сейчас достоин звания алатыка, сын Булат, – рассмеялся ханский сын. – Воин не токмо храбрый, но и хозяйственный. Хорошо, я подожду! И ты получишь награду, дабы быстрее управиться с сими хлопотами. Восславим Всевышнего, други, что дарует Крыму столь славных воинов!
Калги-султан поднял пиалу, а затем решительно ее осушил.
Пир продолжался до поздних сумерек – пока уставший калги-султан не отправился отдыхать. После сего разошлись к своим нукерам и остальные беки, беи и мурзы.
Отряды Бек-Булата и Бек-Рустама стояли, понятно, рядом. И потому, отдав распоряжения о сборах, они сели бок о бок возле общего скромного костерка, вытянув к нему руки.
– Что же ты не приезжал раньше, брат мой Кудеяр? – посетовал Рустам. – Лет этак на двадцать, а лучше на тридцать до того? Сидели бы мы сейчас не на вытертой кошме в мокрой степи, а на подушках пуховых в огромном дворце, да у стола с виноградом и раками, а пред нами танцевали бы юные голопузые красавицы.
– Перестань, дружище, – усмехнулся Бек-Булат. – Разве мы прожили плохую жизнь? Разве мы не прошли эту землю от края и до края? Разве не победили во всех своих битвах? Разве не вырастили прекрасных сыновей?
– Как сказать, Кудеяр? – почесал в затылке татарин. – Осталась на моей памяти одна сшибка, в которой не повезло. А тебе вроде как некому оказалось родить сына?
Рустам вопросительно посмотрел на друга.
– Да, некому, – спохватившись, кивнул бывший боярский сын. – Не повезло. Давай укладываться. Завтра рано вставать.
Это оказалось не просто словами. Нукеры беков Булата и Рустама поднялись первыми, еще до рассвета. Даже не завтракая, они наскоро увязали вещи, навьючили лошадей и первыми ушли из еще спящего лагеря. Кудеяр очень не хотел попадаться на глаза сыну крымского хана – дабы тот опять не завел разговор о службе.
Вскоре после полудня, миновав местный водопой и пройдя за него с десяток верст, друзья обнялись, и два отряда разошлись в стороны, каждый к своему кочевью.
И только здесь Георгий, которого все знакомые татары называли не иначе, как сын Булат, наконец спросил:
– Почему ты не желаешь, чтобы я принял приглашение калги-султана, дядюшка? Он обещает высокое звание, много серебра, почет и уважение, славу, дворцы! Мне уже двадцать лет. Я хочу занять место, достойное знаменитого воина!
Кудеяр оглянулся на скачущих позади нукеров, ткнул пятками коня, заставляя его ускорить шаг, и понизил голос:
– Разве ты забыл, кто ты таков, мой мальчик? Ты сын Великого князя Василия и великой княгини Соломеи, законный наследник русского престола! Не было такого отродясь на памяти русской, чтобы правители московские татарам служили! Это татары завсегда у державы нашей на посылках. Что царь крымский, что казанский, что сарайский не раз под руку Великих князей вставали. Но чтобы князья московские басурманину поклонились – никогда! Невместно сие и недопустимо! Коли на унижение такое согласишься, всех предков своих опозоришь! И потомкам пятно несмываемое: коли предок под калги-султаном ходил, то и им такое же место полагается!
– А вчера мы разве им не служили? – нахмурился молодой голубоглазый воин.
– Не ты, я служил! – вскинул указательный палец Кудеяр. – Я же, милостью Аллаха, да будет благословенно его имя, всего лишь боярский сын. Мне под крымским ханом ходить не позор. Да и не служил я Гирею, коли разобраться. По зову его пришел вместе с соседями землю свою от чужаков защитить. Защитил – и видишь вот, по желанию своему ухожу. Мог не приходить. Разве это служба? Считай, в союзе я с крымчаками был, а не в подчинении. Но вот если ты во дворце сидеть станешь, приказы и поручения исполнять и плату за сие получать, кланяться и руку целовать – это уже служба. Это означает, что ты власть крымскую над собой, Рюриковичем, признал. Для тебя так поступить – значит весь род свой, всю землю предать. Ты не то что за серебро, ты скорее с голоду умереть обязан, нежели кусок хлеба у кого выслужить! Только меч твой кормилец, да земля и люди, что тебе принадлежат. Иначе – бесчестье!
– Коли я наследник русского престола, дядюшка, что мы делаем здесь, в крымских степях?! – спросил сын Булат. – Нужно ехать в Москву и садиться на трон!
– Кабы это было так просто… – вздохнул старый Кудеяр. – Мало иметь право, мой мальчик. Нужно иметь силу, дабы право сие утвердить.
– Но ведь я законный наследник, ты сам говоришь!
– Ох, Юра, – покачал головой Бек-Булат. – Иногда ты бываешь так наивен… Давай я приведу тебе простой пример. Видишь во-он тот стебель ковыля? – натянув поводья, старик указал плетью на заросли в низинке. – Прикажи ему наклониться!
– Это как? – растерялся молодой воин.
– Когда мы приехали сюда пятнадцать лет назад, Юра, я купил дом и сад в Джанкое, соляной прииск и вот эту землю. Она принадлежит тебе. И этот стебель тоже. Прикажи!
– Но-о…
– Не слушается? – не без ехидства спросил Кудеяр. – Вот так везде. Мало иметь право. Нужно иметь возможность. Нукеры за нашими спинами слушаются нас потому, что мы даем им оружие, броню и землю для выпасов. И награждаем добычей из набегов. Слуги в саду и на подворье слушаются потому, что боятся наказания. Травинку ты тоже можешь принудить к повиновению, послав к ней верного нукера. Но как ты приведешь к повиновению величайшую державу ойкумены? Тебе нечем награждать достойных, и ты не в силах наказать отступников. Кто станет тебя слушать?