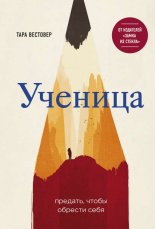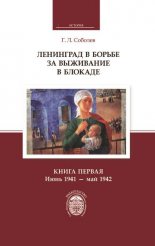Сталин и его подручные Рейфилд Дональд

Предисловие
Вместо того чтобы написать заново биографию Сталина или историю СССР, я попытался исследовать путь Сталина к власти, те средства и тех людей, которые давали ему возможность держать эту власть в руках. Главная наша тема – карьера и личности приспешников Сталина, особенно тех пятерых, которые возглавляли службу безопасности и тайную полицию, известную нам под целым рядом названий: ЧК (Чрезвычайная комиссия), ГПУ и ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), НКВД, МВД (Народный комиссариат, затем Министерство внутренних дел), МГБ (Министерство государственной безопасности). После смерти Сталина министерство стало «комитетом» и продолжает свое существование как ФСБ.
Из этих пятерых (Феликс Дзержинский, Вячеслав Менжинский, Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия) Сталин лично назначил только последних двух. Первых трех, назначенных до него, он страхом, расчетом, обманом или обаянием подчинял себе. Они стали орудиями личности, чьи мысли были еще более чудовищными, чем их собственные. Сталин ставил цель. Им приходилось искать средства. Изучая их деятельность и то, чем она мотивировалось, мы проливаем яркий свет на сталинскую тиранию.
Нюрнбергский процесс утвердил важнейший принцип: нельзя отклонить от себя обвинения в преступлениях против человечества тем, что ты выполнял чужие приказы. Даже если бы неповиновение имело летальный исход, подчинение приказу имеет не только юридический, но и нравственный аспект. Приспешникам Гитлера или Сталина не хватало твердой общественной или нравственной основы, которая дала бы им возможность не повиноваться. Книга Даниэля Гольдхагена «Добровольные палачи Германии» – сильно раскритикованное, но важное исследование – доказала, во-первых, что большей части немецкого населения было известно, что евреев уничтожают, и, во-вторых, что тех, кто принимал участие в геноциде, не заставляли под дулом револьвера становиться убийцами. Применительно к Советскому Союзу тезис Гольдхагена нужно пересмотреть. Тот, кто отказывался участвовать в охоте на врагов, действительных или призрачных – буржуев, троцкистов, бухаринцев, диверсантов, фашистов, сионистов, – сам становился таким же врагом, подлежащим уничтожению. Тем не менее были случаи и целые сферы деятельности, где оставался какой-никакой моральный выбор, особенно для интеллигентов, получивших воспитание и образование, усвоивших элементарные нравственные нормы и профессиональные принципы. Хотя после революции они, по общему признанию, стали верными слугами нового государства, о преступлениях этого нового государства они должны были знать и догадываться. Как и в нацистской Германии, в Советском Союзе некоторые интеллигенты не сдавались, несмотря на лишения, угрозы, пытки и казни. Но почему их было так мало; почему Сталину, опирающемуся на поддержку группы фанатиков, циников, садистов и моральных уродов, никогда не приходилось бороться с настоящим сопротивлением?
В подчиненных Сталин особенно ценил способность выбирать кадры. Сам он был блестящим руководителем кадровой службы. Не только шефы тайной полиции, но и иные его назначенцы, особенно после 1930 г., когда Сталину уже не нужно было договариваться с другими политиками, оказались такими же беспощадными и жестокими, как Дзержинский и его наследники. Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и Клим Ворошилов подписывали тысячи расстрельных списков. Без их безраздумной преданности Сталин не смог бы достичь своих целей.
Сравнительные исследования судьбы Сталина и Гитлера часто вводят в заблуждение. Их пути во многом расходятся, и различия между ними так же поразительны, как и сходства. Нацисты образовали симбиоз с немецкими капиталистами и немецкой армией.
Их убийственная агрессия направлялась на чужих: евреев и славян, гомосексуалистов и коммунистов. Средний немецкий гражданин, если закрывал на все глаза и не слишком задумывался, мог жить такой же спокойной жизнью, какой жил при нормальном режиме (если не считать ужасов последних военных лет). Сталин направил ненависть на своих же. Он воевал против соседей только тогда, когда был (ошибочно или нет) убежден в легкой победе, и без всякого колебания истреблял своих генералов, свою партию, свой народ, даже собственную семью – всех тех, от кого, казалось бы, зависело его личное экономическое и политическое благополучие. В расчетах Гитлера, какой бы тошнотворной она ни была, есть логика: геноцид и блицкриг объединили народ и создали для него цель жизни. Политика Сталина затягивала других в трясину его психопатологии. Безнравственный, честолюбивый, но психически нормальный интеллигент Альберт Шпеер без труда смог присоединиться к Гитлеру. Чтобы стать соратником Сталина, такого простого расчета было недостаточно: в придачу должны были действовать смертельный страх, садизм, моральное уродство или шизофренические иллюзии.
У каждой страны есть историческое наследие, от которого ее гражданам трудно отказаться. Нельзя свести бедствия России в XX в. к последствиям варварского феодального строя, низвергнутого стихийным насилием. Правда, в 1900-х и 1910-х гг. экономика России отставала от Западной Европы, и ее политический строй трещал по швам. Но культура, которая дала миру Достоевского и Толстого, рождала историков, издателей, журналистов, философов, юристов, врачей, государственных мужей не меньше, чем в любой передовой стране мира. Средний класс, пусть и относительно малочисленный, был хорошо образован и влиятелен; дворянство и купечество не теряли своей целостности. Можно сказать, что если в XIX в. жизнь в России и была грубее и невежественнее, чем в Англии или во Франции, то не намного.
Мучения, которым подвергали невинных людей в СССР, не являются монополией тоталитарных режимов. Разница в том, что советские преступники совершали преступления у себя дома и жертвой был собственный народ. Британцы проявляли зверство далеко от родины: строили концлагеря в Южной Африке, в Кении, на Андаманских островах или добывали олово силами африканских рабов. Бельгийский король Леопольд убил и искалечил – в относительном исчислении – примерно столько же конголезцев, сколько Сталин – советских граждан. Закон для всех людей один: абсолютная власть развращает абсолютно, и, когда мировая война, голод и эмиграция разрывают ткань, на которой держатся общественные связи, абсолютная власть оказывается в руках того, кто первый ее захватывает.
Историки черпают свои теории из целого комплекса наук: возможно, они недостаточно знают зоологию. Ни с чем не сравнится насилие в большой стае шимпанзе или бабуинов, руководимой самцом-вожаком, когда пищи или территории не хватает. Жизнь, выражаясь словами Томаса Гоббса, «одинока, бедна, гадка, жестока и коротка», когда общество лишается того сложного равновесия сил – судебной системы, армии, исполнительной власти, общественного мнения, религии, культуры, – которые сдерживают не только друг друга, но и анархию и тиранию. Несчастье России и Германии заключалось в том, что злые гении, Ленин и Гитлер, захватили власть именно тогда, когда мировая война и статус парии в мировом порядке привели их страны к полной разрухе. Но даже в стабильном обществе, не знавшем ни войны, ни бедности, можно в любом маленьком городе завербовать достаточно людей для службы в Освенциме. Этот факт доказал американский психолог Стэнли Милграм в 1960-х гг.: в ходе эксперимента он без труда уговорил две трети добровольцев из публики исполнять приказы мнимых ученых в белых халатах, требовавших применять якобы летальную шокотерапию к мнимым подопытным, если те неправильно отвечали на вопросы.
В Германии никто, кроме горсточки умалишенных, не отрицает, что был холокост, в котором погибло шесть миллионов евреев. Последний образованный «историк», который всерьез отрицал назначение Освенцима, англичанин Дэвид Ирвинг, недавно отсидел срок в австрийской тюрьме. Его выступления, впрочем, производят хоть какой-то положительный эффект: они заставляют настоящих историков рыться в архивах и излагать факты еще более убедительно, чтобы Ирвинг окончательно замолк. Но в России и даже в других странах еще слышны голоса тех, кто утверждает или намекает, что никакого сталинского геноцида не было, а если и был, то его плохие стороны сильно преувеличены. Чтобы перекричать такую разноголосицу вранья, историк должен постоянно напоминать о том, как все было на самом деле.
Многим нацистским убийцам удалось улизнуть от нюрнбергских судей, но тем не менее Нюрнбергский трибунал начал процесс реабилитации для Германии. В СССР, несмотря на расстрел Берия и дюжины его приспешников, доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 г., население никогда не оказывалось лицом к лицу с преступлениями своей истории. Виновников сталинских убийств никогда не заставляли признаться или раскаяться в преступлениях; их даже не всегда отстраняли от власти. Несмотря на перестройку и распад Советского Союза, сталинизм остается застарелым заболеванием в политическом организме России; эта болезнь может вспыхнуть в любое критическое время. Первой причиной, по которой написана эта книга, стала необходимость рассмотрения фактов с новой точки зрения; второй – лавина документальных материалов. Как и нацисты, сталинские палачи и чиновники оставили после себя огромную гору бумаг и фотографий – свидетельств самых позорных их преступлений. В 1989 г. архивы, еще почти целиком под ведомственным присмотром КГБ, начали рассекречивать свои материалы и разрешать посторонним ограниченный доступ. В начале 1990-х гг. доступ расширился: даже Президентский архив и Кузнецкий Мост приоткрывали свои двери. Большей частью новое поколение исследователей искало и находило ценные документы в Российском государственном архиве социально-политической истории (в 1990-х называвшемся Российским центром хранения и изучения документов новейшей истории) и в Государственном архиве Российской Федерации. В конце ельцинской эпохи начался откат. Некоторые архивы полностью или частично закрыты, другие переехали на окраину города и сильно ограничили доступ.
Моя собственная исследовательская работа была сосредоточена в упомянутых архивах, в Российском государственном архиве литературы и искусства и в менее известных – Грузинском государственном архиве, Гуверовском институте, куда недавно переправлено то, что осталось от архива Нестора Лакобы. Вообще сохранилось достаточно материала для тысячи исследователей с тысячей ноутбуков на тысячу лет; очень многое еще не раскрыто, особенно учитывая, сколь плохо в архивных путеводителях и каталогах отражено реальное содержание хранилища.
К счастью, за последние двадцать семь лет несколько десятков самоотверженных и часто малопризнанных российских историков издали несколько сотен книг и несколько тысяч статей. Некоторым из них я очень обязан материалом и идеями и стараюсь в библиографии и в примечаниях отсылать читателя к первоисточникам. Из всех публикаций, может быть, самые важные и убедительные – никому не доступные раньше записи и стенограммы заседаний ЦК, обсуждений в политбюро, телеграмм, телефонных разговоров, писем, особенно от Сталина и Сталину, переписки между приближенными Сталина. Приговоры НКВД, протоколы допросов, биографические сведения, переписка интеллигенции, дневники, доклады ОГПУ и НКВД об общественном мнении и подслушанных разговорах тоже открывают доступ во внутренний мир сталинских палачей.
Тем не менее, пользуясь статьями и книгами историков, нельзя упускать вероятность пристрастного суждения и других субъективных факторов. Историков, российских и зарубежных, можно подразделить на несколько категорий. Самую малочисленную и достойную составляют историки, которые излагают материал как можно объективнее и оценивают, не упорствуя в своем мнении, весомость каждого аргумента и факта, причину каждого поступка и события. Такими историками являются, например, Олег Хлевнюк и Александр Кокурин, Александр Островский (автор замечательной работы «Кто стоял за спиной Сталина?»), Константин Залесский, который составил биографическую энциклопедию «Империя Сталина»; Марк Янсон и Никита Петров, биографы Ежова; Константин Скоркин, в соавторстве с Никитой Петровым составивший биографический справочник «Кто руководил НКВД, 1934–1941»; Майкл Парриш, который вслед за Робертом Конквестом, автором книги «Большой террор» («The Great Terror») написал «Малый террор» («The Lesser Terror»).
Вторая группа историков, более популярных, обрабатывает архивные источники, чтобы получилось хорошее повествование: среди них можно назвать Леонида Млечина, Кирилла Столярова, Аркадия Ваксберга, Виталия Шенталинского, Бориса Соколова, покойного Дмитрия Волкогонова.
Третья группа, чьи книги не менее полезны, состоит из тех, кто лично был вовлечен в события как жертва, родственник жертвы, а то и как виновник происходившего или его родственник. У них есть доступ к сведениям, закрытым для других. Конечно, некоторыми из них движут личные побуждения, иногда корыстные.
У бывших сотрудников КГБ есть уникальные источники, но они не всегда способны смотреть правде в глаза или признаваться в ней.
Есть и четвертая группа, к работам которой нужно относиться с крайней осторожностью. Это историки, на чьи труды влияют их идеологические убеждения. Некоторые из них, например покойный Вадим Роговин, пишут много и красноречиво, находя всю вину Сталина в том, что он предал ленинизм-троцкизм. Валерий Шамбаров использует свои знания, чтобы доказать, что весь XX век Россия была жертвой коварного предательства Запада.
Западные историки по ряду причин отстают от своих российских коллег. Даже более спокойный образ жизни не всегда помогает. Тем не менее им есть чем гордиться. Даже спустя сорок лет «Большой террор» Конквеста остается классикой; хотя у автора была крошечная доля сегодняшних источников, он почти все верно угадал (он мог бы назвать последнее издание «Говорил же я вам!»). Хроника Кэтрин Мерридэйл «Каменная ночь» и книга Саймона Сибага-Монтефиоре «Молодой Сталин» свидетельствуют, что западные исследователи иногда так же прозорливы, как и российские.
Последняя, позорная, категория историков – это те, кто оправдывает и прославляет Сталина. Как и люди, документы и фотографии подчас лгут. А слухи и пересуды иногда отражают правду. Есть загадочные смерти: убийство Фрунзе, Кирова, Орджоникидзе, – до сих пор не до конца раскрытые; есть вопросы без твердого ответа, например, насколько Николай Ежов был слепым исполнителем сталинской воли, в какой мере весной 1953 г. Берия превратился из чудовищного садиста в предвестника Горбачева и Шеварднадзе. Здесь историк уподобляется присяжному: он должен опираться на интуицию, ибо формальной юридической логики мало, чтобы решать такие вопросы. В традициях суда присяжных я и пытаюсь обозначить степень моей уверенности в виновности обвиняемого. Первое место занимает приговор «не подлежит разумному сомнению», то есть уголовное судопроизводство объявило бы Сталина и Абакумова виновными в убийстве Соломона Михоэлса; на втором месте стоит приговор «по всей вероятности», достаточный, чтобы решить дело в гражданском суде, – например, ответственность Берия за насильственную смерть Нестора Лакобы. Затем следуют дела, в которых улики и показания требуют судебного разбирательства, но приведут к оправданию обвиняемого (например, предполагаемый замысел умирающего Сталина окончательно выдворить всех евреев из европейской части России). На четвертом месте стоят обвинения, которые не подтверждаются никакими вещественными доказательствами, так что предъявлять Сталину обвинение в убийстве Кирова уже не имеет смысла. Наконец, есть дела, где мы можем только довольствоваться итальянской поговоркой «se non vero, ben trovato» («если это не правда, все-таки хорошо придумано»), – например, утверждение Молотова, что не кто иной, как маршал Тухачевский, готовил государственный переворот.
Я должен поблагодарить стольких российских специалистов и архивистов за помощь, советы, терпение, что всех перечислить невозможно. В Грузии я многим обязан Ревазу Кверенчхиладзе, архивисту Союза писателей, и Мемеду Джихашвили, хранителю и спасителю архива Лакобы; в Москве мне очень помогали сотрудники «Мемориала» и в Петербурге составители «Ленинградского мартиролога». Кроме них следует отдельно назвать Олыу Макарову, Вику Мусвик и друзей, которые отыскивли самые неуловимые газетные публикации. С текстами на латышском и с источниками в Латвии мне помогал Борис Равдин. Больше всего и во всем – от языка до идеологии – помогала мне Анна Пилкингтон, с ее даром объективного критического суждения. Я очень благодарен русским друзьям, особенно Анне Киселевой, присылавшим мне новые книги и материалы.
Эта книга фактически представляет собою вольный, сделанный самим автором перевод английской монографии, изданной в 2004 г. Замеченные (иногда переводчиками на другие языки) ошибки и глупости устранены, учтены неизвестные ранее подробности из российских и иностранных публикаций последних трех лет. Готовя книгу для русского читателя, я внимал совету дяди Вани и старался, в отличие от профессора Серебрякова, не писать «о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно».
Второе русскоязычное издание этой книги мало чем отличается от первого. Добавлены некоторые подробности из недавно рассекреченных допросов Лаврентия Павловича Берия с июня по ноябрь 1953 г.; убраны из предисловия кое-какие ставшие уже несвоевременными замечания.
1. Долгая дорога к власти
Павел Васильев
- Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына.
- Упорство осла и хитрость лисы совместил он
- умело. Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием
- к власти пробрался (1).
Детство и семья
Вместо того чтобы говорить вроде: «X. воспитали крокодилы в помойной яме в Куала-Лумпуре», рассказывают о матери, отце…
Мартин Эмис. Грозный Коба[2]
В Российской империи 1878 г., казалось бы, был благополучным, и можно было родить ребенка без особого опасения. И хотя грузины всех званий и сословий роптали на своих русских правителей, уже сто лет прошло с тех пор, как грузинский царь отдал свое подорванное государство в руки русских царей, и страной теперь управляли русские чиновники, часто бесчувственные, коррумпированные и невежественные, а в школах грузинских детей обучали на русском языке. В Тифлисе русский наместник, хотя и был гуманным либералом, твердо держал в руках бразды правления, чтоб не допустить никаких изменений, – армяне владели торговлей, иностранные капиталисты – промышленностью, а грузинские дворяне и крестьяне, редко появляющиеся в столице, жили вполне сносной жизнью в деревне.
Грузия могла благодарить Бога за русскую власть. Уже почти сто лет она была свободна от немилосердных соседей, которые своими нашествиями и набегами за шестьсот лет разорили страну и поставили ее на край пропасти. Россия угнетала народ налогами, ссылкой в Сибирь, культурным унижением, но, в отличие от турок, русские не уничтожали мужское население целых деревень и, в отличие от персов, не угоняли тех, кто выжил после массовых убийств, чтобы оскопить, поработить и обратить в мусульманство. Под властью царей грузинские города восстали из руин, железная дорога объединила запад и восток страны и дала Грузии надежный доступ к остальному миру В столице издавали газеты, слушали оперу – хотя университета еще не было. Новое поколение грузин, свободно говорящих по-русски, осуществило мечту предков: на них смотрели как на европейцев, они учились в европейских университетах, становились врачами, юристами, дипломатами – и революционерами. Грузины начинали мечтать о независимой государственности, хотя лишь немногие верили, что насилием или оружием можно бороться за независимость. Против собственной воли грузины мирились с русской властью, благодаря которой они вышли из сферы азиатской истории и получили доступ к европейской культуре.
Петербуржцы конечно же совсем иначе воспринимали события 1878 г.: кончилась эпоха реформ и оптимизма, и страна, казалось, начала колебаться между анархией и тиранией. Террористы, которые через три года убьют Александра II, уже совершили первые убийства. Кончился медовый месяц интеллигенции и правительства. Семена революции всходили не на почве обездоленного крестьянства, не в трущобах городских рабочих, а среди образованных, но недовольных детей дворянства и духовенства. Некоторые требовали не только гражданских прав и конституции – они готовились разрушить государство. Такие фанатичные заговоры в России не были обязательно фантастическими. Гораздо легче разрушить несгибаемую политическую систему, чем преобразовать ее. Русское государство было так построено, что хорошо подложенной бочкой с динамитом или метко нацеленным револьвером, истребляя немногочисленных великих князей и министров, его можно было сразу сокрушить. Слабость Российской империи состояла в ее непрочной социальной ткани: государство держалось только вертикалью власти от царя до последнего жандарма. В Великобритании или Франции общество укрепляла плотная ткань из разных сословий и учреждений – законодательная власть, юриспруденция, церковь, местная администрация. В России же, где подобные институты или только зарождались, или уже вымирали, такой опоры у власти не было.
Те, кто убил Александра II, поколение революционеров – предшественников Ленина, понимали всю слабость государства. Им недоставало только поддержки народа, и они пока не надеялись его взбунтовать. С точки зрения иностранного наблюдателя, Россия в 1880-х гг. уже была в застое, уже отставала от остального мира, и ее правители казались бессердечными циниками, но изнутри страна выглядела стабильной. Репутации России вредили эпидемии, погромы, голод. Десять лет назад Европа начала любоваться не только военной мощью России, но и ее культурой: Франция и Германия зачитывались Тургеневым и Толстым. В 1880-х гг. последними доказательствами, что Россия – цивилизованная страна, были только музыка Чайковского и химия Менделеева. Но в застое есть покой. За всю историю Российского государства не было такого длительного периода мира: целое поколение спокойно выросло от победы над Турцией в 1877 г. до начала войны с Японией в 1904 г.
Когда 6 декабря (по старому стилю) 1878 г. в уже расцветавшем городе Гори в шестидесяти километрах к западу от Тифлиса родился Иосиф (Иосеб, Сосо) Джугашвили, настроения мещан, ремесленников, купцов и интеллигенции были довольно оптимистичны[3]. Мальчик даже из семьи со скромным доходом мог получить образование, которое сделает из него российского дворянина. Мало кто согласился бы с пророчествами Достоевского или Владимира Соловьева, предвидевших, что через сорок лет наступит такая кровавая и зверская тирания, что по сравнению с ней нашествия Чингисхана или Надира-шаха на Грузию покажутся пустяками. И никто не чуял, что именно маленький Джугашвили, под псевдонимом Сталин, будет олицетворением этой тирании и возьмет ее под собственный контроль.
Для семьи, в которой родился Сосо, так же как для их соседей, будущее казалось безоблачным. В 1878 г. сапожнику Бесариону Джугашвили было 28 лет; он был хорошим преуспевающим ремесленником, который трудился на благо семьи. Уже шесть лет он был женат на Катерине (Кеке), урожденной Геладзе. На шесть лет моложе мужа, Кеке была крестьянкой, которая многого хотела для своих детей. В детстве она лишилась отца, и ее взял к себе дядя по матери, Петре Хомуридзе. В 1850-х гг. Хомуридзе были крепостными из деревни Меджрохе, неподалеку от Гори. После крестьянского освобождения в 1861 г. Петре оказался предприимчивым отцом семьи, воспитывая собственного ребенка и троих детей своей вдовой сестры. Братья Кеке, Сандро и Гио, стали, соответственно, гончаром и плиточником, так что, когда Кеке вышла замуж за сапожника, крестьян в семье Геладзе больше не осталось. Кеке неплохо воспитали, дед ее научил, хоть с грехом пополам, грузинской грамоте. Она хотела, чтоб ее сын поднялся еще выше. Первые два сына семьи Джугашвили умерли вскоре после появления на свет. Третьего, пережившего старших братьев, по традиции надлежало обетовать Богу: он должен был стать духовным лицом.
Со стороны отца, казалось, семья Джугашвили тоже поднималась из бедности и невежества. Прадед, Заза Джугашвили, крепостной, жил недалеко от Гори, в деревне со смешанным осетиногрузинским населением. Он участвовал в бунте против властей, но избежал наказания и с помощью сердобольного князя нашел убежище в наполовину заброшенном селе Диди-Лило, в горах к северу от Тифлиса. Его сын Вано был владельцем виноградника, да и внукам Гиорги и Бесариону судьба будто бы улыбалась. Гиорги стал хозяином харчевни, но тут его карьера оборвалась – его убили бандиты. Младший брат, Бесарион, должен был спуститься в город и стать подмастерьем у армянина-сапожника. Бесарион был грамотный, говорил по-армянски, по-азербайджански и по-русски и скоро смог стать на ноги. Переехал он в Гори независимым ремесленником.
Одна треть великих правителей, художников, писателей переживает в детстве смерть, банкротство или болезнь отцов. Подобно Наполеону, Диккенсу, Ибсену или Чехову, Сталин – сын человека, который на полпути наверх сорвался вниз. Почему Бесарион Джугашвили стал неудачником, когда все и всё, казалось, благоволили его успеху? Современники мало помнили или вспоминали о нем. Говорили, что семья никогда не нуждалась, не закладывала и не продавала вещей. Зато Нико Тлашадзе вспоминал: «Когда приходил отец Сосо Бесо, мы избегали играть в комнате. Бесо был очень своеобразным человеком. Он был среднего роста, смуглый, с большими черными усами и длинными бровями, выражение лица у него было строгое. Ходил всегда мрачный. Носил короткий карачогельский архалук и длинную карачогельскую черкеску, опоясывался узким кожаным поясом…»Неужели единственной причиной упадка, когда в 1884 г. (Сосо еще не было шести лет) Бесарион разорился, был тяжелый характер? За последующие десять лет семья переселялась девять раз. Сапог никто не заказывал; Бесо запил.
Весной 1890 г. Бесо и Кеке разошлись. Это был последний год, когда Сосо общался с отцом. В начале года он попал под карету, и родители повезли его в Тифлис на операцию. Бесарион нашел там работу на большом кожевенном заводе Адельханова; как только мальчика выписали из больницы, Бесо заставил его работать с собой на фабрике и потом выбрать: или стать подмастерьем сапожника в Тифлисе, или с проклятием отца вернуться в Гори к матери и учиться на священника. Осенью этого года Сосо вернулся в Гори, чтобы учиться в духовном училище. Бесо приехал в Гори всего раз, тщетно умолял жену о примирении, а потом исчез. Кеке его больше не увидела, а к сыну он потом в Тифлисе заходил очень редко. Он стал бродягой-алкоголиком. 12 августа 1909 г. его перенесли из ночлежки в больницу, где он вскоре умер от цирроза печени. Его хоронил товарищ сапожник; место захоронения неизвестно (2).
Грузинам и сталинистам трудно поверить в столь низкое происхождение Сталина. Утверждают, будто он был незаконным сыном и будто бы Бесо ушел от неверной жены и ее отпрыска. Предлагают двух кандидатов на место «отца вождя народов» – Николая Пржевальского, исследователя Центральной Азии, и князя Егнаташвили. В самом деле, Сталин внешне похож на Пржевальского, но великий путешественник был гомосексуалистом-женоненавистником и в те дни, когда Сталин был зачат, находился в бивуаке на китайской границе. Действительно, два брата Егнаташвили, родственники того священника, который крестил мальчика и обвенчал его родителей, и того князя, в доме которого брошенная Кеке работала прачкой, удивительно благополучно выжили в советские времена. Но такие случаи были нередки и ничего не доказывают. Сталина часто обзывали сыном шлюхи, но в переносном смысле, не буквально. Прелюбодеяние и незаконное рождение в маленьком грузинском городе – редчайшее явление, и Кеке вела себя по тогдашним нравам нормально.
Сталин не любил, чтобы биографы копались в его происхождении. Особенно избегал он разговоров об отце. Только в 1906 г. он дал понять, что признает отца, взяв себе на этот год псевдоним Бесошвили. Влияние матери длилось дольше. От нее Сталин унаследовал упорство в достижении целей. Обездоленная, брошенная, постоянно в поисках чердака подешевле, из мещанки ставшая чернорабочей, она тем не менее смогла накопить деньги и уговорить власть имущих, чтобы сына приняли в хорошую школу. Судя по скудным рассказам, она била сына не менее жестоко, чем отец, но цель ее была благороднее. Набожность и инстинкт подсказывали ей, что только через образование, особенно духовное, сын пробьется в мир. Единственное оставшееся ее письмо к Сталину, написанное в 1920-х гг., показывает, что у них в характере было много общего: «Дорогой мой ребенок Иосеб, первым делом я шлю тебе любящий привет и желаю тебе с семьей долгую жизнь и хорошего здоровья. Дитя, хочу, чтоб природа дала тебе полную победу и уничтожение врага… Будь победителем!»
Вряд ли Сталин любил свою мать, но он к ней благоволил. Он писал ей короткие записки и иногда дарил деньги. В 1930-х гг. в Тбилиси видели, как Кеке, вдова в черном, ходила со скромной корзинкой на колхозный рынок, а за ней, по инициативе не Сталина, а Лаврентия Берия, шел целый отряд ребят из НКВД. В 1920-х и 1930-х гг. Сталин посещал мать три раза. На похороны он послал венок, но не приехал.
Все, кто встречался со взрослым Сталиным, поражались его самодостаточности и затворничеству. Можно приписать эти навыки тому, что Сталин был единственным сыном у одинокой женщины, попавшей в беду, но трудно сказать, что его детство было такое одинокое, чтобы сделать из мальчика психопата. То, что можно узнать о детстве Сталина, не соответствует такому представлению. Джугашвили продолжали жить дружно с соседями, которые были удачливыми ремесленниками, и стремились к лучшей жизни. Недалеко, тоже в Гори, жили двоюродные и троюродные братья и сестры Кеке, ремесленники, содержатели харчевен; некоторые были связаны дружбой или браком с купцами, даже с дворянами. Как и у его несчастных умерших братьев, у Сосо были богатые, хорошо известные крестные, на чью помощь семья могла, если нужно, надеяться. В семье одно время жил приемный брат, Вано Хуцишвили, моложе Сосо всего на год, ученик Бесариона. В 1939 г. в письме к Сталину Вано вспоминал их довольно счастливое детство. Даже после исчезновения Бесо его жена и сын не теряли связи с его родственниками. Сестра Бесо была замужем за Яковом Гвеселиани, который жил в Тифлисе. Дети Гвеселиани часто приезжали навещать своего двоюродного брата. И у Кеке было бесчисленное множество племянников и племянниц – семеро Мамулашвили. Вряд ли Сталин знал до двадцати лет, что такое одиночество.
Двоюродные братья и сестры, особенно Пепо (Евфимия) Гвеселиани и Вано Мамулашвили, всю жизнь переписывались со Сталиным. Их письма полны лести, просьб, воспоминаний. Они даже приезжали в Москву и два раза грозили Сталину, что покончат с собой на улице, если он их не примет в Кремле. Эти двоюродные братья и сестры Сталина составляют единственную категорию людей, не подвергшихся никаким репрессиям и арестам (некровных родственников – и Сванидзе, и Аллилуевых – Сталин истреблял так же немилосердно, как других старых большевиков). Надо сказать, что Сталин мало помогал своей кровной родне: они терпели, как все, когда голодали грузинские крестьяне и рабочий народ, но все-таки только с ними Сталин поддерживал какое-то подобие нормальных человеческих отношений. В старости он посылал им и некоторым школьным товарищам пачки с деньгами (свою зарплату депутата Верховного Совета). В 1951 г. генерал Николай Власик, комендант сталинской дачи, составил список всех кровных родственников и школьных товарищей Сталина, чтобы привезти их на автобусе в Сочи на встречу с вождем. Встреча не состоялась, но Власик не смел бы даже начать ее подготовку, если бы Сталин не проявил какого-то признака человеческой привязанности к этим людям.
Может быть, самыми значительными моментами в детстве Сталина были прикосновения смерти. Почти каждый год в детстве его постигали калечащие болезни и травмы. Всю жизнь Сталин испытывал постоянную физическую боль, которая, несомненно, увеличивала его раздражительность и садизм. Большей частью эта боль, физическая и духовная, мучила его с детских лет. Он переболел всеми детскими болезнями, от кори до скарлатины, которые унесли жизни его братьев; в 1884 г. он заболел оспой, наградившей его рябым лицом и детским прозвищем Чопура (Рябой). Потом он попал под карету, и от заражения крови у него едва не отсохла левая рука. 6 января 1890 г. ему каретой же отдавило ногу, которая не поправилась даже после операции, так что его обозвали Геза (Кривоногий). Через десять лет он просил своих тюремщиков учесть, что он калека.
Болезнь, физическая и душевная, дает нам первый ключ к психопатологии Сталина. Второй ключ – это его постоянное маниакальное собирание информации. С рождения он осознал, что бесполезно нападать на врага, если ты заранее не вооружен знанием: он изучал не только врага, но и все, что враг должен был знать. Очень рано Сталин стал самоучкой, и даже в последние месяцы своей жизни он, бессильный старик, старался собирать и обрабатывать самые мелкие и разнообразные сведения обо всем и обо всех.
По некоторым рассказам, Кеке долго пыталась отдать Сосо, семилетнего уличного хулигана, в школу. В 1886 г. семья жила на чердаке в доме, принадлежащем священнику Христофору Чарквиани. Кеке упросила его научить Сосо говорить и писать по-русски, чтобы его приняли в училище и даже дали скромную стипендию. (Тогда в государственных и церковных школах преподавание на грузинском было фактически запрещено, а знание русского было обязательным.) Через два года Сосо, тогда девятилетнего, приняли в подготовительный класс Горийского училища. Он так хорошо выучил русский, что через год его перевели на основной курс школы.
Горийское духовное училище сильно повлияло на молодого Сталина. Некоторые преподаватели, особенно грузины, были талантливыми свободомыслящими интеллигентами. Один из них, Гиорги Садзгелашвили, через тридцать лет станет католикосом вновь обретшей автокефалию Грузинской церкви; другой, Закаре Давиташвили, был своим человеком в литературных и революционных кругах. В старости Кеке написала Давиташвили благодарное письмо: «Я хорошо помню, что Вы особо выделили моего сына Сосо, и он не раз говорил, что это Вы помогли ему полюбить учение и именно благодаря Вам он хорошо знает русский язык…» (3)
Даже в детстве Сталин сочетал инстинкты бунтовщика с желанием приспосабливаться: эта комбинаторика, во всех смыслах слова, будет характерна для него всю жизнь. В Гори он попал под влияние старших братьев своих товарищей, в особенности Кецховели, одного из которых уже выгнали из Тифлисской духовной семинарии за вольнодумство.
Родственные и дружеские связи сближали двенадцати– и тринадцатилетних мальчиков с преподавателями и, в свою очередь, не только с либеральной интеллигенцией, но и с купцами и чиновниками. Разница между Грузией и Россией состояла в том, что в Грузии всех образованных людей, невзирая на социальное происхождение или политические взгляды, объединяло сопротивление русской власти. Богатый капиталист давал убежище бедному школьнику просто потому, что оба были грузинами и, следовательно, жертвами империи. Пользуясь сравнением Мопассана, грузинские дворяне вели себя как лабазники, подкармливающие крыс в своих амбарах, но такие мысли этим покровителям бунтовщиков пока в голову не приходили.
Если товарищи не любили молодого Джугашвили за его угрюмый нрав, то преподаватели, напротив, жаловали его за то, что он охотно брал на себя обязанности классного старосты и усердно учился. Даже самый ненавистный учитель в школе (как всегда в Грузии, преподаватель русского языка), Владимир Лавров, прозванный «жандармом», доверял Джугашвили. Неудивительно, что, когда Кеке полностью разорилась, Сосо повысили стипендию до семи рублей в месяц за «образцовую» успеваемость. Молодой Сталин в Гори занимал первое место в классе почти по всем предметам и в церкви блистал как певчий и чтец.
Закончив учение в Гори в 1894 г., Джугашвили приобрел достаточно солидное покровительство, чтобы выбрать, куда пойти дальше. В Тифлисе было два высших учебных заведения: педагогический институт, туда звал Сосо учитель пения, и духовная семинария, прием в которую ему был гарантирован. Получив высший балл по Закону Божьему, церковнославянскому, русскому, греческому и грузинскому языкам, по географии, чистописанию, церковному пению, катехизису (только по арифметике он получил оценку «очень хорошо», но не «отлично»), он был уверен в успехе. Даже независимо от желания матери или собственной религиозной веры молодой Сталин неизбежно предпочел бы бурную студенческую жизнь семинарии тихому омуту педагогического института. Семинария, несмотря на средневековую строгость, давала образование по тифлисским меркам непревзойденное. Там бок о бок с русскими монахами-мракобесами, назначенными царским наместником, преподавали грузинские либералы, которым сочувствовали почти все студенты. Споры, ссоры, иногда драки в семинарии были уже тридцать лет предметом постоянных сплетен и статей в Тифлисе. Теперь, в 1890-х гг., тяжелая рука царской власти становилась слабее, и чиновники теряли контроль над семинаристами. Студенты нового поколения так бушевали, что правительству пришлось отправить одного ректора, Корнилия (Орленкова), в монахи, а другого, Чудецкого, зарезал бывший студент. Грузинский просветитель Иакоб Гогебашвили, который сам одно время преподавал в семинарии, писал, что любой студент, русский или грузин, если он свободен от эгоизма и страха, взбунтуется против семинарского начальства (4). В 1893 г., за год до поступления Джугашвили, демонстрации и протесты студентов до такой степени напугали иерархов, что бунтовщиков исключили, а обучение на несколько месяцев прекратили.
Несмотря на враждебное отношение грузинских студентов к русским преподавателям, некоторых русских педагогов Сталин и его товарищи потом вспоминали с уважением, даже со сдержанной приязнью (5). Реакционеры часто оказывались храбрыми, решительными людьми. Инспектор отец Гермоген потом стал епископом Тобольским и членом Святейшего синода. В 1914 г. его уволили за то, что он обличал Распутина, а в 1918 г. он попытался освободить Николая II из большевистской тюрьмы.
Хотя у него в семье священников не было, Джугашвили понравился начальству до такой степени, что ему назначили стипендию. Злопамятный, суровый его нрав, так отталкивавший товарищей, казался его преподавателям признаком самоотверженного ученого. Со временем, однако, религиозность и послушность Джугашвили стушевались под влиянием радикально настроенных товарищей. Еще в 1939 г. в СССР можно было опубликовать такое свидетельство: «В первые годы учения Сосо был очень верующим, посещал все богослужения, пел в церковном хоре. Хорошо помню, что он не только выполнял религиозные обряды, но всегда и нам напоминал об их соблюдении» (6).
Так что сталинская карьера семинариста распадается на два периода. До 1896 г., когда ему исполнилось семнадцать лет, он был образцовым студентом. Он учил основательно классические и современные европейские языки; читал не только Священное Писание, но и многих русских и европейских беллетристов. Неплохо знал мировую историю. По успеваемости был пятым в классе, получал пятерки за поведение, грузинский язык, церковное пение, математику и четверки по греческому языку. В 1897 г. он взбунтовался. После происшедшей во время коронации Николая II в 1896 г. Ходынской катастрофы обострились отношения между властью и обществом. Всеобщая волна народного гнева смыла конформизм Джугашвили. Вместе с послушностью пропала вера, показатели успеваемости становятся все хуже. Через год он уже значился двадцатым студентом в классе, провалил экзамен по Священному Писанию и должен был остаться на второй год.
В принципе семинаристы должны были ограничиваться богоугодным чтением. Жития святых и творения Отцов Церкви – вообще неплохая подготовка для человека, собирающегося читать сочинения Карла Маркса. Десять лет такого чтения превратили Сталина в страшную химеру – убежденного атеиста с глубоким знанием религиозных текстов и любовью к церковной музыке. В старости Сталин любил общаться с теми, кто в свое время учился в семинарии, – маршалом Александром Василевским, оперным певцом Максимом Михайловым. Им он замечал: «То, чему попы обучают, – это понимать, что люди думают».
Переход от веры к неверию редко бывает полным. Атеизм Сталина – это бунт против Бога, а не отказ от веры в Него. Нетрудно переходить от православия к марксизму, от церковной дисциплины к партийной. Может быть, Сталин остановился на полпути. Марксисты, как и Руссо, объявляют человека добрым по природе: все зло происходит от общественной несправедливости. А Сталин никогда не переставал смотреть на людей как на грешников, нуждающихся в покаянии и в наказании. Взяв в свои руки неограниченную власть, он ни на минуту не сомневался, что долг правителя не в том, чтобы осчастливить своих подданных, а в том, чтобы приготовить их души для лучшего потустороннего мира.
За время учебы Джугашвили начал интересоваться запрещенной литературой. К концу учебы он жил в одном доме с молодым философом Сейтом Девдариани и, как и он, имел, вопреки семинарским правилам, абонемент в библиотеку Грузинского общества по распространению грамотности. Вокруг Сейта и Сосо собирались поклонники, которые еще не перестали видеть себя будущими священниками и хотели просто расширить свое образование, читая политическую и научную литературу. Преподаватели часто обыскивали семинаристов и конфисковывали запрещенные книги, иногда наказывая виновников карцером, где те питались сухим хлебом и водой.
Для Джугашвили Сейт, который вскоре отправился в Юрьевский (ныне Тартуский) университет, оказался слишком мягким философом. Джугашвили был очарован более бойким просветителем, Ладо Кецховели, который только что вернулся в Тифлис из Киева, откуда его выгнали за чтение запрещенной литературы. Кецховели уже ведал подпольной типографией, и это был первый контакт Сталина с настоящей революционной деятельностью. Под руководством Кецховели Сталин изучал не Библию, а марксизм. К1898 г. он проводил время не в семинарии, а среди единственной значительной пролетарской группы в Тифлисе – закавказских железнодорожников. Деньги зарабатывал репетиторством. Осенью ректор уже ставил вопрос, не исключить ли Джугашвили, которого не раз предостерегали, обыскивали и сажали в карцер. В декабре Джугашвили уговаривал железнодорожников забастовать.
В мае 1899 г. семинария объявила: «И. В. Джугашвили увольняется из семинарии за неявку на экзамены по неизвестной причине». «Неизвестной причиной» могла быть пропаганда марксизма, или невнесение платы за учебу, или (как утверждала Кеке, которая приехала, чтобы привезти его домой) появление симптомов чахотки. И еще одно обстоятельство: судя по полуграмотному письму, полученному спустя сорок лет и попавшему в личный сталинский архив, Сосо стал отцом маленькой девочки. Мы знаем о ней немного: звали ее Пашей (Прасковьей Георгиевной), она жила одно время у матери Сталина, в замужестве ее звали Михайловская, а в период террора 1938 г. она исчезла (7).
Семинария все-таки поступила великодушно: выпускные отметки Джугашвили были высокими. Его оштрафовали на семнадцать рублей за потерянные библиотечные книги – всю жизнь Сталин брал книги из чужих библиотек и не возвращал их. Наконец, с Джугашвили причиталось 630 руб. за то, что, не приняв духовного сана и не желая стать школьным преподавателем, он нарушил обязательство.
Быть грузином
В 1937 г. советским писателям заказали повести и поэмы о детстве Сталина. Некоторые решились на рискованный, хотя и заманчивый прием – писать по схеме детства Иисуса Христа. У Христа и у Сталина – отец-ремесленник, который вскоре перестает играть роль в семье, простая, немногословная мать, и в двенадцать лет всякое подобие семейной жизни внезапно обрывается. Такие подростки должны проявлять невиданную самостоятельность, они больше никогда никому не доверяют, не говоря уж о ранней умственной зрелости и категорическом неприятии чужой точки зрения. И пусть есть бесчисленные тысячи таких подростков, они не становятся мировыми тиранами. Качествами, обусловившими успех Сталина, Джугашвили к тому времени еще не обладал – во-первых, инстинктивное убеждение, что он призван властвовать, во-вторых, охотничье чутье, помогающее вовремя нанести удар по жертве, в-третьих, глубокое понимание чужой мотивации, в-четвертых, гипнотизерское мастерство в манипуляции людьми.
То, что нам известно о ранних годах Сталина, – травмы его домашней жизни, блестящие школьные отметки, искалеченное тело и сильный интеллект – это общие места в биографиях многих «великих» мужчин и женщин. Можно добавить, что предпосылкой для успеха тирана является принадлежность к этническому меньшинству или, по крайней мере, происхождение из провинции. Какую же роль сыграла грузинская национальность в формировании Сталина? Здесь мы уже имеем дело не с комплексом неполноценности провинциала или со стремлением провинциала доказать свои таланты столичному миру. Из своего грузинского наследства Сталин черпал чувство превосходства над остальными людьми, как будто такое происхождение оправдывало более жестокое и беспощадное отношение, чем те гуманные шаблоны Европы XIX века, которые так мешали другим революционерам в борьбе за новый порядок.
В Кремле этнические связи Сталина казались не сильнее, чем семейные. В 1950 г. группу грузинских историков вызвали к Сталину для беседы об их работе. Их озадачило то, как Сталин употреблял личные местоимения. Он говорил: «Они, русские, не оценивают… Вы, грузины, умалчиваете…» Если русские – это «они», а грузины – «вы», тогда какая же национальность у сталинского «я», когда же он говорил «мы»? Как многие нерусские большевики – евреи, армяне, поляки, латыши или грузины, – Сталин лишился одной национальности, не приобретя второй: может быть, национальность в социалистическом обществе вычеркнута гражданством. Тем не менее Сталин остался грузином даже в большей степени, чем Дзержинский – поляком или Троцкий – евреем. Чтобы вникнуть в его мышление, надо углубиться в его грузинское воспитание и наследие.
Жертвы и враги его, конечно, приписывали грузинской культуре его злопамятность и обидчивость при малейшем посягательстве на его личность. Младший сын Сталина Василий как-то раз, будучи нетрезв, выкрикнул: «В нашей семье мы никогда не прощаем обиды». Для русских и турок неопровержима аксиома, что кавказец не может не мстить за обиду. У Сталина есть, однако, и другие традиционные черты кавказского мужчины: вне домашнего очага проявления любого чувства, кроме гнева и возмущения, подавляются. Грузинское общение подчиняется ритуалу не менее строгому, чем ритуал китайского придворного. Такие принципы помогали Сталину вести себя перед публикой или с чужими людьми совершенно противоположно своим истинным побуждениям и чувствам. Таким же образом свободные нравы революционера только прикрывали строгое кавказское пуританство. Сталин, например, как хороший ученик, писал одобрительные замечания на полях своего экземпляра «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Фридриха Энгельса, но дома он настаивал, как истинный кавказский патриарх, на подчинении женщин и детей власти взрослого мужчины.
В ближайшем окружении не могли забыть, что Сталин – чужак: во-первых, он говорил по-русски с грузинским акцентом (тем сильнее, когда он произносил речь), во-вторых, водке он предпочитал красное вино. И все-таки после 1917 г. он редко говорил по-грузински, даже с Орджоникидзе и Берия, хотя он не переставал читать грузинские книги. К своему старшему сыну Якову, который до семнадцати лет ни слова по-русски не говорил, Сталин ни разу не обращался по-грузински. Единственной яркой кавказской чертой, которую он сохранил и которой гордился, было умелое приготовление мяса: и в 1930-х гг. Сталин закалывал барана собственным ножом, свежевал тушу и жарил шашлык.
После 1917 г., кроме немногих записок к матери или на полях книг, Сталин писал исключительно по-русски. В русском он допускал некоторые ошибки, типичные для грузина: он думал, что «макароны» – это существительное в единственном числе, и путал винительный и предложный падежи в таких фразах, как «положить в гроб» или «распинать на кресте». Судя по гневным или любознательным заметкам на полях книг, по спорам с грузинскими учеными и партийными секретарями, или по его покровительству восьмитомному Толковому словарю грузинского языка, он никогда не переставал интересоваться грузинским языком и историей.
Стихи, однако, Сталин писал по-грузински (хотя чужие стихи на русском он тоже иногда поправлял). Его поэтическая карьера обрывается в шестнадцать лет, но до самых последних дней он читал по-грузински, подчеркивая толстым красным или синим карандашом слова или выражения, которые ему не нравились. Он читал, как очень знающим и неумолимый корректор, правя грамматику или стиль, спрашивая по-русски, когда он уже не понимал какое-нибудь редкое грузинское слово: «Это что?» Он даже поправлял авторский перевод с греческого на грузинский. На высказывания грузинских писателей Сталин иногда реагировал бурно. Например, замечание Константина Гамсахурдия в послесловии к роману «Давид Строитель» – «Если мы воспитаны путем исторического патриотизма, мы можем сделать из любого бандита Наполеона» – Сталин откомментировал: «Глупость». Когда Гамсахурдия утверждает, что Гегель и Бальзак считали роман вершиной творчества, Сталин опять реагирует: «Ха-ха. Чепуха!»
Важнее всего то, что Сталин разделял мнение грузинских просветителей, средневековых и современных, о мессианском назначении своей родины. Одержимые мнимым величием доисторической Колхиды и величием Грузии в XII в., многие грузины до сих пор допускают, что их народ – избранный. Это убеждение глубоко проникло в сознание Сталина. Помечая карандашом на полях «Истории Грузии» Ивана Джавахишвили (он читал эту книгу в разгар войны, в 1943 г.), Сталин спрашивает с возмущением: «Зачем автор умалчивает, что Митридат и Понтийская империя были грузинским правителем и грузинским государством?» В собрании сочинений Николая Марра, феноменально начитанного шотландско-грузинского шарлатана-гения, который выдумал классовую теорию языка и на время убедил Сталина в ее пригодности, Сталин подчеркивает карандашом особенно сумасбродные мысли в статье «Абхазы и абхазология», где Марр утверждает, что русский народ происходит от «яфетических» народов Кавказа, тем самым намекая, что Грузия – старинный очаг русской культуры. Сталин никогда не сомневался, что он – представитель избранного народа.
Реальная, а не мифологическая грузинская история может быть источником настоящей политической мудрости. То, что Сталин узнал о средневековой Грузии в семинарии, подсказывало ему стратегию для захвата и применения власти и рисовало идеал абсолютного самодержавия. Грузинские Багратиды, будь то Давид Строитель в XII в. или Теймураз I в XVII в., строили ли они империи, как Давид, или теряли их, как Теймураз, были беспощадными самодержцами, которые избавлялись от всех соперников, даже от своих соратников. (Неудивительно, что в сталинском экземпляре романа «Давид Строитель» так много пометок.) В своем стоицизме грузинские цари иногда доходили до психопатологического бесчувствия. Они ставили интересы государства гораздо выше интересов народа, даже своей же семьи. Они защищали свою идеологию, православие, самыми хитрыми приемами, даже обращаясь временно в мусульманство. И, как истинно христианские цари, с религиозной страстью больше всего ненавидели и презирали самих себя. Давид Строитель писал «Песни покаяния», а Теймураз сочинил «Страсти мученицы святой Екатерины» (о смерти собственной матери): оба царя-поэта рисуют себя погруженными в грех, губящими собственную душу, чтобы спасти царство. В этом ощущении собственной мерзости, в убеждении, что человек духовно пресмыкается в грязи, таится самое ядовитое в безбожном, но все-таки религиозном мировоззрении Сталина.
Грузия влияла на Сталина не только в историческом, но и в культурном смысле. Идеальным правителем, с точки зрения Багратидов, являлся универсальный гений, не только стратег, но и ученый, художник. Почти все Багратиды, династия, правившая без малого тысячу лет, были поэтами, а некоторые и учеными. Например, в 1570-х гг. картлийский царь Давид XI составил одно из самых полных руководств к галенически-арабской медицине; в 1780-х гг. князь Вахушти стал первым и лучшим географом страны. Одержимость Сталина литературой и писателями, наукой и учеными, его личное завистливое честолюбие в этих областях вполне соответствуют характеру таких грузинских царей, как Теймураз, который, подобно Нерону, завидовал своим соперникам и в политике, и в поэзии. После итальянского Возрождения лишь немногие диктаторы так умело, как Сталин, манипулировали подвластными им поэтами.
Те шесть стихотворений, которые Сталин написал и опубликовал по-грузински, когда ему еще не было семнадцати лет, весьма бесхитростно и беззаботно раскрывают его мысли – редкое явление в сталинской речи, устной или письменной. Психиатры, и не только последователи Фрейда, поразились бы таким изобилующим в них символам депрессии и болезненной мнительности, как луна и яд. Одно стихотворение заканчивается так: «Я расстегну мои одежды и открою луне грудь, / С распростертыми руками я буду обожать / Источник света, льющегося на землю!» Другое стихотворение начинается: «Когда светило, полная луна, / Плывет по небосводу» и рисует аллегорию восстановленной политической веры, но завершается: «Душа моя ликует, сердце бьется ровно, спокойно; / Но разве подлинна эта надежда, Нисплосланная мне тогда?»[4] Уединение обожателя луны превращается в недоверие и подозрение.
Еще одно стихотворение описывает презренного и отверженного скальда в лермонтовском духе:
- Где бы ни звучала арфа,
- Толпа подносила скальду Кубок с ядом […],
- И ему говорили: «Пей это, проклятый,
- Вот твоя доля! Нам не нужно ни твоей правды,
- Ни этих твоих небесных мелодий».
Неблагодарность и яд – повторяющиеся темы в любом описании сталинского обращения с соперниками и с подчиненными: больше всего он боялся предательства, даже убийства, со стороны тех, кто был больше всех ему обязан, и упреждающими ударами сокрушал, а то и буквально отравлял тех, кто больше чем кто-либо ожидал от него благодарности и доверия. Любимые глаголы молодого поэта указывают на склонность к насилию: вешать, разить, схватить, вырвать. В лирике Джугашвили есть интересная вертикальная перспектива – сверху вниз, от «ледников луны» через «распростертые руки» в «ямы» – так он изображает метания от мании к депрессии. Неудивительно, что в зрелые годы Сталин вообще не поощрял тех подхалимов, которые пытались заказать переводы на русский его отроческой лирики, точно так же, как он запрещал портреты или скульптуры, которые показывали его рябое лицо и сухую руку, или увольнял актеров, которые имитировали его хромоту или грузинский выговор.
Сталин брал за образец не только реальных, но и фиктивных героев. Его пленили первые романисты грузинской литературы. Революционный псевдоним Коба исходит из мелодраматического романа Александра Казбеги «Отцеубийца». У Казбеги Коба – полудикий горец, рыцарь-абрек: он воссоединяет несчастных влюбленных (девушку, ложно обвиняемую в убийстве своего отца, и ее возлюбленного), а затем, когда местные феодалы в заговоре с русскими завоевателями губят обоих, мстит за них. Коба-мститель – единственный персонаж, остающийся в живых в конце романа Казбеги. Своей удачей, тем, что он пережил и врагов, и друзей, Коба особенно понравился Сталину, и это прозвище жило дольше всех других сталинских ласкательных имен, до 1937 г., когда он умертвил Орджоникидзе, последнего друга, который был с ним на «ты».
В 1890-х гг., в семинарские каникулы, Сталин редко возвращался в Гори на лето; он проводил время под Тифлисом с другими семинаристами и общался с грузинскими студентами, только что вернувшимися из Варшавы, Харькова, Москвы, Петербурга. Каждое поколение грузинских студентов оказывалось еще более радикально настроенным. Отрочество Сталина совпало с деятельностью марксистов «месаме даси», не очень сплоченной группы, которая склонялась к идее, что власть нужно свергнуть силой, и уже отказывалась от национализма, чтобы сотрудничать со всеми угнетенными народами Российской империи. В Грузии радикальные настроения были более распространены – даже среди предпринимателей и дворянства, – чем в самой России. Борьба Грузии за самоопределение объединила всех, несмотря на раздоры между либералами и революционными социалистами. Лига свободы в Грузии охватывала и конституционных социалистов, таких как меньшевик Ноэ Жордания, который станет руководителем Грузинской республики Грузии в 1917 г., и марксистов-интернационалистов, таких как Филипп Махарадзе, один из первых политических учителей Сталина. Тифлис все еще был сонным провинциальным городом, но в 1895 г. грузинская интеллигенция, рассеянная по всей России и Европе, в ссылке или в университетах, смогла сосредоточить маленькую группу марксистов именно в столице. Пролетариев все еще было мало (в городе преобладали армяне-купцы и русские чиновники), так что пропаганда марксизма была более выгодна в единственном большом промышленном закавказском городе, Баку, или в главном закавказском порту, Батуми.
Сталин как мыслитель
Всю жизнь Сталин был озабочен вопросом, существует ли Бог. Около 1926 г. он читал в русском переводе размышления Анатоля Франса «Диалоги под розой» и остановился на анекдоте о том, как встретились французские поэты Теофиль Готье и Шарль Бодлер: Готье смотрел на гротескную африканскую деревянную статуэтку, которая принадлежала Бодлеру, и размышлял: «А если Бог в самом деле похож на это?» Сталин восклицает на полях: «Ха! Вот и разбери!» Расстроенный замечанием Франса «Бог – перекресток всех человеческих противоречий», он черкнул: «Разум – чувство – неужели и это тоже?! Это ужасно!»
Потеряв веру в Бога, Сталин тем не менее сохранил кальвинистскую веру в грех, грехопадение, благодать и проклятие. Он даже, кажется, не перестал верить в любовь как верховное начало вселенной. Из разворованной сталинской библиотеки сохранился экземпляр «Братьев Карамазовых». Главы, где Сталин чаще всего подчеркивает целые абзацы карандашом, не касаются, как можно было ожидать, отцеубийства или права великого мыслителя делать то, что он хочет, раз Бога нет. Сталина заинтересовало совсем другое – философия иноков Достоевского. Он подчеркивает размышления отца Зосимы о сути «деятельной любви» к людям: «ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее» (8). Сталин смог принять утверждение Анатоля Франса, что Бог умер; считая себя сверхчеловеком, он почувствовал себя способным заменить Бога самим собой. Но его угнетала собственная смертность. Читая диалог Франса о старости, он подчеркивал заметку, что некоторые люди предпочитают ад небытию. Даже в отрочестве Сталина беспокоила старость и смерть. Его лучшее и последнее стихотворение предвосхищает одинокую немощность его собственных последних лет:
- Наш Ниника состарился,
- Его богатырские плечи уж не служат ему…
- Как смогла эта безутешная седина сломать железную силу?
- […]
- А теперь он уже не может двинуть ногой;
- Подкошенный старостью,
- Он лежит, или видит сны, или рассказывает
- Внукам о прошлом.
В старости Сталин, конечно, мог, когда бы ни захотел, вызвать аплодисменты и благодарность толпы, которых так недостает его романтически настроенному лирическому герою, но, если он дряхлым стариком вспоминал это стихотворение, оно, должно быть, казалось горьким и пророческим (9).
Суровое православное восприятие «жестокой деятельной любви» было Сталину по душе; а протестантское толстовское христианство, которое опиралось на независимость личности, раздражало его. Сталин энергично марал книги Толстого, принадлежащие и ему, и его дочери Светлане. «Ха! ха! ха!» – писал он красным карандашом, издеваясь над следующим высказыванием Толстого: «Единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтоб люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей».
Ошибкой, которую чаще всего допускали противники Сталина, была недооценка степени его начитанности. О ней можно судить по остаткам его библиотеки, состоявшей из двадцати тысяч книг, по выпискам или письмам, где он заказывал книги, по воспоминаниям современников, знавших его в молодости. Практиковавшиеся в семинарии запреты на издания лишь побуждали семинаристов читать больше. В 1910 г. в Вологде, по сведениям царской охранки, Сталин посещал городскую библиотеку семнадцать раз за 107 дней. К тридцати годам Сталин уже был изрядно начитан в западной и русской классике, философии, политической теории. В годы ссылки в сибирской глуши с 1913 по 1917 г. Сталин читал все, что оказывалось под рукой или что удавалось выклянчить у других ссыльных. Даже в хаосе революции и в погоне за властью он не переставал читать. С 1920-х гг. до смерти он читал почти всю русскоязычную эмигрантскую периодику.
Заведя себе кабинет и квартиру в Кремле, не говоря уж о дачах около Москвы и на Черном море, Сталин собрал собственную библиотеку. Иногда он заказывал книги, часто присваивал себе издания из государственных библиотек, многие книги присылались в дар от издательств или авторов. Читая до пятисот страниц в день, записывая отзывы на полях, несмотря на собственные жалобы на плохую память, он мог вспоминать бесчисленные фразы и мысли даже по истечении многих лет. Сталин был феноменальным и опасным читателем. Он нередко понимал мысль автора превратно, но в то же время чутко реагировал на то, о чем автор умалчивал. С годами он стал менее терпелив. Он подчеркивал строки сначала густо, а после сотой страницы уже читал небрежно и, видимо, бросал книги, не дочитав до конца. Как бы то ни было, к Сталину можно применить английскую поговорку – чтобы добиться своего, дьявол и Священное Писание процитирует.
Осип Мандельштам утверждал, что биография писателя – это список книг, которые он прочитал. Сталина больше всего привлекали обзоры европейской истории, литературы, лингвистики. Ему особенно импонировали книги авторитарных писателей и деятелей – «Государь» Никколо Макиавелли, «Моя борьба» Адольфа Гитлера, «О войне» Карла Клаузевица, воспоминания Отто фон Бисмарка. В середине 1920-х гг., когда Сталин хранил свои книги большей частью в Кремле, Надежда Аллилуева, его вторая жена, взяла пример с Сергея Кирова, такого же библиофила, как Сталин, и попросила профессионального библиотекаря классифицировать и переставить все сталинские книги. Сталин рассердился. Он сразу составил собственный каталог и попросил своего секретаря, Александра Поскребышева, все расставить заново.
Ограничивало Сталина только незнание языков. Лишь по-грузински и по-русски он мог читать без словаря. Но и тут Сталина недооценивали его противники. В семинарии он довольно хорошо выучил древнегреческий (посетители бывали удивлены, заставая Сталина в Кремле за Платоном в подлиннике) и до некоторой степени владел также французским, немецким и английским (10). Живя в сибирской ссылке, он пытался выучить эсперанто (11). Впоследствии интерес к марксизму и первые путешествия в Берлин и Вену заставили Сталина читать немецкие журналы.
Люди писали Сталину не только по-русски и по-грузински; из Баку он получал письма на азербайджанском (тогда на этом языке писали арабской азбукой). А когда он скрывался от царских жандармов, то пользовался армянскими фамилиями вроде Захарьянц или Меликиянц: надо полагать, одно время он кое-как владел и азербайджанским, и разговорным армянским. В 1926 г., во время всеобщей забастовки в Англии и в последующие годы, когда английское правительство было настроено против советской власти, Сталин перелистывал английские газеты. Когда жена забыла послать ему из Москвы в Сочи «Образцовый самоучитель английского языка» Месковского по системе Розенталя, Сталин раздраженно упрекал ее за это. Как и в других областях, Сталин предпочитал скрывать, а не показывать свои лингвистические познания.
Подробно вспоминая то, что он читал или слышал, Сталин проявлял дьявольское чутье на нестыковки и скрытые мысли, хотя его толкование авторских намерений часто бывало эксцентричным, даже превратным. Его случайные восклицания и сердитые замечания красным карандашом проливают свет на его мышление, причем именно в тот период, когда он боролся с оппозицией и с соперниками.
Некоторые книги, прочитанные молодым Сталиным, как кажется, обрисовывают его будущий курс. Не раз современники называют роман Достоевского «Бесы» как источник программы Сталина для захвата полной власти. Хорошо осведомленный грузинский романист Григол Робакидзе, написав в Германии роман «Убитая душа», утверждает, что принадлежавший библиотеке Тифлисской семинарии экземпляр «Бесов» был густо испещрен пометками Сталина. Как самый антиреволюционный роман Достоевского, «Бесы», конечно, были подходящим чтением для будущих священников в Российской империи. Фабула, согласно которой циник и двурушник Верховенский эксплуатирует самоубийцу-нигилиста и декадента-аристократа и заставляет членов своей подпольной группы сплотиться, убивая одного из них, предвосхищала тактику Сталина. И шигалевщина, теория революционного фанатика, утверждающего, что надо снести с плеч сто миллионов голов, чтобы настал период вечного счастья, была для Сталина столь же заманчива, сколь чудовищна для Достоевского.
Как и герои Достоевского, Сталин искал в философии санкции на нарушение законов человеческих и Божьих. Самым значительным его высказыванием была запись красным карандашом на шмуцтитуле издания 1939 г. книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (трактат о том, что реальный мир существует независимо от нашего восприятия). Замечания Сталина придают макиавеллианскую окраску символу веры сатанинского антигероя Достоевского. Это – эпиграф ко всей карьере Сталина:
1) слабость
2) лень
3) глупость
единственное, что может быть названо пороками.
Все остальное – или отсутствие вышеуказанного – составляет несомненно добродетель!
Запись Сталина на шмуцтитуле издания 1939 г. книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»
«NB. Если человек
1) силен (духовно)
2) деятелен
3) умен (или способен) —
то он ХОРОШИЙ, независимо
от любых иных «пороков»!
(1) и (3) дают (2)
[далее – синим карандашом. —Д. Р.]
Увы, увы!
И что же видим мы?» (12)
Вполне сопоставим с таким высказыванием тот факт, что в сибирской ссылке в 1915 г. Лев Каменев (тогда своего рода научный руководитель Сталина, расстрелянный им 21 год спустя) подарил ему томик Макиавелли. Каменев всю жизнь хвалил Макиавелли: как политический теоретик, Каменев восхищался средневековым мыслителем, предвосхитившим весь беспредел европейского XX в. Сталин же, читая Макиавелли как прагматик, уважал в нем писателя, который заранее оправдал то, что он, Сталин, уже давно думает и делает. Марксизм дал Сталину и Ленину конечную цель, не говоря уже о терминологии и оправдании действий; Макиавелли описывал средства и тактику и освободил их от последних уз нравственности. Сталин, можно сказать, был марксистом лишь в том смысле, в каком Макиавелли был христианином. Для обоих главная задача правителя состояла в том, чтобы не выпустить из рук власть. Они изучили все средства, которыми власть, однажды захваченная, укрепляется. Та идеология, во имя которой власть захватили и властитель правит, остается объединяющим знаменем.
Не все, что Сталин заносил на бумагу, поддается толкованию: иногда он просто рисовал сложные узоры из треугольников и кругов. Иногда мы наталкиваемся на простые инициалы на полях книг, например Т. и У. Можно высказать догадку, что Т. – это Тифлис и семинария, те психологические прозрения, которые христианское образование дало Сталину. У. могло значить Учитель, под которым подразумевался, возможно, Ленин, может быть, и сам Сталин (13).
Посвящение в политику
Исключенный из семинарии в 1898 г., Сталин не вернулся в Гори к разочарованной матери; он прятался от полиции в деревне недалеко от Тбилиси. Осенью Вано, младший сын его друга Ладо Кецховели, помог ему найти на тифлисской метеорологической станции несложную службу, за которую он получал 20 рублей в месяц. Можно было подумать, что многообещающий мальчик теперь был обречен стать полуобразованным служащим на периферии общества.
Джугашвили спасли от прозябания в безвестности уличные беспорядки и возможность доставить беспокойство властям. В январе 1900 г. вместе с Кецховели он помог трамвайным рабочим организовать забастовку. Полиция вскоре разогнала бастующих; Вано Кецховели сбежал в Баку, а Джугашвили поймали и посадили под арест. По ходатайству матери его освободили.
В дальнейшем молодой Сталин искал поддержки у русских социалистов, которых начальство, не думая о последствиях, сослало из Петербурга в Закавказье. Так в 1900 г. и начала создаваться сталинская сеть. Первое важное его знакомство – это Михаил Калинин, ссыльный русский, который работал в железнодорожных мастерских. Как будто в благодарность Сталин потом в течение долгих лет держал Калинина на марионеточной должности главы Советского государства. Калинин вел себя всю жизнь как собака в поисках хозяина и оказался образцовым приспешником Сталина. В том же году появился и другой русский знакомый – доктор Виктор Курнатовский. Он был образованным марксистом и дружил с другими закавказскими социалистами, среди которых был Сергей Аллилуев (Курнатовский был любовником жены Аллилуева). Через Курнатовского Сталин познакомился с марксистским подпольем и со своим будущим тестем.
За какой-то год скромный служащий Джугашвили стал подпольщиком, которого разыскивала полиция. Из двадцати девяти членов Российской социал-демократической рабочей партии, значившихся в списках тифлисской жандармерии в начале 1901 г., трое – Виктор Курнатовский, Филипп Махарадзе и Иосиф Джугашвили – считались «опасными». О Джугашвили писали, что он «ведет сношения с рабочими» и «держит себя весьма осторожно, на ходу постоянно оглядывается…».
В 1901 г. Сталин вступил в период, продолжавшийся шестнадцать лет, когда он был беспрерывно или в розыске, или в тюрьме, или в ссылке. Адресов было много, но ни одного домашнего; не было надежды на постоянную работу или профессию, и еще меньше – на влияние или власть. Он заезжал в Гори только тогда, когда его преследовали тифлисские жандармы. Единственными занятиями были организация демонстраций и забастовок, управление подпольной типографией.
Тогда, как и потом, Сталин испытывал симпатию к мужчинам двух типов. С одной стороны, он нуждался в таких людях, как Калинин или Курнатовский, которые самостоятельно пришли в марксизм и верили в доктрину. Из таких людей он составит свой внутренний круг. С другой стороны, его тянуло к «киллерам». В 1901 г. он подружился с первым из уголовников, чьими услугами он пользовался всю жизнь, с полугрузином-полуармянином Симоном (Камо) Тер-Петросянцем. Сталин в самом деле знал его с детства: Тер-Петросянцы и Джугашвили были соседями в Гори. Камо скоро стал самым известным закавказским бандитом: его кровавые «экспроприации» («эксы»), ограбления почтовых вагонов и почтамтов на сотни тысяч рублей доставляли большевикам средства для пропаганды и покупки оружия и отчуждали «легальных» законопослушных марксистов от их кровожадных нелегальных спутников. В 1901 г. Камо было всего 19 лет. Исключенный из школы за пропаганду атеизма, он подал заявление в военное училище в Тифлисе, где надеялся стать специалистом по оружию и взрывчатым веществам.
В конце 1901 г. Джугашвили прятался от жандармов в Батуме. Батум был тогда вторым городом и главным портом Грузии, очагом беззакония, где турецкие и мусульманские влияния были так же сильны, как русские. Здесь грузили нефть на корабли, здесь находились заводы и фабрика Ротшильдов. К тому моменту в Батуме накопилась критическая масса недовольных пролетариев. Батум оказался для Джугашвили не местом провинциальной ссылки, а театром, где он смог удачно дебютировать. В первый раз он узнал, что это такое – пролетарий. Тот факт, что неизвестный молодой человек из Тифлиса произвел сильное впечатление в промышленном городе, где многие рабочие не понимали по-грузински, свидетельствует, что Сталин уже тогда представлял собой сильную личность. Вскоре он стал курсировать, скрываясь в товарных вагонах или у кондукторов, в Тифлис за станками, чтобы печатать брошюры. Ему в этом деле помог двадцатилетний чахоточный армянин Сурен Спандарян, редактор журнала «Нор Дар» («Новое столетие») и сын типографа. До самой смерти в 1916 г. Спандарян был одним из тех немногих, кого Сталин мог называть другом и чья смерть, хотя и на короткое время, опечалила его. Очень скоро, в начале 1902 г., жандармы забрали почти всех революционеров в Тифлисе, но в Батуме те забастовки, которые помог организовать Сталин, были победоносными. Весной этого года Джугашвили арестовали за «призыв к возбуждению и неповиновению против верховной власти» (14). Его осмотрел тюремный врач Григо Элиава (15), оставивший первое описание внешности Сталина (правда, краткое и, как оказывается, неточное): «размер роста – 2 аршина 4,5 вершка (1,64 м. —Д. Р.)… лицо длинное, смуглое, покрытое рябинками от оспы… на левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся… на правой стороне нижней челюсти отсутствует передний коренной зуб… на левом ухе родинка».
В тюрьме Джугашвили героизма не проявлял. Осенью он умолял наместника князя Голицына: «Все усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже 12 лет и видящей во мне единственную опору в жизни, – заставляет меня второй раз обратиться к Канцелярии главноначальствующего с нижайшей просьбой освобождения из-под ареста под надзор полиции…» Однако офицер тифлисской жандармерии отговаривал начальство от послаблений Джугашвили. Данная им характеристика рисует арестованного почти как человека, полезного для полиции: «В Батуме во главе организации находится состоящий под особым надзором полиции Иосиф Джугашвили… Деспотизм Джугашвили многих, наконец, возмутил, и в организации произошел раскол…» (16)
Весной 1903 г. Джугашвили подстрекал арестантов к протесту против посещения тюрьмы православным экзархом Грузинским. Его перевезли в другую тюрьму, в Кутаиси. Там его видел социал-демократ Григол Урутадзе: «Носил бороду, длинные волосы, причесанные назад. Походка вкрадчивая, маленькими шагами. Он никогда не смеялся полным открытым ртом, а улыбался только… Был совершенно невозмутим». Жандармы предложили сослать Джугашвили в Восточную Сибирь на шесть лет.
Царская бюрократия долго обсуждала дело и только зимой 1903/04 г. выслала Джугашвили вместе с двадцатью другими социал-демократами, всех в летней одежде, по Черному морю, потом по железной дороге за Урал. Их поселили в сибирской деревне в сорока километрах от железной дороги. Через два месяца Джугашвили уговорил крестьянина (которого потом высекли за это преступление) довезти его до станции, откуда он вернулся на Кавказ. В Тифлисе его приютил Сурен Спандарян и еще один человек, сын инженера, Лев Каменев (Розенфельд), который станет ключевой фигурой в ленинском кругу. Несколько дней, пока он сам не сбежал на север в Петербург, Каменев помогал Джугашвили скрываться: свое рыцарство он, несомненно, проклял через тридцать лет, дожидаясь расстрельного приговора от того, кого спас. Многие могли убедиться в черной неблагодарности Сталина, но с Каменевым он поступил, может быть, хуже, чем с кем-либо.
По возвращении Джугашвили в первый, но не в последний раз навлек на себя подозрения в сотрудничестве с охранкой. Товарищи по партии недоумевали, как это ему удалось так быстро вернуться из Сибири. Откуда взялось у него сто рублей на билет из Сибири до Кавказа? Джугашвили заявил, что он подделал удостоверение агента полиции. Но откуда в сибирских болотах он достал бланки и штампы? Он поехал дальше в Баку, но и там его отлучили от партии. Несколько раз он ездил в Тифлис. 1 мая 1904 г. его избили. Он сбежал к Гиорги Геладзе, брату матери, и два месяца не показывал носа. В августе его как будто «реабилитировали». Партии недоставало образованных активистов, а вещественных доказательств предательства не было.
Пользуясь прозвищем Коба, Сталин быстро рос в партийной иерархии, разреженной арестами товарищей. За короткое время он стал лидером закавказских социал-демократов. Когда умеренные меньшевики и бескомпромиссные большевики раскололись на II партийном съезде в 1903 г., последние почувствовали себя свободными и не стеснялись насилия. В Женеве Ленин, Крупская, Розалия Землячка и другие крайние требовали нового съезда, который одобрил бы новую программу революционной деятельности. Сталину наконец-то указали политическое направление, которое он с энтузиазмом мог навязать своим закавказским товарищам. После смерти Ладо Кецховели Джугашвили стал наиболее авторитетным и, пожалуй, харизматичным из грузинских большевиков. Время от времени он получал денежную и нравственную поддержку от русских большевиков: в сентябре 1904 г. Каменев вернулся в Тифлис, потом приехала из Швейцарии посланница Ленина, Цецилия Зелигсон; Камо Тер-Петросянц сбежал из батумской тюрьмы и присоединился к Джугашвили. В том году Сталин не переставал колесить по Закавказью. Благодаря связям с железнодорожниками ему было нетрудно ездить в закрытых товарных вагонах, не попадаясь жандармам.
Прошло уже три года с тех пор, как волна недовольства захлестнула рабочих по всей Российской империи. Как и предупреждали реакционеры, на каждую уступку царского правительства рабочие отвечали новыми, более решительными требованиями. В 1900 г. Сталин смог организовать выступление лишь одного трамвайного депо. В 1904 г., когда страна не только переживала ускоренную индустриализацию, но и готовилась к войне с Японией, Коба и его товарищи, армяне и азербайджанцы, организовали забастовку, которая парализовала добычу и переработку нефти в Баку и в первый раз в русской истории заставила владельцев заводов уступить требованиям рабочих. Но в конечном счете жандармы и охранка арестовали столько большевиков, что в Тифлисе партией на время овладели более законопослушные меньшевики.
Революционеры впервые почувствовали себя по-настоящему сильными в 1905 г., когда самодержавие, побежденное Японией, опозоренное расстрелом невооруженных рабочих перед Зимним дворцом, было вынуждено уступить общественному мнению и провозгласить конституционный строй. Смута волна за волной охватывала Россию. Летом этого года революционеры подняли бакинских рабочих, и они подожгли половину нефтяных скважин в городе. Коба был в постоянных разъездах, организовывая сходки, раздавая задания новым и старым партийным работникам. Когда дел было мало, Коба был сварлив и суров и не отрывался от книг, а в горячую пору, не щадя себя, недосыпая, не останавливаясь дольше двух дней в одном месте, он организовывал разобщенных, уговаривал несговорчивых и мирил враждующих. За его организаторский гений товарищи прощали и забывали его отталкивающие личные манеры.
В возрасте двадцати пяти лет Сталин встретил одну из тех немногих, к кому он питал сердечную привязанность. Скрываясь у своего друга Михаила Монаселидзе, он влюбился. У жены Монаселидзе было две сестры. Все трое Сванидзе были белошвейками, которые обслуживали жен армейских и жандармских офицеров. Они жили близко от казарм, и их дом никто и не думал обыскивать. Здесь Коба чувствовал себя вне опасности и ухаживал за Като Сванидзе.
В том же году Коба впервые встретил единственного человека, которому он подчинился добровольно, – Ленина. Под псевдонимом Иванович Коба поехал как делегат от Закавказья на тайный съезд РСДРП в Тампере, где, несмотря на то что Финляндия была частью Российской империи, революционеров нельзя было арестовать за мирную встречу и дискуссию о революции. Впервые Коба оказался среди большой группы партийцев (делегатов было более сорока). Он близко познакомился с некоторыми из них – Лениным, Свердловым, Леонидом Красиным. Кобу похвалили за бескомпромиссное мировоззрение, так что, вернувшись в Закавказье в начале 1906 г., он с полным на то правом объявил себя «закавказским Лениным». Впервые его власть стала легитимной. Как и побег из Сибири, его путешествие в Финляндию, не омраченное жандармскими досмотрами, навело некоторых товарищей на мысль, а не шпик ли Коба.
Первое убийство, в котором принимал участие Сталин, было совершено 16 января 1906 г. Партия «приговорила» к смерти и убила генерала Грязнова, который за месяц до этого в Тифлисе разгромил баррикады, воздвигнутые бунтующими рабочими. Когда полиция искала его, Коба лежал в постели с забинтованной головой (упал с трамвайной подножки). Тот факт, что его фамилии нет в списке арестованных, хотя он утверждал, что сидел в метехской тюрьме в апреле 1906 г., дает лишний повод допустить, что у Джугашвили был какой-то таинственный договор с полицией. Летом Коба опять поехал на север, в этот раз как «Виссарионович» в Стокгольм на IV съезд РСДРП, а подозрительно хорошо осведомленные тифлисские жандармы разгромили подпольную типографию социалистов.
Стокгольм собрал еще больше делегатов, чем Тампере. Здесь Сталин увидел как новых для себя лиц, например предтечу русских марксистов Георгия Плеханова, так и старого знакомого Михаила Калинина. Он впервые встретил двух человек, без которых впоследствии не смог бы завоевать абсолютную власть: Феликса Дзержинского, будущего главного чекиста, и Клима Ворошилова, будущего военного наркома, а позднее палача Красной армии. В Стокгольме Коба остановился в одном номере с Ворошиловым (что, по легенде сталиноведения, уберегло этого человека от ареста и казни в эпоху сталинщины). Здесь же Джугашвили впервые увидел некоторых из тех, кого он лишит жизни, как только ему покажется, что они мешают его единовластию: Андрея Бубнова, Александра Смирнова, Алексея Рыкова. В Швеции Сталин на короткое время уподобился буржуа: приобрел костюм, галстук, шляпу и трубку (трубка – единственный «буржуйский» аксессуар, который он использовал до конца жизни).
Вернувшись в Тбилиси, он опять поступил как буржуа: узнав, что Като Сванидзе беременна, пригласил священника, не побоявшегося обвенчать человека в розыске, и женился на ней. Супружеская жизнь была несладкой и недолгой. Коба сбежал в Баку, Като арестовали за то, что она приютила революционеров. Ее сестра Александра Монаселидзе-Сванидзе шесть недель ходила по знакомым жандармам, пока не наткнулась на жену полковника, которую обшивала. Полковник сначала пускал Кобу (будто бы ее кузена) в женскую тюрьму к жене, потом освободил ее, а заодно спас ее настоящего кузена от петли палача.
Теперь Сталин опять стал писателем: писал прозу, короткие трактаты по-грузински о социализме и анархизме, которые печатались в газетах «Ахали Дроеба» («Новое время») и «Чвени Цховреба» («Наша жизнь»). Рождение сына Якова 18 марта 1907 г. не отвлекло его от этих дел. Через месяц Коба, как единственный не арестованный закавказский делегат от большевиков, поехал в Копенгаген. Датское правительство уступило требованиям российского правительства и выгнало делегатов, которые сразу переехали в Лондон. Коба, кажется, поехал в Лондон через Берлин, чтобы посетить Ленина и согласовать с ним ограбление в Тифлисе. И Камо Тер-Петросянц, несмотря на официальную мирную политику партии, доставил деньги для борьбы.
Коба вернулся в Грузию через Париж; у него был паспорт на имя одного покойного грузина. В Тифлисе он помог Камо 13 июня 1907 г. ограбить почту (через школьного товарища, служившего на почтамте, узнал, когда привезут банкноты). Грабеж пополнил партийную кассу на четверть миллиона рублей (правда, номера купюр сразу же были сообщены российской полицией коллегам в европейских странах); от бомбы Камо погибло и было ранено около пятидесяти человек из публики. Меньшевики исключили Кобу из Закавказской социал-демократической партии за терроризм.
Вместе с женой и малышом Коба уехал в Баку, где среди нефтяников было еще много большевиков. К Кобе примкнул новый союзник (а в конце концов жертва) – Серго Орджоникидзе. Свой авторитет Сталин основывал на неофициальном мандате Ленина, к которому он в следующем году, вероятно, ездил еще дважды – сначала в Штутгарт, потом в Швейцарию.
Вскоре Коба освободился от семейных уз. 22 ноября 1907 г. Като умерла, видимо от тифа и чахотки. Коба передал сына своей невестке и следующие четырнадцать лет о ребенке даже не справлялся. В марте следующего года бакинские жандармы наконец арестовали всех большевиков, включая Джугашвили, скрывавшегося под именем Кайоз Нижерадзе. Безалаберность, а может быть, и подкуп привели к тому, что жандармы не опознали в Кобе большевика в розыске и беглеца из Сибири Джугашвили. К тому же времена настали мягкие. Царь и Государственная дума объявили амнистию всем политическим заключенным. Коба говорил, что и 1904 и 1905 гг. он провел за рубежом и поэтому подлежал амнистии. Даже когда стало очевидно, что он лжет, с ним поступили мягко: сослали на три года в Вологду.
Сталин с матерью и семьей Сванидзе у гроба жены
Почему российские власти так снисходительно обращались с теми, кто пытался свергнуть режим убийствами, грабежом, саботажем и забастовками? В 1908 г. во Франции Кобу и Камо ожидала бы гильотина, в Великобритании – виселица, в Америке – электрический стул. Правда, революционеров в России часто судили военные трибуналы, которые выносили приговоры, не дослушав показаний, и вешали приговоренных, но это происходило на западе, в Одессе, в Вильне, в Киеве, где управляли генерал-губернаторы и где революционеры часто были поляками или евреями. Петр Столыпин, самый деятельный из русских премьер-министров, несмотря на прагматизм и либерализм, так охотно вешал врагов государства, что в обиход вошло выражение «столыпинский галстук».
Как бы то ни было, Сталин и его товарищи – Свердлов, Калинин, Каменев – провели в тюрьме, дожидаясь амнистии, всего несколько месяцев. В тюрьме с ними, выпускниками гимназий или семинарий, смотрители обращались как с дворянами, разрешали посещения, хорошее питание, лечение. Когда их ссылали в Сибирь, им выдавали содержание, которого хватало на отопление, питание, даже прислугу и корову. Там они жили среди дружелюбного населения, даже сибирские жандармы, которые их стерегли, хорошо относились к ним, а если им надоедала одна и та же компания или нескончаемая сибирская зима, легко было сбежать. В Британии, Швейцарии, Франции или Америке их принимали с состраданием. Никто на Западе не верил, что революционер-интеллигент из России может быть опасен. Наоборот, их присутствие предоставляло рычаг давления на Россию в том случае, если она начнет угрожать колониальным интересам Великобритании или Франции на Дальнем Востоке.
Терпимость была одной из слабостей Российской империи в 1910-х гг. Второй слабостью была двойственность политической системы. С одной стороны, царь поступал так, как будто, несмотря на конституцию, он остался абсолютным монархом: под влиянием жены он увольнял именно тех министров, которые своим талантом ставили под сомнение его авторитет. С другой стороны, первые две Думы провозглашали радикальные реформы. Каждая новая Дума, опирающаяся на еще более узкий круг избирателей, становилась более консервативной, но, несмотря на присутствие ярых монархистов, либералы и социалисты продолжали настаивать на гражданских правах и экономических реформах. В каком-то параличе между требованиями царя и Думы пребывали министры. Российское государство на время спасла группа мудрых, энергичных, даже самоотверженных министров – Сергей Витте, сделавший русский рубль одной из самых крепких валют в Европе, Петр Столыпин, за пять лет окончательно освободивший крестьянство, Петр Святополк-Мирский, провозгласивший либеральную весну 1904 г. и фактически уничтоживший цензуру. Но консерватизм царя и безответственность Думы свели их достижения на нет.
Иностранных наблюдателей обманывал экономический бум, который начался в 1908 г. Они недооценивали слабость политической структуры России и пренебрегали опасностью революционно настроенных левых. Даже Министерство внутренних дел и жандармы смотрели снисходительно на своих хорошо образованных противников. Вообще отношение русской публики к преступникам, особенно политическим, было христианское. Когда анархиста Гиашвили, бросившего бомбу в чиновника, приговорили к смерти через повешение, в Тифлисе не смогли найти палача для исполнения приговора, так что пришлось его помиловать – похвальное дело для христианского общества или гуманистической культуры, но катастрофическая ошибка для государства, в котором ожесточенные фанатики нащупывали всё новые и новые слабые места.
Тот факт, что фанатики раскололись на отдельные группы и поэтому казались неспособными на серьезное восстание, успокаивал общественное мнение. Больше всех тревожили публику социалисты-революционеры, которых какой-то туманный мистицизм вдохновлял на драматичные покушения, а большевики, которые лишь время от времени и довольно избирательно прибегали к кровавым акциям, казались заложниками непонятной немецкой политической философии. Поэтому их недооценивали, забывая, как всего несколько лет назад, в 1905 г., их рабочие и солдатские Советы чуть не свергли царское правительство.
Российское государство было подорвано коррупцией, которой было заражено все чиновничество, разве что кроме самих министров. Взяточничество и проникновение провокаторов ослабили жандармерию, хотя жандармы составляли довольно эффективную и добросовестную силу.
И все-таки в 1908 г. громко звучали пророческие голоса, предсказывающие гибель России. Некоторые издатели газет, философы, богословы и поэты чувствовали, что апокалипсис России возникнет из мировой войны, в которую союз с Великобританией, Францией и Сербией, не говоря уж о близорукости царской семьи, втянет страну. Настоящего конфликта с Германией или с Австро-Венгрией на самом деле не было; никакого господства над океанами России было не нужно, и у нее не было колоний, которые нуждались в защите. Стремление к войне 1914 г. – это бессмысленное стремление гадаринских свиней (Лк. 8, 26–39).
Большевики боролись с государством не потому, что оно угнетало народ, а потому, что было слабо. Россия в 1908 г. делала для своих граждан не меньше, чем западные государства – для своих. Суд присяжных, равенство перед законом, просвещенное отношение к этническим меньшинствам, религиозная терпимость, дешевые кредиты для крестьян, хорошие железные дороги и почта, свободная пресса, цветущие университеты с незаурядными учеными, врачами, всеобщее (хотя бедное) начальное образование, медицинское обслуживание, да еще и самый мощный взрыв художественного творчества в Европе после итальянского Возрождения – все эти плюсы в глазах многих наблюдателей перевешивали минусы: глубоко укорененный алкоголизм, эпидемический сифилис, лень, взяточничество, бездорожье, грубость бюрократии, всеобщую бедность. Многим казалось, что экономический и культурный прогресс уже спасает Россию от ее зол.
У партии Ленина был один неглупый лозунг: «Чем хуже, тем лучше». Революционеры активно поощряли (уже тем, что их не убивали) жестоких генерал-губернаторов, глупых жандармских полковников, жадных владельцев фабрик и заводов, зная, что такие люди способствуют появлению разгневанного пролетариата, который пойдет за социал-демократами.
Когда Сталин сидел в тюрьме или в ссылке, его не изолировали, не лишали ничего. Он мог учиться дальше, встречаться с революционерами со всех краев России. По выходе из этого кокона он стал еще более деятелен и опасен.
Тюрьмы и ссылки
…В лесу раздался ружейный выстрел. Им был убит Диамбег и ранен стоявший рядом Гиоргол, который слышал голос: «Я – Коба! Мой друг Яго отмщен!»
Александр Казбеги. Отцеубийца[5]
В камере № 3 Байловской тюрьмы в Баку, где Коба сидел в ожидании ссылки, его навещали мать и девушка-соседка из Гори. Больше, чем посетительниц, он ценил своих товарищей. С двумя из них его связали особенно прочные узы. Это были Серго Орджоникидзе, закавказский бандит и партийный организатор, и меньшевик Андрей Вышинский, хорошо образованный юрист из Киева. Орджоникидзе был эмоциональным, хотя при этом жестоким человеком, и впоследствии был верен Сталину. В Вышинском Сталин найдет самого расчетливого и циничного из всех своих союзников: в годы террора он будет фабриковать риторику и видимость законности, с тем чтобы отправлять сотни тысяч, включая тех, кто его обучал и защищал, на расстрел или в ГУЛАГ. Даже в тюрьме Вышинский свил себе теплое гнездо – он был назначен старостой политических заключенных и прикреплен к кухне.
После двух неудачных попыток сбежать Коба сдался и к весне 1909 г., несмотря на эпидемию тифа, задержавшего перемещение арестантов, находился в ссылке в Сольвычегодске, в двадцати пяти километрах санного пути от конечной станции железной дороги в Котласе. Там он задержался ненадолго; как говорили ссыльные, убегали все, кому не лень. Коба уехал сначала в Петербург, где будущий тесть, Сергей Аллилуев, нашел ему приют у дворника (как во Франции, так и в России дворники/консьержи в качестве доверенных помощников полиции не подлежали обыску и потому могли дать беглым преступникам надежное убежище).
Летом Коба уже находился в Баку и печатал листовки. Он не виделся ни с матерью, ни с сыном, но в его жизни появилась еще одна женщина, Стефания Петровская, которая покинула родной дом в Одессе после того, как ее овдовевший отец женился снова, сошлась с одним политическим ссыльным в Сольвычегодске, влюбилась в Кобу и уехала в Баку, чтобы жить с ним.
В марте 1910 г. Коба впервые приговорил члена партии к смерти. Группа типографов отказалась работать на подпольных печатных станках. Коба объявил, что в партию вкрались предатели, и требовал, чтобы одного из них, Николая Леонтьева, вызвали на собрание и убили. Леонтьев, однако, требовал, чтоб его судили, прежде чем казнить. Кровожадные партийцы остыли, и Леонтьев остался в живых.
Через короткое время Кобу снова арестовали. На допросе Коба отрицал все и опять потребовал амнистии. Он даже отрицал, что живет со Стефанией Петровской, которая уже призналась, что она – его гражданская жена. Жандармерия в Кутаисе, Тифлисе и Баку так долго разбирала показания и улики, доказывающие, что Коба в самом деле занимался антигосударственной деятельностью, что от пожизненной сибирской ссылки он был избавлен. (Наверное, был и подкуп, так как по крайней мере один бакинский жандарм, майор Зайцев, получал деньги от местных большевиков.) К тому же Коба взял у чахоточного соседа образчик мокроты, дал взятку тюремному врачу и просил у тюремного начальства разрешения на брак с Петровской. В итоге он получил очень мягкий приговор – пятилетний запрет на пребывание в Закавказье и перевод его, как «лица, вредного для общественного спокойствия», в Вологодскую губернию. Согласие на брак было выдано слишком поздно, в тот день, когда Кобу уже отправляли на север. Коба опять очутился в Сольвычегодске без знакомых, хотя пока ему не известный, но в будущем самый верный соратник Вячеслав Скрябин (Молотов) только что уехал оттуда в Вологду. Через несколько месяцев Коба сам переехал в Вологду, и там-то они встретились.
К 1910 г. Коба уже показал себя: он мог грабить, убивать, прошел через допросы, тюрьму, ссылку. Партия теперь считала его достаточно ценным товарищем, чтобы всячески опекать и беречь. Его избрали членом Центрального комитета, единственным, кто на тот момент находился в России, а не за границей. Коба начал переписку с Лениным: он обращал внимание товарищей на мнение рядовых партийцев, работающих в России, которые, хотя и предпочитали ленинскую тактику законопослушным идеям Льва Троцкого, все-таки не уважали партийное руководство, сидящее в парижских кафе и цюрихских библиотеках: «Пусть, мол, лезут на стенку сколько их душе угодно, а по-нашему, кому дороги интересы движения, тот работает, остальное приложится» (17).
Два раза в день к Кобе заходили жандармы. В Сольвычегодске его единственным утешением была квартирная хозяйка, Матрена Кузакова, которая к концу 1911 г. родила, возможно от Кобы, сына Константина. 6 июля 1911 г. Кобе разрешили переехать в Вологду под полицейский надзор: там он мог посещать общественную библиотеку, театр, читать газету с левым уклоном, переписываться с корреспондентами в России и за границей. Повторилась история с гражданским браком. В Вологде Коба познакомился с другим ссыльным, Петром Чижиковым. Во время своей ссылки в северном захолустном городе Тотьма Чижиков был помолвлен с гимназисткой Пелагеей (Полиной) Георгиевной Онуфриевой. В Вологде Чижиков был очень занят, а Онуфриева скучала, пока не сошлась с Кобой.
В разговорах с Онуфриевой Коба-вдовец часто упоминал свою жену: «Вы не представляете себе, какие красивые платья она шила!»
Он дарил ей книги с надписями вроде «Умной скверной Полине от чудака Иосифа» и писал умильные открытки: «Целую Вас ответно, да не просто целую, а горячо (просто целовать не стоит). Иосиф». Но у него появлялся и менторский тон: он объяснял ей, сколь важна в творчестве Шекспира «Буря». Этого можно было ожидать от Калибана, претендующего на место Просперо. Он описывал Полине картины Лувра. Уезжая тайком в Петербург, Иосиф взял с собой паспорт Чижикова, жениха Онуфриевой. Расставаясь, они обменялись подарками: она ему подарила нательный крест, он ей – картинки с полуобнаженными нимфами и целующимися парами (18).
Охранка сосредоточила внимание на Кобе: его решили пока не арестовывать, а просто следить за ним, чтобы узнать, где прячутся другие большевики. В октябре 1911 г. он выехал из Вологды – на этот раз, как ему казалось, навсегда. Кобу пустили в Петербург, где Орджоникидзе передал ему письмо от Ленина. За ним следили и при аресте так хорошо допросили, что он во многом признался, даже выдал настоящий год рождения. Но и тут охранка оплошала: записи на грузинском и немецком в записных книжках Кобы не были переведены. Отпуская его в Вологду с бесплатным билетом, ему разрешили жить в любой части государства, кроме Москвы и Петербурга. Находившееся в распоряжении охранки описание внешности Джугашвили было столь небрежным (без упоминания даже его оспин и высохшей руки), что повторный арест становился непростым делом.
Проявления такой мягкости в Баку или Тифлисе наводят на мысль о коррупции. Вообще решения об административном наказании революционеров принимались на самом высоком уровне – министром внутренних дел, иногда даже самим царем, но на основе докладов нижестоящих чинов. У этих служащих охранки и жандармерии, как и у тюремщиков, были разработанные тарифы взяток: брали от 50 руб. за сокрытие настоящей личности до 800 руб. за перемену места ссылки с Сибири на европейскую Россию. В Петербурге, однако, мягкость была частью обдуманной тактики: охранка перевербовывала человека в своего агента или хотела, чтобы другие революционеры думали, будто их товарищ стал агентом полиции.
У петербургских чиновников была еще более хитрая тактика. Например, известный Сергей Зубатов, глава особого отделения Департамента полиции в Москве, вводил своих агентов в ряды социал-демократов и эсеров. Было невыгодно просто подкупать или шантажировать революционеров, чтобы они стали агентами: даже хорошего шпика можно разоблачить, как разоблачили Романа Малиновского, будущего члена ЦК большевиков и лидера социал-демократов в Думе. Надо было вырабатывать более изощренный подход, например, поощрять и финансировать крайних и склонных к расколу революционеров, чтобы они создавали из объединенного левого фронта бесконечное число мелких беспомощных враждующих фракций.
Если Коба действительно сотрудничал с охранкой, можно приписать это сотрудничество не предательству, а признанию им того факта, что Министерство внутренних дел и социал-демократическое движение связывали, пусть временно, общие интересы. Некоторые громкие убийства, например грузинского христианского либерала и писателя Ильи Чавчавадзе в 1907 г. или премьер-министра Петра Столыпина в 1911 г., весьма вероятно, были совместными подвигами крайне правых в Министерстве внутренних дел и крайне левых среди революционеров, объединившихся против тех либералов, которые мешали обеим сторонам. Конечно, социал-демократов продолжали арестовывать и ссылать, но большей частью в тех случаях, когда они не подходили полиции ни как шпики, ни как союзники.
Коба жил в Вологде до февраля 1912 г.; за это время он укрепил перепиской свою дружбу с Вячеславом Молотовым. Он не казал носа из дому и зубрил немецкие глаголы. В Прагу на съезд партии он не поехал, но направил туда письмо, которое, по отзыву Крупской, показывало, что он «страшно оторван от всего, точно с неба свалился». В феврале он уехал в Москву, и о каждом его перемещении докладывали в полицию разные агенты, среди них Роман Малиновский, которого Коба тогда считал закадычным другом. В Петербурге Коба узнал, что на Пражской конференции он избран членом ЦК: вместе с Еленой Стасовой. С Орджоникидзе и Малиновским он входил в Русское бюро, которому предстояло исполнять решения партии, принятые за границей.
Весной 1912 г. в Петербурге Коба помогал организовать публикацию легальной партийной газеты «Правда». В мае Молотова назначили редактором, так что даже в отсутствие Сталина газета оставалась верной сталинской линии.
Власти раньше Сталина узнали о создании Русского бюро и быстро арестовали всех членов ЦК, оказавшихся на российской территории, кроме своего шпиона Малиновского и – вероятно, для правдоподобия – еще одного человека, Григория Петровского (19). Большевистская фракция стала партией в изгнании. На сей раз полиция работала профессионально: Кобу хорошо описали и составили досье в тысячу страниц (одних только обвинений было на шестьдесят страниц) (20). Приговор, однако, суровым не был. Кобу сослали в Нарым, в деревню на Оби, населенную несколькими сотнями жителей, к северу от Томска. Эрнест Озолинын, латышский социалист (21), ехал со Сталиным и другими арестантами. Никаких удобств в путешествии не было. По свидетельству Озолинына, Сталин выделялся ироническим издевательством, чувством собственного превосходства, агрессивностью, самоуверенностью. В сентябре 1912 г., протомившись целое лето в Нарыме, Коба уплыл оттуда на пароходе и недалеко от Томска нашел железнодорожника, который согласился его посадить на поезд, шедший в Центральную Россию.
Прошло целых два месяца, прежде чем жандармы внесли Сталина в список разыскиваемых. К тому времени Коба уже помогал большевикам организовывать предвыборную кампанию в IV Думу. Летом он поехал на Кавказ, где, возможно, помог Камо в организации нападения на почтовую карету. Осенью Коба вернулся в Петербург и своей помощью в предвыборной кампании сделал все, что нужно было охранке: шпиона Малиновского избрали членом Думы, где он защищал интересы и большевиков, и тайной полиции. Малиновский донес охранке о приезде Кобы, но оба беспрепятственно уехали в Краков (тогда в Австро-Венгрии) для встречи с Лениным. В Кракове Коба познакомился еще с одним ключевым деятелем – Григорием Зиновьевым, сыном молочника, уже десять лет изучавшим и преподававшим социалистические доктрины в Швейцарии.
Как только Малиновский и Коба пересекли австрийскую границу (к открытию Думы в Петербурге они опоздали), Ленин и Крупская заподозрили неладное и затребовали Кобу назад: «Как можно скорее гоните [его] вон, иначе не спасем, а он нужен и самое главное уже сделал». Но Сталин был уже в Петербурге, и паниковать было незачем. Малиновский выступал в Думе от имени большевиков так вяло и так уступчиво, что многие товарищи уже догадывались, что он агент полиции.
На Рождество Дума прервала заседания, и Коба опять уехал в Краков, на этот раз через Финляндию и Германию. В следующий раз он окажется за границей лишь спустя тридцать лет и в совсем другом качестве – в 1943 г. в Тегеране. Он жил на съемных квартирах в Кракове и Вене. Своей энергией он понравился Ленину: «У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” большую статью, собрав все австрийские и прочие материалы». Это был первый большой трактат Сталина, «Марксизм и национальный вопрос». Работа закрепила за Кобой статус марксиста-теоретика, что выразилось затем в назначении его наркомом по делам национальностей в первом советском правительстве. Он познакомился с еще двумя из своих будущих жертв – Львом Троцким и Николаем Бухариным.
Итак, к 1913 г. Сталин произвел впечатление, хорошее или плохое, почти на всех, кто будет участвовать в Октябрьской революции. Важнее всего было то, что, как и Дзержинский, он добился доверия Ленина (хотя тому трудновато было запомнить фамилию Джугашвили). В Кобе, как в Дзержинском, Ленин увидел товарища, который мог и хотел сделать все что угодно для партии и который, в отличие от Троцкого, Зиновьева, Каменева и Бухарина, никогда не оспаривал политику, тактику или нравственные принципы Ленина и всегда уступал более образованным товарищам. Тайна сталинского обаяния постепенно раскрывалась его поклонникам: чем ближе они знакомились с ним, тем больше они восхищались этим сочетанием напористой деятельности и хорошо скрываемого интеллекта. Он всех поражал своей варварской грубостью, якобы незнанием языков, но очень скоро товарищей ошеломляла его осведомленность, сила характера и способность быстро осваиваться в новой среде.
Пройдет еще десять лет, прежде чем Сталин, уже в качестве генерального секретаря, будет в состоянии сам решать не только кому льстить, за кем ухаживать, но и кого назначить, кого уволить. Но за четыре года до революции он уже встретил большую часть тех, кто сыграет решающую роль в его захвате власти, – кому-то он будет подражать, кому-то покровительствовать, кого-то погубит. Из тех, кто станет ему всего нужнее, в 1900 г. он познакомился с Михаилом Калининым и в 1905 г. – с Емельяном Ярославским, своим самым плодовитым пропагандистом. В 1906 г. он встретил Дзержинского, который обеспечит ему поддержку ОГПУ, и Клима Ворошилова, который подчинит армию сталинской воле и потом будет руководить массовым уничтожением офицерского состава. В 1907 г. Сталин приобрел верного соратника в лице Серго Орджоникидзе, а в 1908 г. свел знакомство с циничным юристом Вышинским. В 1910 г. Сталин покорил Вячеслава Молотова, отличавшегося собачьей преданностью. Единственным человеком, близким к Сталину во время революции, с которым он в подполье еще не столкнулся, был Лазарь Каганович.
К 1913 г. Сталин уже недолюбливал партийных теоретиков, соперников, которых он будет истреблять. В 1904 г. он встретил Каменева, в 1906-м – Рыкова, в 1912-м – Троцкого и Зиновьева, в 1913-м – Бухарина. Через двадцать лет они дорого поплатятся за то, что так высокомерно смотрели на Кобу.
Троцкому Сталин не понравился с первого взгляда: «Дверь внезапно распахнулась, без предупредительного стука на пороге появилась незнакомая мне фигура невысокого роста со смуглым отливом лица, на котором ясно видны были следы оспы». Коба, не поздоровавшись, налил себя чаю и молча вышел. Бухарин, который каждый день посещал ту квартиру в Вене, где жил Коба, испытывал к нему сложную смесь чувств – восхищение, привязанность, страх, доходящий до ужаса. Судя по письму (перлюстрированному охранкой) к некоей подруге, в буржуазной роскоши Вены Коба чувствовал себя не в своей тарелке. Несмотря на одобрение Ленина, русские интеллигенты в ссылке раздражали его. «Не с кем по душам поболтать». Встреча с тремя ближайшими соратниками Ленина – с Троцким, Зиновьевым и Бухариным – ударила по его самолюбию, и эту обиду он лелеял двадцать с лишним лет, пока не убил всех троих.
1913 г., год трехсотлетия династии Романовых, принес Кобе только позор и уныние. Для него наступил четырехлетний период безнадежного безделья. Все началось с того, что жандармский начальник Владимир Джунковский разоблачил Малиновского как агента охранки. Джунковский поступил так, может быть, не столько из высоких соображений (он, надо сказать, отказывался принимать доносы от учителей, священников или других непрофессионалов), сколько для нанесения точечного удара по левым депутатам, с тем чтобы их полностью деморализовать. Ленину трудно было поверить в предательство. Теперь большевики, казалось, превратились в нелепую горсточку обманутых интеллигентов, а их ЦК – в труппу марионеток в жандармском балагане. Хуже того, почти всех активистов-большевиков в России полиция сразу арестовала. Вообще же романовское торжество, экономический бум и новые либеральные законы приглушили недовольство пролетариата, что положило конец популярности большевиков.
Наконец, по мере того как Европа незаметно для себя приближалась к мировой войне, и в Германии, и в России социал-демократы становились партией уже не интернационалистов, а патриотов. Для них родина стала важнее, чем социализм. Революция была отложена на неопределенное время.
Еще до разоблачения Коба намекал Ленину, что Малиновский вставлял палки в колеса. В письме к заграничным большевикам Коба жаловался на «вакханалию» арестов. А в феврале вслед за Яковом Свердловым (первым главой будущего Советского государства) он был и сам арестован. Теперь его упекли на четыре года в самую глушь Сибири, в Туруханск, находящийся на пересечении Енисея и полярного круга. Оттуда Кобу отправили еще дальше, в маленькое поселение Мироедиха.
Партия предлагала Кобе деньги для побега, но отчаявшийся революционер даже не думал бежать. Правда, в то же время он начал подписываться «К. [Коба] Сталин» и вести себя соответственно новому псевдониму (22). В Мироедихе его возненавидели. До него там жил ссыльный Иосиф Дубровинский, который утонул в Енисее. Сталин вопреки революционному этикету присвоил себе библиотеку Дубровинского. Его перевели на 150 километров южнее, в деревню Костино, а потом на север в поселок Монастырское. Он скучал и тосковал больше, чем когда-либо в своей жизни. Он писал Зиновьеву, умоляя его прислать книги. Как ни странно, он писал и Малиновскому, как будто ничего не произошло, просил шестьдесят рублей, жалуясь на безденежье, на зловещий кашель и на то, что в Монастырском нет хлеба, мяса, керосина; единственной дармовой едой была енисейская рыба. В конце сентября, когда уже стало холодно, Сталин переехал в новое место неподалеку и жил там в одной избе со Свердловым. Туда наконец прислали деньги, но они предназначались для побега Свердлова. Жандармы перехватили письмо и вычли эту сумму из скудного содержания Свердлова и Сталина. Вскоре оба были сосланы еще дальше на север, в Курейку (там жило 67 человек в девяти домах). Оттуда Сталин снова умолял Малиновского выслать деньги.
Свердлову со Сталиным жить было солоно. Он писал жене: «Со своим товарищем мы не сошлись “характером” и почти не видимся, не ходим друг к другу… Товарищ, с которым мы были там, оказался в личном отношении таким, что мы не разговаривали и не виделись…» Тем историкам, которым внезапная смерть
Свердлова в 1919 г. кажется подозрительной, эти письма кое о чем говорят. Дело в том, что к Пасхе 1914 г. Сталин переселился в дом Перепрыгиных, где жило семь сирот. И надзиравшего за ссыльными жандарма Лалетина, и революционера Свердлова шокировало его дальнейшее поведение: он соблазнил тринадцатилетнюю Лидию Перепрыгину. У большевиков были либеральные стандарты морали, но сожительство с девочкой навевало ассоциации с крепостничеством, с помещичьими нравами. Лалетин захватил Кобу с поличным, и ему пришлось отбиваться саблей от взбешенного любовника. Дело пошло на лад, когда Сталин обещал жениться на Перепрыгиной по достижении ею совершеннолетия. По настоянию Сталина туруханский полицмейстер Иван Кибиров (осетин по происхождению) заменил Лалетина более уступчивым жандармом, Мерзляковым (23). Лидия все-таки забеременела дважды: первый ребенок умер, а второй, Александр, родился в 1917 г. Скрывая или, может быть, вовсе не зная фамилию отца, он дослужился до звания майора Красной армии (24).
Сожительство с несовершеннолетней доставило Сталину мало радости. Он много читал, учил языки. Писем почти не писал – разве что Зиновьеву, заказывая английские газеты, или Аллилуевым, надписывая открытки с приятным ландшафтом. Весной 1915 г. он поехал за двести километров вверх по еще не вскрывшейся реке в Монастырское, куда перевезли его друга, Сурена Спандаряна, страдавшего туберкулезом. С открытием водного пути в Монастырском появились еще пятеро ссыльных депутатов-большевиков, среди них знакомый Сталина по Тифлису Лев Каменев. Сталин мало участвовал в их дискуссиях, хотя было что обсудить, так как катастрофические поражения российской армии в Первой мировой войне вновь зажгли надежду в сердцах революционеров. Про этих разобщенных радикалов, из-за войны оторванных от своих вождей, которые прятались в Швейцарии, Коба писал: «[Они] немножечко похожи на мокрых куриц. Ну и “орлы”!» (25)
Компания скоро распалась: экс-депутатам и Каменеву разрешили поехать на юг в город Енисейск. Остальные ссыльные потеряли свою солидарность и начали обвинять друг друга в разных проступках: Свердлов обучал жандарма немецкому языку, Спандарян помог ограбить местный склад сахара. В результате Сталин проголосовал за бойкотирование Свердлова. После случившейся потасовки у Спандаряна началось сильное кровотечение, и через месяц он умер – как раз тогда, когда ему вышло помилование по состоянию здоровья. В последние месяцы ссылки Сталина почти никто не видел; вероятно, он сбежал сначала в Курейку, откуда его выпроводили, как только Лидия Перепрыгина снова забеременела, а потом в Енисейск.
К осени 1916 г. российская армия понесла такие большие потери на фронте, что власти начали призывать и административно-ссыльных. Даже тридцатисемилетнего Иосифа Джугашвили, невзирая на его физические дефекты, вызвали на призывной пункт в Красноярске. Впрочем, в феврале 1917 г. его признали негодным к военной службе. К тому времени самодержавный режим уже обваливался; политических ссыльных фактически никто уже не охранял и не задерживал. По Транссибу Сталин с Каменевым добрались до Ачинска. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола, Временное правительство пришло к власти в Петрограде, и старый режим пошел на слом. Министров арестовали, ссыльных и заключенных освободили. На собрании ссыльных в Ачинске Каменев послал телеграмму благодарности великому князю Михаилу за то, что тот вслед за старшим братом отрекся от престола: эту глупость Сталин никогда не давал Каменеву забыть.
12 марта Сталин, Каменев и другие бывшие ссыльные приехали в Петроград и начали конспиративную работу, подготавливая возвращение Ленина и захват власти. Первым делом они взяли в свои руки газету «Правда»; статьи набирали сами. Товарищи прощали Кобе грубость, суровость, несговорчивость в интересах предстоящей борьбы.
Одинокий садист
Король Шотландии Яков VI (в возрасте пятнадцати лет)[6]
- Невысказанная мысль не может вредить,
- А слов, раз сказанных, уж не вернуть.
- Поэтому старайся найти лучший способ
- Для исполнения задуманного.
До 1913 г. Сталин на Кавказе или в Вологде своим поведением, мышлением и нравственностью мало отличался от других революционеров. А вот в 1917 г. ожесточившийся отшельник уже не годился в коллеги или в товарищи: он должен был стать или бунтарем, или вождем. Равных себе он не выносил и признавал превосходство всего одного человека – Ленина. С некоторыми товарищами, например с Каменевым, он был на «ты», но на дружбу они не могли претендовать. После того как Като Сванидзе и Сурен Спандарян умерли, всякий человек, мужчина или женщина, который думал, что их связывала со Сталиным дружба или любовь, обманывался.
Уже несколько лет Сталин был сообщником в убийствах – покушениях на чиновников, отмщении за смерть революционеров; возможно, он даже предавал товарищей. Но в пору эйфории, когда из сибирской ссылки он вернулся в Петроград и уже чувствовал вкус власти, вряд ли он помышлял о том поголовном истреблении врагов и манипуляции товарищами, которыми он через десять лет займется. В 1917 г. его превращение в будущего диктатора было обусловлено не столько какой-то внутренней программой и не просто отсутствием у него совести, сколько вихрем революции, соблазнами власти, характером и слабостями его товарищей и подчиненных.
Во всех других отношениях циник, Сталин тем не менее исповедовал один постоянный идеал – ленинизм. С первых встреч с Лениным в 1906 и 1907 гг. до начала 1920-х гг., когда он стал опекуном, переводчиком и распорядителем при тяжелобольном вожде, Сталин смотрел на него, как ученик на Иисуса Христа. Можно трактовать Сталина как святого Павла, святого Петра, Фому неверующего или просто Иуду ленинской церкви, но все, что написано Лениным, оставалось для Сталина священным.
Эта доля искренности в мыслях Сталина видна в его переписке со стихоплетом-большевиком Демьяном Бедным (26). В 1920-х гг., когда Сталин еще не научился полностью обходиться без друзей, Демьян Бедный был одним из очень немногих собеседников, которые могли себе позволить свободно и без политесов выражать свои мысли в письмах к Сталину и даже рассчитывать на ответ в таком же тоне. Переписка 1924 г. между Сталиным в Кремле и Бедным в Ессентуках (27), как и сталинские пометки на полях книг, доносят до нас необдуманные неосторожные слова и помогают лучше понять личность Сталина:
Сталин – Демьяну Бедному, 15 июля 1924 г.
«…Я необыкновенный лентяй насчет писем и вообще переписки… Наша философия не “мировая скорбь”, нашу философию довольно метко передал американец Уитмен: “Мы живы. Кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил”».
Демьян Бедный – Сталину, 29 июля 1924 г.
«Родной, я не могу похвалиться, что знаю Вас “вдоль и поперек”. Да это, пожалуй, и неосуществимо. Чего бы Вы тогда стоили?
Но до какой-то, наивозможной степени “достижение Сталина” должно дойти… вы для меня “стержневой”, “осевой” друг…Если далеко заедете на Кавказ, то привезите мне кабардиночку».
Сталин – Демьяну Бедному, 27 августа 1924 г.
«Здравствуйте, друг, Вы совершенно правы, что знать человека вдоль и поперек невозможно… Но помочь Вам в этом отношении я всегда готов. [Затем следует десятистраничный машинописный трактат о том, как Ленин различал диктатуру пролетариата и диктатуру партии; трактат заканчивается следующими словами: ]…в отношении к пролетариату… партия не может быть диктаторской силой… Прошу это мое письмо не размножать, не кричать…»
Демьян Бедный оторопел от этого проявления сталинского менторства: «Родной! Вместо кабардиночки Вы огрели меня трактатом». Другие замечания Сталина – о том, как надо хитрить с оппозицией, нападая на их вождей, но ухаживая за рядовыми, чтобы покончить с фракциями и группировками, – не вызвали у Демьяна недоумения. В этом отношении они со Сталиным разделяли позицию:
«Если самые лучшие муж и жена круто заспорят, хотя бы распринципиально, спор может кончиться тем, что либо муж кого-то выебет, либо у него жену уебут. Я уверен, что мы с вами и от чужого не откажемся, и своего не упустим, а если упустим, так потому, что – “она блядь”, хотя бы и увешанная цитатами».
Переписка Бедного со Сталиным передает противоречивые черты сталинской мысли, грубой в тактике и выражениях, утонченной в исповедуемой идеологии.
Ту же двойственность можно проследить в отношениях Сталина с женами и детьми. С одной стороны, его поведение можно приписать грузинским и горским обычаям – жена ни в коем случае не должна унижать своего мужа перед обществом, обращаться с ним неуважительно или легкомысленно. Дети тоже, даже самые любимые, должны быть всегда почтительны, особенно в присутствии чужих. У грузин-горцев не принято, чтобы муж выказывал перед посторонними привязанность к жене и детям; когда опасность грозит всем, он не должен заботиться о спасении только собственных детей.
Даже по этим меркам Сталин был исключительно бесчувственным родителем. Только после заключения второго брака в 1917 г. он заинтересовался судьбой сына Якова, воспитание которого он передоверил почти с рождения своей невестке и Михаилу Монаселидзе. Когда в 1928 г. Яков попытался покончить с собой, Сталин приветствовал его словами: «Ха, промахнулся!» Яков сбежал к родителям мачехи, к Аллилуевым. Сталин написал Надежде Аллилуевой, своей второй жене: «Передай Яше от меня, что он поступил, как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не может быть больше ничего общего. Пусть живет, где хочет и с кем хочет» (28).
В 1941 г., спустя месяц после начала войны, Яков попал в плен. Сталин отказался от предложения посредника, графа Бернадота, вступить в переговоры о его освобождении. Более того, он отправил жену Якова в ГУЛАГ как жену дезертира, и, когда немцы напечатали фотографию Якова в своих листовках, Сталин попросил Долорес Ибаррури (знаменитую Пассионарию), главу испанских коммунистов, заслать тайных агентов в лагерь военнопленных, чтобы, вероятно, убить Якова. Через два года, однако, отчаявшийся Яков бросился на электрическую проволоку, где его прикончили немецкие пули.
Со своей дочерью Светланой, однако, Сталин сперва был ласков, даже игриво называл ее Хозяйкой, Сатанкой. Но как только она выросла и начала, не задумываясь о последствиях, влюбляться, он и ее разлюбил и редко допускал до себя.
Супружеская жизнь Сталина постоянно находилась на грани патологии. Его пытливый ум, интеллект педанта и самоучки, в сочетании с угрюмо-романтическим выражением лица, несомненно, привлекали женщин, особенно молодых и неопытных. Среди переписки Сталину в его личном архиве нередко встречаются послания от забытых возлюбленных: «Брат Сосо, я та, которая была сестрой, неразделимым другом твоей матери… в Сибирь посылала Вам разные посылки… как были в Сибири, помогали [матери]; за вами ухаживала очень красивая соседка Лиза – это я» (29). Первая жена, Като, вовсе не была безмолвной крестьянкой – ее воспитывали домашние учителя, ее брат учился в университете в Германии, но, насколько нам известно, она никогда не жаловалась на мужа и, как нормальная грузинская жена, не совалась в мужнины дела. Другие связи Сталина, с Онуфриевой, с Перепрыгиной, его второй брак с семнадцатилетней Аллилуевой не выявляют каких-либо ненормальных черт в его сексуальности, если не считать склонности к очень молодым девушкам.
Сталину нравилось обнаженное женское тело, о чем свидетельствуют собранные им почтовые открытки. Читая диалог Анатоля Франса о стыдливости, он подчеркивал красным карандашом замечание: «Немногие из [женщин] знают, как прекрасна нагота… Растение с гордостью показывает то, что человек скрывает» и написал на полях: «Оригинально весьма…» Через десять лет, еще раз овдовев, Сталин прочитал дневник, который вела жена Льва Толстого в 1910 г., в последний и самый несчастный год их столь сложной супружеской жизни. В ее записях Сталин находил много пищи для размышлений; в особенности он выделил запись Софьи Андреевны: «Трубецкие одни купались, муж с женой прямо в речке, поразили нас этим» (30).
Говорили, что Сталин изнасиловал Надежду Аллилуеву в поезде и поэтому должен был на ней жениться. Ходили даже слухи, что в Баку он переспал с ее матерью за девять месяцев до рождения Надежды. (Бурный темперамент Ольги Аллилуевой, тот факт, что она и Сталин жили в одном и том же городе в 1900 г., и внезапный разрыв между Сталиным и Надеждой в 1931 г. не подтверждают, но и не исключают такую возможность. Конечно, у Надежды Аллилуевой были другие достаточно веские причины, чтобы покончить с собой в 1932 г.)
Одержимый погоней за властью и подавлением любого сопротивления, в других сферах жизни Сталин мог казаться относительно нормальным. О сексуальной патологии не приходится говорить. Надежда два раза родила и, судя по медицинским архивам, у нее было десять абортов. После ее смерти, зная хорошо документированную сталинскую повседневную жизнь, мы можем сказать, что вряд ли вождь находил время для романов. Может быть, эпизодически роль наложницы играла экономка Валентина Истомина, и не одна балерина и оперная певица пишет в своих воспоминаниях, что была любовницей вождя в 1930-х или 1940-х гг. Как любовник Сталин почти наверняка был груб и невнимателен, но никакая теория сексопатологии не проливает свет на хладнокровный мстительный садизм Сталина.
Может быть, в его суровом быту мы найдем ключ к неумолимой концентрации Сталина на делах, к его неспособности смягчаться. В его окружении почти не было людей, которых он не был бы готов истребить, как почти не было вещей, которые бы он ценил. К его услугам были богатства половины мира, но он жил в плохо обставленных комнатах и спал на неуютных диванах. Гардероб его был скуден. Пусть не до такой степени аскет, как Гитлер, Сталин мало интересовался физическими удовольствиями. Еду он любил простую, не изысканную: главное, чтобы она не была отравлена. Он пил и курил умеренно, заставляя пьянствовать своих гостей; знаменитая трубка раскуривалась редко – она была бутафорией.
Сталин любил причинять боль, и это можно объяснить тем, что он сам никогда не был свободен от боли. Антигерой в повести «Записки из подполья» Достоевского говорит, что тот, кто страдает от зубной боли, хочет, чтобы и другие так же страдали. Эта логика применима к поведению Сталина. Мучения, которым он подвергал других, происходили от его собственных. Ему причиняли боль не только сросшиеся пальцы ноги, но и левая рука – она до того атрофировалась, что к пятидесяти годам он уже не мог удержать в ней чашку чая. Из сохранившихся материалов ежегодных медицинских обследований мы видим пожилого мужчину, страдающего от постоянной боли. В 1920-х гг. Сталин страдал ишиасом в обеих ногах и хронической миалгией, артритом и атрофией мускулов. После удаления аппендикса в 1926 г. его, вследствие раздражения кишечника, одолевали поносы, не позволявшие ему отходить далеко от туалета. Как и другие большевики, после тюрьмы он страдал туберкулезом, и, хотя болезнь отступила, поврежденное правое легкое прилипло к плевре. Голос его был слишком слаб, чтобы выступать без микрофона. К 1930 г. состояние его зубов было плачевным. В Сочи известный зубной врач, Яков Ефимович Шапиро, удалил ему целых восемь корней и поставил коронки на уцелевшие зубы (31). Он постоянно подвергался головокружениям, инфекциям кишечника и дыхательных путей; часто жаловался, особенно накануне своих долгих летних отпусков на юге, на симптомы душевного расстройства – измождение, раздражительность, ослабление внимания и памяти.