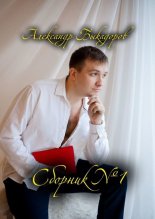Безмолвный пациент Михаэлидес Алекс

Alex Michaelides
THE SILENT PATIENT
© Alex Michaelides 2019
© Перевод на русский язык, О. Акопян, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Но отчего ж она молчит?
Еврипид «Алкеста»
Пролог
Из дневника Алисии Беренсон
14 июля
Не знаю, зачем я это пишу.
Впрочем, нет, пожалуй, знаю – просто не хочу себе признаваться. Даже не знаю, как назвать мое творение… Дневник? Слишком пафосно. Не то чтобы я собиралась рассказать нечто особенное. Одно дело – дневник Анны Франк[1]. Или дневник Сэмюэла Пипса[2]. Куда мне до них!.. Назвать свою писанину «журналом»? Слишком научно. Тогда придется вести его ежедневно, чего делать совсем не хочется: если это превратится в нудную обязанность, я все брошу.
Может быть, назову это «ничто». Пусть будет просто текст, который я время от времени стану дополнять. Так-то лучше. Стоит дать чему-то название, и вы сразу перестаете видеть картину целиком или понимать, почему это важно. Вы упираетесь в само слово. А ведь название – лишь крошечная часть явления, верхушка айсберга. Лично мне среди слов неуютно. Я всегда мыслю образами, мой стиль самовыражения – картины. Начать писать это я решилась исключительно ради Габриэля.
С недавних пор я затосковала. Причин тому несколько. Я думала, что умело скрываю свое состояние, но он заметил. Конечно, заметил! От Габриэля ничего не скроется. Он спросил, как продвигается работа над картиной. Я ответила, что никак. Габриэль вручил мне бокал вина. Я уселась за столом на кухне, пока он готовил.
Обожаю смотреть, как Габриэль управляется на кухне. Его движения полны изящества: элегантны и собранны, как у балетного танцовщика. Не то что я – у меня все превращается в беспорядок.
– Поговори со мной, – попросил Габриэль.
– Что тут говорить? Иногда я просто застреваю в собственной голове. Ощущение, что я пробираюсь через грязь.
– А ты записывай свои мысли. Начни вести что-то вроде дневника. В этом может быть польза.
– Наверное, ты прав… Надо попробовать.
– Это все рассуждения, дорогая. Просто возьми и сделай.
– Сделаю.
Габриэль продолжал ворчать по этому поводу, но я так и не начала вести записи. И тогда несколько дней спустя он подарил мне небольшую книжечку в черном кожаном переплете с чистыми белыми листами из плотной бумаги. Я провела пальцами по первой странице (бумага оказалась приятная и гладкая на ощупь), заточила карандаш и начала писать.
Естественно, Габриэль оказался прав. Мне уже легче. Перенос мыслей на бумагу – это своего рода отдушина, освобождение; тетрадь – место для выражения себя. Немного похоже на психотерапию. Хоть Габриэль ничего не говорит, я догадываюсь, что он беспокоится о моем состоянии. А если начистоту (думаю, я могу себе это позволить), настоящая причина, по которой я все-таки решилась вести дневник, – желание убедить Габриэля, доказать ему, что со мной все в порядке. Не могу допустить, чтобы он переживал. Не хочу, чтобы волновался, страдал или мучился из-за меня. Я очень люблю Габриэля. Несомненно, он мужчина всей моей жизни. Я люблю его так сильно, так сильно, что это меня пугает.
Иногда мне кажется… Нет. Такое я писать не стану. Здесь будут только позитивные идеи и образы – лишь то, что вдохновляет меня как художника и является толчком для творчества. Тут появятся исключительно радостные, счастливые, нормальные мысли… И никакого безумия.
Часть I
Тому, кто обладает зрением и слухом, ясно, что ни один смертный не способен хранить секреты. Пусть на губах печать молчания, нервно пляшущие пальцы красноречивее слов: тайну предательски выдаст тело.
Зигмунд Фрейд«Вводные лекции в психоанализ»
1
Алисии Беренсон было тридцать три, когда она убила своего мужа.
Они провели в браке семь лет. Оба связали свою жизнь с искусством – Алисия писала картины, а Габриэль был преуспевающим фотографом в сфере моды. В неподражаемом авторском стиле он запечатлевал полуголых анорексичных девушек в самых странных и невыгодных ракурсах. После смерти Габриэля цена на его работы подскочила до астрономических сумм.
Честно говоря, я назвал бы эти снимки пустыми. Никакого сравнения с лучшими работами Алисии – в них ощущается настоящий дар. Я, конечно, не эксперт в живописи, чтобы сказать, выдержат ли ее картины испытание временем. Жуткий поступок Алисии всегда будет бросать мрачную тень на ее талантливые творения, поэтому в данном случае трудно быть объективным. Кроме того, вы можете обвинить меня в предвзятости. Это мое мнение, и только. Я считаю Алисию гениальной художницей. Помимо безупречной техники рисунка, ее картины обладают совершенно фантастической способностью сразу захватывать все внимание зрителя – прямо-таки брать за горло! – как в тиски.
Габриэля Беренсона убили шесть лет назад. Ему было сорок четыре. Это произошло двадцать пятого августа. То лето выдалось необычайно жарким – возможно, вы помните, столбик термометра порой достигал рекордно высоких отметок. А день убийства Габриэля Беренсона оказался самым жарким за весь год.
В тот роковой день Габриэль проснулся очень рано. В четверть шестого утра к их с Алисией дому на северо-западе Лондона в районе Хэмпстед-Хит подъехала машина, которая повезла его на съемку в Шордич[3]. Габриэль провел целый день на крыше здания, фотографируя моделей для журнала «Вог».
О том, что в это время делала его супруга, известно немного. У Алисии вскоре должна была состояться выставка, и она не успевала закончить одну из картин к открытию. Наиболее вероятно, что в тот день Алисия работала в расположенном в глубине сада летнем домике, который недавно переделала под мастерскую. Съемка затянулась, и водитель привез Габриэля домой около одиннадцати вечера.
Примерно полчаса спустя живущая по соседству Барби Хеллман услышала несколько выстрелов. Она позвонила в полицию, и в 23:35 туда с участка Хаверсток-Хилл был направлен дежурный наряд. Через три минуты полицейские приехали на место вызова.
Входная дверь в дом была открыта настежь, внутри зияла кромешная темнота. Выключатели не работали. Офицеры вошли в холл, а затем проследовали в гостиную. Они пользовались карманными фонариками, освещая комнату прыгающими лучами. Наткнулись на Алисию, стоявшую у камина. Белое платье светилось, как у привидения. Казалось, ее совершенно не заботило присутствие полицейских. Молодая женщина стояла неподвижно, застыв, как вырезанная из куска льда статуя, со странной гримасой испуга на лице, будто столкнулась с невиданным ужасом.
На полу валялась винтовка. Чуть дальше в неоднородных тенях гостиной полицейские обнаружили неподвижно сидевшего на стуле Габриэля, привязанного к стулу; его щиколотки и запястья были крепко связаны прочным шнуром. Поначалу офицеры подумали, что он еще жив. Его голова свесилась набок, словно он был без сознания. Подняв луч фонарика, полицейские увидели, что Габриэль был убит несколькими выстрелами прямо в лицо. Пули навсегда уничтожили его красивые черты, оставив обожженное, черное, кровавое месиво. Стена позади головы убитого была покрыта разлетевшимися фрагментами черепных костей и мозга, клочьями волос – и кровью.
Кровь была повсюду: разбрызгалась на стенах, растеклась темными ручейками вдоль прожилок деревянных половиц. Офицеры полиции пришли к выводу, что кровь принадлежала Габриэлю. Однако ее было слишком много. Внезапно в свете фонаря блеснул какой-то предмет – на полу возле ног Алисии лежал нож. Второй луч высветил кровь, забрызгавшую ее белое платье. Один из офицеров взял Алисию за руки и направил на них фонарь – оба запястья распороли глубокие порезы, свежие и сильно кровоточащие.
Алисия сопротивлялась попыткам остановить кровотечение. Утихомирить ее удалось лишь силами троих полицейских. Спустя всего несколько минут Алисию увезли в Королевскую клиническую больницу. Она рухнула, потеряв сознание по пути. Потеряла много крови, но выжила.
На следующий день в отдельной палате полицейские пытались задавать вопросы в присутствии адвоката Алисии, однако молодая женщина не проронила ни слова. Ее губы были белые, бескровные. Иногда они вроде бы начинали двигаться, но с них не слетело ни звука. Алисия не ответила ни на один вопрос. Она не могла и, видимо, не желала говорить. И никак не среагировала даже на обвинение в убийстве Габриэля. Во время ареста Алисия по-прежнему молчала, не признавая и не отрицая свою вину.
С тех пор Алисия так и не заговорила.
Безмолвие главной подозреваемой превратило убийство Габриэля из обычного преступления на бытовой почве в нечто гораздо большее – в загадочную трагедию, в тайну, которая мгновенно сделалась сенсацией и заняла умы широкой общественности на месяцы.
И все же Алисия сделала одно заявление – посредством картины. Художница начала работу над полотном после того, как ее выписали из больницы и поместили до суда под домашний арест. Кроме того, суд счел необходимым приставить к Алисии сиделку, специализирующуюся на уходе за душевнобольными. По сообщениям сиделки, ее подопечная едва ела, практически не спала и почти безостановочно рисовала.
Обычно проходили недели и даже месяцы перед тем, как Алисия бралась писать новую картину. Она долго топталась на подготовительной стадии – рисовала бесконечные эскизы, создавала и переделывала композицию, пробовала разные варианты цветовых решений и форм, – пока на полотно не ложился последний мазок. Однако в этот раз она резко изменила творческий процесс, завершив полотно всего за нескольких дней.
Для большинства людей этого было достаточно, чтобы осудить ее. Каким надо быть бессердечным человеком, чтобы спокойно вернуться в мастерскую сразу после гибели супруга! И не мучиться угрызениями совести! Алисия Беренсон – хладнокровная убийца!
Возможно. Однако не стоит упускать из виду одну немаловажную деталь: даже если Алисия и убийца, она еще и художник. И тогда все встает на свои места (по крайней мере, для меня). Алисия хватается за кисти и краски и переносит на холст терзающие душу чувства и переживания. Неудивительно, что на сей раз живопись приходит к ней с такой легкостью. Если горе можно назвать «легким»…
Картина представляла собой автопортрет. В левом нижнем углу Алисия нанесла на холст название светло-голубыми греческими буквами.
Всего одно слово: «Алкеста».
2
Алкеста – героиня греческой мифологии. С ней связана одна из самых печальных историй любви. Алкеста добровольно отдала свою жизнь ради супруга, Адмета, согласившись умереть вместо него, поскольку все остальные отказались. Казалось бы, какое отношение трогательная легенда о самопожертвовании имеет к Алисии? Истинное значение намека долгое время оставалось неясным и для меня. Но однажды правда вышла наружу…
Впрочем, я слишком тороплюсь и забегаю вперед. Начну с самого начала, и пусть события говорят сами за себя. Я не стану ничего приукрашивать, менять местами или перевирать. Пусть то, что случилось, предстанет перед вами постепенно, шаг за шагом.
С чего начать? Наверное, мне следовало бы представиться… Но нет, пожалуй, пока останусь в тени. Ведь рассказ не про меня. Главная героиня истории – Алисия Беренсон. Вот и начнем с нее. И с «Алкесты».
Картина, написанная Алисией сразу после убийства Габриэля, – это автопортрет. Художница изобразила себя дома, в своей студии, стоящей у мольберта с кистью. Алисия обнажена. Ее тело прорисовано в мельчайших деталях: по худощавым плечам рассыпались длинные пряди рыжих волос, сквозь бледную кожу просвечивают голубоватые вены, на обоих запястьях свежие шрамы от недавних порезов. В одной руке Алисия держит кисть, зажав ее между пальцами. С кончика кисти капает алая краска – или кровь? Алисия изобразила себя пишущей картину, и тем не менее холст нетронут. Он пуст, как и выражение ее лица. Алисия смотрит на зрителя через плечо, повернув голову назад. Губы разомкнуты, словно в беззвучном крике.
Пока шли судебные заседания, Жан-Феликс Мартен, управляющий небольшой галереей в Сохо, где выставлялись работы Алисии, принял неоднозначное решение показать «Алкесту». Это вызвало осуждение. Одни потом называли его поступок сенсационным, другие – чудовищным. Зато факт, что автор картины находилась в тот момент на скамье подсудимых по обвинению в убийстве собственного мужа, обеспечил галерее Мартена огромные очереди – впервые за всю историю ее существования.
Стоя рядом с другими такими же ценителями искусства, я терпеливо ждал. Над нами ярко горели красные неоновые огни вывески магазина интимных товаров, находящегося по соседству от галереи. Очередь двигалась медленно, люди по одному осторожно заходили внутрь. Оказавшись в самой галерее, посетители, словно под гипнозом, шли в едином направлении, как возбужденная толпа на ярмарочной площадке, пробивающаяся через дом с привидениями. Наконец подошла моя очередь, и передо мной предстала «Алкеста».
Я уставился на картину. Смотрел в глаза Алисии, пытаясь угадать, почему у нее такой взгляд, пытаясь что-то понять, – но ничего не получалось. Портрет «молчал». Алисия безмолвно взирала на меня с холста. Пустая маска – непроницаемая и не поддающаяся прочтению. Как я ни силился, так и не смог определить по выражению лица, виновна она или нет.
Другие решили, что им это удалось.
– Настоящая злодейка, – прошипела женщина, стоявшая позади меня.
– Еще бы, – ответил ей мужчина. – Хладнокровная стерва.
«Ого! Категорично», – пронеслось у меня в голове. Ведь вина Алисии еще не доказана. Но благодаря усилиям желтой прессы общественное мнение было уже сформировано. Журналисты с самого начала повесили на Алисию ярлык злодейки: роковая женщина, «черная вдова», чудовище.
Факты же были просты. Полицейские застали Алисию в доме одну, с телом Габриэля. На винтовке обнаружены только ее отпечатки. Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения – мужа застрелила именно Алисия. Зато вопрос,почему она это сделала, оставался без ответа.
Убийство Габриэля активно обсуждали в масс-медиа. В газетах, по телевидению и на радио были выдвинуты самые разные теории на этот счет. Приглашенные специалисты обвиняли, оправдывали, объясняли. Она наверняка должна была стать жертвой бытового насилия со стороны мужа, чтобы ситуация зашла так далеко. Согласно другой теории, убийство – результат неосторожности в ходе сексуальных игр супругов, ведь Габриэля обнаружили со связанными руками и ногами. Кто-то подозревал, что это самое обыкновенное убийство на почве ревности. Скорее всего, Габриэль завел любовницу. Однако на суде брат охарактеризовал убитого как преданного мужа, по-настоящему любящего жену. Тогда, возможно, мотивом послужили деньги? Но Алисия мало что выигрывала в результате смерти мужа. Она была обеспеченной женщиной, унаследовав большое состояние своего отца.
Так и продолжались бесконечные пересуды об убийстве Габриэля и последующем молчании Алисии. Ответы не находились, становилось лишь больше вопросов. Почему она отказывается говорить? И что это значит? А может, она пытается что-то скрыть? Или защитить кого-то? Если да, то кого? И почему?
Помню, я тогда поймал себя на мысли: в то время как все говорили, писали и спорили об Алисии, в эпицентре этого шумного и неистового вихря оставалась пустота – тишина. Вакуум. Загадка. На одном из заседаний судья Алверстоун довольно критично высказался об упорном отказе подсудимой говорить.
– Невиновные люди не стесняются открыто заявить о своей невиновности! – произнес он.
Однако Алисия Беренсон не только продолжала молчать, но и не выказала ни единого признака раскаяния. Из ее глаз не упало ни слезинки – этому факту журналисты придали особенное значение. Ее лицо было неподвижным, холодным, застывшим.
Представитель защиты решил пойти по единственно возможному пути и объявил о частичной вменяемости подсудимой. Он сказал, что проблемы с душевным здоровьем начались у Алисии очень давно, еще в детстве. Основную массу этих сведений судья Алверстоун отклонил как неподтвержденные. Однако под конец заседания профессору Лазарусу Диомидису удалось несколько поколебать категоричность судьи Алверстоуна. Лазарус Диомидис был профессором судебной психиатрии в Королевском колледже, а также занимал должность руководителя клинических исследований в Гроуве – охраняемой психиатрической больнице на севере Лондона. Так вот, он утверждал, что молчание Алисии является красноречивым свидетельством перенесенного сильнейшего стресса и это необходимо учесть при вынесении приговора. Если отставить витиеватые выражения, то фактически профессор высказал то, о чем психиатры очень не любят говорить прямо и открыто, а именно:Алисия душевно больна.
Это казалось единственным логичным объяснением всего случившегося. Иначе зачем ей связывать любимого супруга и стрелять ему в лицо в упор? И чтобы после такого не было раскаяния и объяснений? Она вообще не говорит. Сумасшедшая, не иначе.
В конце концов судья Алверстоун объявил, что принимает заявление защиты, и обратился к присяжным, чтобы это обстоятельство было ими учтено.
Было решено перевезти Алисию Беренсон в Гроув – под наблюдение профессора Диомидиса, заявление которого сыграло ключевую роль в решении суда. С другой стороны, если Алисия находилась в здравом уме и ее молчание было лишь умелым притворством, надо признать – хитрость удалась. Алисию приговорили к длительному тюремному заключению, однако в случае восстановления душевного здоровья через несколько лет ее могли бы досрочно освободить. И вот как раз сейчас Алисии бы самое время начинать «выздоравливать», верно? Пробормотать пару слов, сначала невнятно, потом еще и еще… Затем через силу выдавить слова раскаяния…
Ничего подобного! Шли недели, месяцы сменяли друг друга, минуло несколько лет – Алисия по-прежнему хранила молчание. Она не произнесла ни единого слова. Поскольку не последовало никаких откровений, постепенно интерес разочарованных журналистов к Алисии Беренсон иссяк. Для публики она стала очередной строчкой в длинном списке некогда известных преступников. Одной из тех, чьи лица большинство людей еще могут вспомнить, но имя уже забудут.
Большинство людей, однако не все. Некоторых, и меня в том числе, продолжало волновать загадочное дело молчаливой Алисии Беренсон. Как психотерапевт я не сомневаюсь, что во время убийства Габриэля ей пришлось перенести какую-то чудовищную душевную травму. И отказ говорить стал проявлением пережитого глубокого потрясения. Она не сумела свыкнуться с мыслью о совершенном ею убийстве, дрогнула и остановилась, будто сломанный автомобиль. Я мечтал помочь «запустить» ее снова, помочь ей рассказать свою историю, принять лечение и поправиться. Я хотел «починить» ее. Наверное, это прозвучит несколько самонадеянно, но я считал себя исключительно квалифицированным специалистом, способным помочь Алисии Беренсон. Я судебный психотерапевт и частенько имею дело с самыми надломленными и уязвимыми членами общества. И еще: кое-что в истории Алисии задело меня за живое. С самого начала я испытывал к ней искреннее сочувствие. К несчастью, в те дни я работал в Бродмуре[4], и мысли о работе с Алисией так и остались бы лишь мечтами, если бы в дело неожиданно не вмешалась судьба.
Лет через шесть после того, как Алисию поместили в Гроув, там открылась вакансия судебного психотерапевта. Увидев объявление, я сразу понял, что у меня нет выбора. Повинуясь интуиции, я отправил резюме в Гроув.
3
Я – Тео Фабер. Мне сорок два года. Судебным психотерапевтом я стал из-за того, что крупно облажался. И это чистая правда, хотя, конечно же, это не то, о чем я говорил на собеседовании.
– Что привело вас в психотерапию? – спросила Индира Шарма, буравя меня взглядом поверх массивных очков.
Индира работала в Гроуве консультирующим психотерапевтом. Хотя ей было сильно за пятьдесят, круглое лицо еще сохраняло привлекательность, а в длинных угольно-черных волосах лишь изредка проблескивало серебро. Индира слегка улыбнулась, давая понять, что этот вопрос не из разряда сложных – лишь формальный разогрев перед настоящей беседой.
Я медлил с ответом, физически ощущая на себе пристальные взгляды остальных членов комиссии. Старательно глядя им в глаза, я протараторил заранее приготовленный ответ: милую сказочку про то, как в юности подрабатывал в доме для престарелых и как это разожгло во мне интерес к психологии. Затем – аспирантура по специальности психотерапия, и пошло-поехало.
– Думаю, я просто хотел помогать людям, – пожимая плечами, заключил я.
Что было откровенной чушью.
Нет, я, конечно, хотел помогать людям. Однако это было второй моей целью, особенно когда я начал посещать практические занятия. Настоящая причина, по которой я ввязался в психотерапию, была сугубо эгоистическая. Я хотел помочь самому себе. Уверен, большинство из тех, кто связал свою жизнь с лечением душевнобольных, пришли в профессию примерно так же. Она притягивает нас потому, что мы сами надломлены. И тогда изучение психологии становится попыткой излечить себя. Осознанной или неосознанной попыткой – это уже другой вопрос.
Самый ранний период развития человечества скрыт во тьме веков. Многие думают, что люди возникли из некоего первородного тумана полноценно сформированными личностями, подобно Афродите, вышедшей во всей красе из пены морской. Однако благодаря активно развивающимся исследованиям деятельности головного мозга мы знаем, что это далеко не так.
Мы рождаемся с наполовину сформированным мозгом, который представляет собой скорее комок глины, а не бога-олимпийца. Как сказал психоаналитик Дональд Уинникотт: «Отдельного понятия “младенец” не существует». Развитие человеческой личности происходит не в изоляции, а только в процессе взаимодействия друг с другом. Нас формируют и заканчивают этот процесс невидимые силы, которые мы не запоминаем, – наши родители. Страшновато, правда? Кто знает, каким унижениям и наказаниям мы подвергались в то время, когда память еще не сформировалась? Наша личность уже была сформирована, а мы даже не знали об этом.
Я рос нервным, легко возбудимым и пугливым ребенком. Повышенная тревожность появилась еще до того, как я осознал себя как личность, и совершенно от меня не зависела. Подозреваю, что источник этой психологической неустойчивости крылся в моих отношениях с отцом, рядом с которым я никогда не был в безопасности.
Случавшиеся у отца непредсказуемые, произвольные припадки сильнейшей ярости превращали любую, даже самую благоприятную ситуацию в минное поле. Самая безобидная фраза или выражение малейшего несогласия могли спровоцировать целый ряд «взрывов» агрессии, спастись от которых было невозможно. Стены дома буквально сотрясались от его крика, пока он гнался за мной на второй этаж. Влетев в свою комнату, я проскальзывал подальше под кровать и изо всех сил прижимался к стене. Вдыхал пыльный воздух и молился, чтобы меня поглотила кирпичная кладка и я мог исчезнуть. В следующее мгновение отцовская рука крепко хватала меня и выволакивала из-под кровати, возвращая к реальности. Он срывал с себя ремень и замахивался. Ремень со свистом рассекал воздух, а дальше один за другим на меня сыпались жгучие косые удары, обжигая мне тело. Порка заканчивалась так же внезапно, как и начиналась. Отец отшвыривал меня прочь, и я валился на пол мятой кучей, словно тряпичная кукла, брошенная злым ребенком.
Я никогда не был уверен, что такого сделал, чтобы вызвать весь этот гнев, и заслуживал ли я наказания. Однажды я спросил маму, почему папа так часто на меня злится. В ответ она лишь пожала плечами и грустно проговорила: «Откуда я знаю? Твой отец – законченный псих». Говоря так, мама не шутила. Если б моего отца сейчас обследовал психиатр, то наверняка диагностировал бы у него расстройство личности. Отец страдал от этой болезни всю жизнь, но никто его не лечил. В результате мои детские и юношеские годы прошли в мрачной атмосфере истерии и физического насилия: ругани, слез и битого стекла.
Конечно, были и счастливые моменты. Чаще всего – когда отца не было дома. Помню, как-то зимой он на месяц уехал в командировку в Америку. И на целых тридцать дней дом и сад оказались в нашем с мамой полном распоряжении, без него и его бдительных взглядов. Декабрь в Лондоне выдался снежный, и весь сад скрылся под чистейшим белым покрывалом. Мы с мамой слепили снеговика. Уж не знаю, осознанно или нет, но мы сделали его похожим на отсутствующего главу дома – с огромным животом, двумя черными камешками вместо глаз и парой веточек, напоминавших грозно сдвинутые брови. Я назвал снеговика «Папа», и он действительно здорово смахивал на отца. В довершение иллюзии мы с мамой снабдили снеговика папиными перчатками, шляпой и зонтом. А потом от души бомбардировали его снежками, хихикая, словно расшалившиеся дети.
В ту ночь разыгралась сильная снежная буря. Мама подошла к моей кровати, я притворился, что уже сплю, а потом выскользнул из дома в сад и долго стоял под падающим снегом. Вытянув руки, я ловил падающие снежинки и смотрел, как они медленно тают на кончиках пальцев. Я радовался и грустил одновременно – и, по правде говоря, не мог выразить это словами. Мой словарный запас был слишком мал, чтобы пойматьэто сетью из слов. Наверное, ловить исчезающие снежинки – это как ловить счастье, когда овладение в итоге ничего тебе не дает. Это напомнило мне, что там, за пределами родительского дома, целый мир: огромный, непередаваемо красивый мир. Мир, который пока для меня недоступен. Снежная ночь в саду вставала перед моим мысленным взором еще много лет. Как если б невзгоды, которыми та жизнь была окружена, заставляли этот миг свободы гореть еще ярче – будто крохотный огонек посреди беспросветного мрака.
Я пришел к выводу, что единственный шанс выжить – побег. И в физическом, и в духовном смысле. Надо убираться отсюда, чем дальше – тем лучше. Только так я смогу быть в безопасности. И вот мне стукнуло восемнадцать, я получил достаточные отметки и стал студентом. Без сожалений простившись с отчим домом в Суррее, я наивно полагал, что вырвался на свободу.
Как же я ошибался! Тогда я еще не знал этого, но было уже поздно: образ отца прочно засел внутри меня. Я внедрил его в себя, спрятав в области бессознательного. Куда бы я ни бежал, я нес его с собой. В голове звучал адский, неумолимый хор из размноженных голосов отца:«Бестолочь! Позор! Ничтожество!»
Во время экзаменационной сессии на первом курсе голоса стали настолько парализующими и громкими, что уже контролировали меня. Обездвиженный этим страхом, я был не в состоянии выйти на улицу, общаться, заводить знакомства. С тем же успехом я мог бы и не уезжать из дома. Я очутился в ловушке, угодил в патовую ситуацию без какой-либо надежды на спасение. Выхода не было.
Неожиданно подвернулось одно решение.
Я ходил из аптеки в аптеку, скупая парацетамол. Брал всего по несколько упаковок за раз, чтобы не вызвать подозрения. Впрочем, я напрасно тревожился. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Наверное, я стал человеком-невидимкой. К слову сказать, именно так я себя и ощущал в то время.
В моей комнате было холодно. Дрожащими, неловкими пальцами я вскрыл упаковки парацетамола и, прикладывая неимоверные усилия, заставил себя проглотить их все. Я добился своего, и постепенно все они, одна за другой, очутились в моем желудке. Затем я улегся в свою узкую неудобную кровать, закрыл глаза и стал ждать смерти… Но она не пришла. Вместо этого нутро мое пронзила жгучая, выворачивающая боль. И тут меня, сложившегося пополам, вывернуло желчью вперемешку с полурастворившимися таблетками. Я лежал в темноте, весь в блевотине, с полыхающим от боли желудком.
Казалось, прошла целая вечность. А потом я кое-что понял: на самом деле я не хотел умирать! Еще нет, ведь я и пожить толком не успел. Эта мысль вселила надежду, призрачную и неопределенную. Это подтолкнуло меня к осознанию, что в одиночку я не справлюсь. Мне нужна была помощь.
И я ее получил. В лице Рут, психотерапевта, к которому меня направила университетская служба консультаций. Рут, седая и пухлая, внешне напоминала милую бабушку. У нее была приятная улыбка, которой хотелось верить. Сначала Рут больше молчала: она слушала, а я говорил. Рассказывал ей про свой дом, про детство, про родителей. В ходе монолога я невольно отметил, что каких бы неприятных деталей ни касался, меня это вообще не задевало. Я был отрезан от эмоций, словно кисть, отрубленная от руки. Я говорил о болезненных воспоминаниях и суицидальных порывах, но при этом ничего не ощущал.
В какой-то момент я посмотрел на Рут и с удивлением заметил, что у нее в глазах стоят слезы. Возможно, то, что я сейчас скажу, трудно понять, но это были не ее слезы, а мои. Тогда я, конечно, не понял этого. Но именно так и работает психотерапия. Пациент перекладывает свои невыносимые переживания на психотерапевта. Врач принимает на свои плечи бремя того, что пациент боится ощущать, и переживает эти моменты вместо него. А потом, буквально по чайной ложечке, психотерапевт начинает возвращать пациенту его же чувства. И Рут потихонечку возвращала их мне.
Наши встречи длились несколько лет. Я и Рут. Она оставалась постоянной величиной в моей жизни. С помощью Рут я усвоил новый тип отношений с другим человеком: основанный на взаимном уважении, честности и доброте, а не на взаимных упреках, злобе и насилии. Медленно, но верно я начал по-другому воспринимать себя. Я уже не чувствовал себя таким опустошенным. Я стал испытывать больше эмоций. И почти перестал бояться. Ненавистный хор все это время жил в моей голове, однако теперь я мог противопоставить ему голос Рут и постепенно стал меньше обращать на это внимания. И тогда жуткие голоса стали затихать, а порой и совсем пропадали. В такие моменты на меня снисходило невероятное умиротворение, почти счастье.
Сеансы психотерапии в прямом смысле спасли мне жизнь. И, что более важно, сделали ее лучше. Лечение с помощью беседы оказало на меня самое глубокое влияние. Фактически сеансы психотерапии определили мой дальнейший путь. Я увидел свое призвание.
По окончании университета я стал обучаться психотерапии в Лондоне, параллельно продолжая ходить к Рут. Она поддержала и ободрила меня, хотя и не преминула предостеречь, чтобы у меня не было заблуждений относительно выбранного пути. «Это не прогулка по парку», – сказала Рут. Действительно, работа с пациентами, копание в их «грязном белье» – такую работу язык не повернется назвать приятной.
Помню свой первый визит в психиатрическую лечебницу для преступников. Не успел я толком начать беседу, как мой пациент спустил штаны, присел прямо напротив меня и опорожнил кишечник. Просто уселся и навалил вонючую кучу. Потом было еще много случаев, не таких тошнотворных, но не менее драматичных – спонтанные и неудачные попытки убить себя или нанести себе травму, неконтролируемая истерия и горе. Возникало ощущение, что это больше, чем я могу вынести. Тем не менее каким-то волшебным образом мои внутренние резервы все не истощались. Постепенно мне стало легче.
Удивительно, как человек может привыкнуть к специфическому миру психиатрической лечебницы. Со временем перестает пугать сумасшествие, причем не только чужое, но и собственное. Уверен, все мы чокнутые, только каждый по-своему.
Вот почему – и как – я на самом деле связан с Алисией Беренсон. Я – один из тех, кому повезло. Благодаря грамотному и достаточно раннему вмешательству психотерапевта я сумел отойти от того края, за которым начинается мрак безумия. Я понимал, что все могло сложиться иначе: я мог сойти с ума и прозябать в закрытом спецучреждении, как Алисия Беренсон. И лишь по божьей милости мы с ней по разные стороны баррикад…
Естественно, я не мог сказать ничего из этого Индире Шарме в ответ на вопрос, почему выбрал профессию психотерапевта. В конце концов, это было собеседование при приеме на работу, и я прекрасно знал правила игры.
– А вообще, – произнес я вслух, – вне зависимости от причины, по которой человек пришел в профессию, настоящим психотерапевтом можно стать лишь благодаря практике.
– Вы совершенно правы, – понимающе закивала Индира. – Верно подмечено.
Собеседование прошло успешно. По словам Индиры, годы работы в Бродмуре дали мне хорошую профессиональную закалку, которая доказывает, что я способен справляться с действительно сложными случаями. По окончании собеседования мне предложили это место, и я согласился.
Месяц спустя я отправился в Гроув.
4
Я прибыл холодным январским утром. Голые деревья вдоль подъездной дороги напоминали скелеты, небо заволокли белые, тяжелые тучи, готовые разразиться снегом. Стоя у пропускного пункта, я достал из кармана сигареты. Я не курил больше недели, твердо пообещав себе, что в этот раз брошу навсегда. Но сейчас почему-то сдался. Зажег сигарету, раздраженный на самого себя. Среди психотерапевтов принято считать, что курение – это пристрастие, с которым должен уметь справляться любой хороший специалист. Чтобы от меня не несло табаком, я забросил в рот пару мятных подушечек и разжевывал их, пока курил.
Я прыгал с ноги на ногу и зябко ежился – больше от волнения, чем от холода. Меня внезапно одолели сомнения. Мой коллега из Бродмура заявил без обиняков, что я совершаю большую ошибку. Намекнул, чтобы я не обольщался насчет головокружительной карьеры в Гроуве: об этом заведении в целом и о профессоре Диомидисе в частности ходят неоднозначные слухи.
– Говорят, он не признает никаких канонов. Очень большое значение придает терапии в группе. Одно время даже работал с Фуксом[5]. В восьмидесятые руководил сообществом альтернативных психотерапевтов в Хартфордшире. Денег с таким подходом особо не заработаешь, особенно сейчас. – Тут мой коллега ненадолго замолчал, прикидывая, стоит ли продолжать, потом все же добавил почти шепотом: – Пойми, Тео, я тебя не запугиваю, но есть информация, что в Гроуве намечаются серьезные сокращения. Через шесть месяцев тебя могут запросто лишить места. Подумай хорошенько, стоит ли игра свеч?
Я сделал вид, что задумался (исключительно из вежливости), и через пару мгновений ответил:
– Стоит. Я уверен.
– Загубишь ты себе карьеру… Но если ты уже все для себя решил… – произнес мой коллега, сокрушенно качая головой.
Я не стал откровенничать по поводу моей заветной мечты излечить Алисию Беренсон. Конечно, я мог бы сформулировать свой план в понятных коллеге терминах: например, что столь трудный случай обязательно выльется потом в книгу или научный труд. Впрочем, он все равно повторил бы, что я совершаю ошибку. Возможно, коллега прав… Вскоре все выяснится!
Я затушил окурок, заставил себя успокоиться и шагнул на проходную. Гроув располагался в самом старом крыле больницы Эджвер. Изначально это было викторианское здание из красного кирпича. Затем оно стало постепенно обрастать огромными уродливыми пристройками. В глубине этого комплекса и находился Гроув.
Единственным, что указывало на то, какие страшные пациенты содержались в его стенах, были многочисленные камеры, торчавшие на заборе, словно глазеющие хищные птицы. Вестибюль, где располагалась стойка регистратуры, постарались сделать уютным. Там стояли большие синие диваны, на стенах висели неловкие, будто детские, рисунки, выполненные пациентами. Здесь Гроув напоминал скорее детский сад, чем надежно охраняемую психиатрическую больницу для преступников.
Вскоре ко мне подошел высокий человек и с улыбкой протянул руку.
– Здравствуйте! Я – Юрий, старший медбрат. Добро пожаловать в Гроув! К сожалению, в роли встречающей делегации только я, – пошутил он.
Юрий отличался приятной внешностью и крепким телосложением. На вид я дал бы ему около сорока лет. У него были темные волосы, над краем воротничка виднелась часть татуировки – вьющийся вверх по шее этнический узор. От Юрия пахло табаком и приторным лосьоном после бритья. Несмотря на проскальзывающий в речи легкий акцент, английский старшего медбрата был безупречен.
– Я переехал сюда из Латвии семь лет назад, – рассказывал он. – Сначала ни одного слова по-английски не знал. А через год уже говорил и понимал без проблем.
– Ничего себе!
– Английский выучить легко. Попробовали бы вы освоить латышский! – Юрий рассмеялся и, сняв с пояса кольцо со звякающими друг о друга ключами, вручил мне. – Ключи от одиночных палат, а вот коды доступа к отделениям.
– Ого! В Бродмуре все было скромнее.
– Недавно нам пришлось серьезно повысить уровень защиты. С тех пор как сюда перевели Стефани…
– А кто такая Стефани?
Вместо ответа Юрий кивком указал на женщину, появившуюся из двери позади стойки регистрации. В чертах ее лица угадывалось карибское происхождение. Лет сорока пяти, безупречное боб-каре.
– Стефани Кларк, управляющая в Гроуве, – сухо улыбнувшись, представилась женщина.
Ее рукопожатие оказалось крепче и решительнее, чем у Юрия, и гораздо менее радушным.
– Как управляющая я уделяю первостепенное внимание безопасности, – заявила Стефани. – Это касается и пациентов, и персонала. Если вам не обеспечена должная безопасность, значит, она не обеспечена и пациентам. – Она выдала мне небольшое устройство (сигнализацию, на случай нападения). – Всегда держите под рукой: не нужно просто оставлять это в кабинете.
Я с трудом поборол в себе желание произнести «слушаюсь, мэм!». С этой Стефани лучше не ссориться, иначе проблем не избежать. Я всегда придерживался подобной тактики со строгими начальницами: не спорил, не высовывался, и все было прекрасно.
– Приятно с вами познакомиться, – с улыбкой произнес я.
Стефани кивнула, но не улыбнулась в ответ:
– Юрий вас проводит.
Затем она развернулась и, больше не взглянув на меня, ушла.
– Пойдемте, – позвал Юрий.
И я последовал за ним к массивной стальной двери, ведущей в само отделение. Тут же рядом с металлодетектором дежурил охранник.
– Думаю, вас учить не надо, – произнес Юрий. – Никаких острых предметов, ничего, что может быть использовано как оружие.
– Зажигалки тоже нельзя, – добавил охранник, выуживая ее у меня из кармана и глядя с осуждением.
– Прошу прощения, совсем забыл! – извинился я.
– Я провожу вас в кабинет. – Юрий жестом пригласил следовать за ним. – Сейчас все на общем собрании, поэтому так тихо.
– Я могу к ним присоединиться? – спросил я.
– Не хотите сначала устроиться в кабинете? – изумился Юрий.
– До кабинета я могу дойти и потом. Вас не затруднит проводить меня на собрание?
– Как скажете. – Юрий пожал плечами. – Тогда нам сюда.
И мы пошли по длинным коридорам, отделенным друг от друга запертыми дверьми. Ритмично закрывались двери, лязгали и уезжали в пазы при открытии мощные штыри, поворачивались в замках ключи. Мы продвигались вперед с черепашьей скоростью.
Судя по виду коридоров, ремонт здесь не проводили уже несколько лет: краска на стенах облупилась, помещения пропитались слабым затхлым запахом плесени и разложения.
– Мы пришли, – проговорил Юрий, останавливаясь перед одной из закрытых дверей. – Заходите.
– Благодарю.
Пару мгновений я собирался с мыслями, а потом открыл дверь и шагнул внутрь.
5
Собрание проходило в длинной комнате с высокими зарешеченными окнами, выходившими на глухую кирпичную стену. Пахло кофе и неизменным лосьоном Юрия. Примерно тридцать человек сидели по кругу. Почти все держали в руках картонные стаканчики с чаем или кофе и, позевывая, с трудом отгоняли утреннюю дремоту. Те, кто уже допил, возились со своими пустыми стаканчиками – бесцельно вертели их в руках, мяли, плющили или рвали на кусочки.
Собрание проводилось один или два раза каждый день и представляло собой нечто среднее между административным совещанием и сеансом групповой психотерапии. На повестке дня обсуждались насущные вопросы, касающиеся больницы в целом и лечения конкретных пациентов в частности. Это была, говоря словами профессора Диомидиса, попытка вовлечь пациентов в собственное лечение и побудить их нести ответственность за свое состояние. Не стоит и говорить, что этот метод не всегда работал.
Прошлое Диомидиса, связанное с сеансами групповой терапии, означало, что он любил проводить разного рода собрания и особенно поощрял совместную работу. Видимо, Диомидису нравилось выступать перед аудиторией. В этом он напоминал театрального импресарио. Профессор поднялся со своего места и шагнул мне навстречу с распростертыми объятиями.
– Тео! Вот и вы! Добро пожаловать!
Диомидис говорил с едва уловимым греческим акцентом, который почти исчез за те тридцать лет, что он прожил в Англии. Статный, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, в этой энергичной, озорной манере он выглядел моложе и больше напоминал легкомысленного дядюшку, чем психотерапевта. Однако это не означало, что Диомидис не уделял должного внимания пациентам. Напротив, утром он приезжал в Гроув первым, еще до прихода уборщиц, и засиживался допоздна, после того как на дежурство заступала вечерняя смена, а то и ночевал у себя в кабинете на кушетке. Дважды разведенный профессор шутил, что самым удачным оказался третий брак, когда он связал свою жизнь с Гроувом.
– Присаживайтесь! – Глядя на меня, Диомидис махнул рукой на свободный стул рядом со своим. – Сюда-сюда-сюда!
После того как я уселся, он с некоторым пафосом произнес:
– Позвольте представить нашего нового психотерапевта! Его зовут Тео Фабер. Давайте поприветствуем нового члена нашей небольшой, но дружной семьи!
Пока Диомидис говорил, я скользил глазами по сидящим вокруг людям, выискивая Алисию. Увы, ее нигде не было. В отличие от профессора Диомидиса, одетого в безупречный костюм и галстук, остальные предпочли менее формальные рубашки с коротким рукавом или просто футболки. Было сложно сказать, где тут персонал, а где больные.
Вскоре обнаружилась пара знакомых лиц. Например, Кристиан, которого я знал по Бродмуру: темная борода, сломанный нос (парень увлекается регби), красивые, хоть и немного устрашающие черты лица. Он ушел из Бродмура вскоре после моего поступления на работу. Помню, Кристиан мне не особо понравился; впрочем, я толком ничего о нем не знал, потому что мы практически не работали вместе. Далее я заметил Индиру, которая проводила собеседование. Она улыбнулась мне, и я слегка приободрился – это было единственное дружелюбное лицо здесь.
Больные смотрели на меня с откровенным подозрением, что вполне понятно. Каждому пришлось пережить насилие: физическое, моральное или сексуальное. Пройдет еще много времени, прежде чем они научатся мне доверять. А кто-то так и не сумеет. Среди пациентов оказались только женщины – с грубоватыми морщинистыми лицами, у некоторых виднелись шрамы. У каждой из них была тяжелая жизнь. Страдания от всевозможных ужасов надломили их душевное здоровье, толкнув в чудовищный мир психического заболевания. Их пути отображались на лицах, что невозможно было не заметить.
Но где же Алисия Беренсон? Я еще раз безуспешно пробежался взглядом по лицам. И вдруг осознал, что смотрю прямо на нее: Алисия сидела напротив меня, с противоположной стороны круга! Я не видел женщину, потому что она была невидимой. Без сомнений, ее сильно накачали седативными препаратами. Тяжело развалившись на стуле, Алисия держала в трясущейся руке стаканчик с чаем. Жидкость тонкой струйкой стекала на пол. Я едва удержался, чтобы не подойти и не поправить стаканчик. Она была настолько не здесь, что не заметила бы, если б я это сделал.
Я не ожидал, что Алисия окажется в столь плачевном состоянии. Немногое сейчас напоминало в ней ту красивую женщину, которую я помнил: глубокие синие глаза, идеальные пропорции лица. Сейчас Алисия страшно исхудала, выглядела неухоженной. Роскошная рыжая шевелюра превратилась в грязное слипшееся месиво вокруг плеч. Ногти на руках были сгрызены, местами до мяса. На обоих запястьях белели старые шрамы от порезов – эти отметины Алисия правдиво изобразила в своей «Алкесте». Ее пальцы дрожали не переставая – явный побочный эффект, возникший на фоне приема сильных препаратов вроде «Рисперидона» или других тяжелых антипсихотических средств. В уголках приоткрытого рта блестела слюна – неконтролируемое слюноотделение, к несчастью, еще один побочный эффект подобного лечения.
Неожиданно я поймал на себе взгляд профессора Диомидиса. Пришлось прекратить рассматривать Алисию и повернуться к нему.
– Расскажите про себя, Тео. Буквально пару слов. Думаю, у вас это получится лучше, чем у меня, – произнес профессор.
– Большое спасибо. – Я кивнул. – Вряд ли смогу что-нибудь добавить к уже сказанному, пожалуй, кроме одного: я очень рад, что работаю здесь. Волнуюсь и немного нервничаю, но полон надежд. И очень хочу познакомиться с каждым из вас поближе, особенно с пациентами. Я…
Внезапно мою речь прервал громкий звук распахнутой двери. В первое мгновение я подумал, что у меня начались галлюцинации. В комнату ворвалась исполинского роста женщина с двумя деревянными копьями, шипастыми на концах. Она подняла копья над головой, а потом швырнула в нас. Одна из больных закрыла лицо руками и закричала.
Я был почти уверен, что шипы проткнут нас насквозь – но они грохнулись на пол прямо посреди нашего круга. И только теперь увидел, что это вовсе не шипы, а бильярдный кий, сломанный пополам. Эта крупная пациентка, темноволосая, по всей видимости турчанка, закричала:
– Как же меня это бесит! Кий сломан уже неделю, а нового так и нет ни хрена!
– Ну что за выражения, Элиф! – одернул великаншу Диомидис. – Я не стану обсуждать эту претензию, пока не решу, стоит ли допускать вас до участия в собрании, учитывая то, с каким опозданием вы сюда явились! – Профессор эффектно тряхнул шевелюрой и повернулся ко мне: – А вы что думаете, Тео?
Я не сразу нашелся, что ответить.
– Полагаю, важно уважать друг друга и приходить на собрание ко времени… – начал было я.
– Как ты, что ли? – раздался мужской голос.
Я повернулся в ту сторону и увидел, что ко мне обращается Кристиан. Он засмеялся, довольный собственной шуткой. Я выдавил натужную улыбку, снова посмотрел на Элиф и произнес:
– Он совершенно прав. Я сегодня тоже опоздал. Это станет уроком нам обоим.
– Что за хрень?! – пробасила великанша. – Ты вообще кто?
– Элиф, ну вот опять! – укоряюще произнес профессор. – Вы же не хотите попасть в черный список? Присядьте, пожалуйста.
Однако Элиф продолжала стоять.
– А что по поводу кия?
Вопрос она адресовала профессору Диомидису, но тот перевел взгляд на меня, приглашая ответить.
– Элиф, я вижу, вы очень расстроены из-за сломанного кия, – проговорил я. – Наверняка тот, кто его сломал, был сильно не в духе. Это приводит нас к вопросу: как мы все здесь поступаем, когда сталкиваемся с агрессией? Давайте задержимся на этом и обсудим ситуацию вместе. Садитесь!