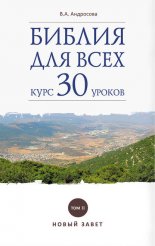Огнем и мечом Сенкевич Генрик
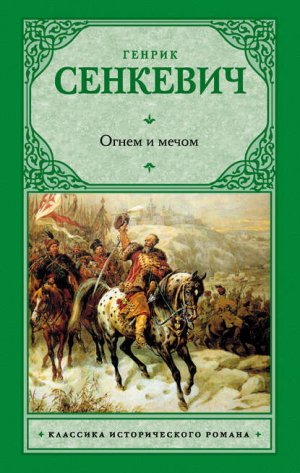
– Там! – указуя в сторону коронного стана, громогласно ответил он.
– Иди же туда! – рявкнул Тугай-бей. – А не пойдешь, в Крым тебя на веревке поведу.
– И пойду! – сказал Хмельницкий. – Пойду на них еще сегодня! Добычу возьму и пленных возьму, но тебе за то придется с ханом объясниться, ибо добычи хочешь, а боя избегаешь!
– Пес! – завыл Тугай-бей. – Ты же ханское войско губишь!
С минуту стояли они друг перед другом, раздувая ноздри, точно два одинца. Первым взял себя в руки Хмельницкий.
– Тугай-бей, успокойся! – сказал он. – Небеса прекратили битву, когда Кречовский уже поколебал драгун. Я их знаю! Завтра они будут биться с меньшим задором. Степь размокнет совсем. Гусары не устоят. Завтра все будут наши.
– Ты сказал! – буркнул Тугай-бей.
– И сдержу слово. Тугай-бей, друг мой, хан мне тебя на подмогу прислал, не на беду.
– Ты победить клялся, не проиграть.
– Есть пленные драгуны, хочешь, бери их.
– Давай. Я их на кол велю посадить.
– Не делай этого. Лучше отпусти. Это украинные люди из хоругви Балабана; мы их пошлем, чтобы драгун на нашу сторону перетянули. Будет как с Кречовским.
Тугай-бей, поостыв, быстро глянул на Хмельницкого и пробормотал:
– Змей…
– Хитрость мужеству в цене не уступает. Если склонить драгун к измене, ни один человек из ихних не уйдет, понял?
– Потоцкого возьму я.
– Бери. И Чарнецкого тоже.
– Дай-ка тогда горелки, а то больно знобко.
– Это пожалуй.
В этот момент вошел Кречовский. Полковник был мрачнее тучи. Грядущие долгожданные староства, каштелянства, замки и богатства после нынешнего сражения словно бы заволокло туманом. Завтра могут они исчезнуть безвозвратно, а из тумана, возможно, возникнет вместо них веревка или виселица. Не сожги полковник, уничтожив немцев, за собою мосты, он бы сейчас наверняка обдумывал, как в свою очередь изменить Хмельницкому и перекинуться со своими к Потоцкому.
Но это было уже невозможно.
И посему уселись они втроем за бутылью горелки и стали молча пить. Шум ливня помалу утихал.
Смеркалось.
Пан Скшетуский, ослабевший от счастья, утомленный, бледный, неподвижно лежал на телеге. Захар, привязавшийся к нему, велел своим казакам растянуть над пленником войлочный навесик. Скшетуский слушал печальный шум ливня, но на душе его было погоже, светло, благостно. Ведь это его гусары показали, на что они способны, это его Речь Посполитая дала отпор, достойный своего величия, это же первый натиск казацкой бури напоролся на копья коронных войск. А еще есть гетманы, есть князь Иеремия и столько вельмож, столько шляхты, столько могущества! А надо всем наконец король – primus inter pares.[68]
Гордость переполнила грудь пана Скшетуского, словно бы все непомерные силы эти сосредоточились теперь в нем одном.
Впервые ощущая такое с тех пор, как попал в плен, он почувствовал даже некое сострадание к казакам. «Они виноваты, но и ослеплены, ибо замахнулись на непосильное, – думал он. – Они виноваты, но и несчастны, позволив увлечь себя человеку, который повел их на верную гибель».
Потом мысли его потекли далее. Наступит мир, и каждый тогда о личном счастии своем сможет подумать. Сразу всеми воспоминаниями и всею душой он устремился к Разлогам. Там, рядом с логовом льва, вероятно, тишина ненарушимая. Там никто и не посмеет головы поднять, а хоть и посмеет – Елена уже наверняка в Лубнах.
Внезапный орудийный гул прервал золотую ниточку его размышлений.
Это Хмельницкий спьяну снова повел полки в наступление.
Однако все ограничилось пушечной перестрелкой. Кречовский утихомирил гетмана.
Назавтра было воскресенье. Весь день прошел спокойно и без единого выстрела. Лагеря стояли друг против друга, словно станы двух дружественных армий.
Скшетуский приписывал тишину эту упадку духа среди казаков. Увы! Не ведал он, что Хмельницкий тем временем, «многими уму своего очима поглядая», делал все, чтобы перетянуть на свою сторону драгун Балабана.
В понедельник сражение закипело уже с рассвета. Скшетуский, как и в первый день, обозревал битву, улыбаясь и с веселым выражением на лице. Снова коронные войска выступили за вал. На этот раз, однако, не устремляясь вперед, они давали отпор неприятелю, не сходя с места. Степной грунт размок не только с поверхности, но и в глубину. Тяжелая конница почти не могла передвигаться, что сразу же дало преимущество быстрым запорожским и татарским хоругвям. Улыбка на лице Скшетуского медленно исчезала. Впереди польского окопа лавина атакующих вовсе почти заслонила узкую ленту коронных войск. Казалось вот-вот – и цепочка эта будет прорвана, и начнется штурм самого вала. Скшетуский не замечал теперь и половины того воодушевления, того ратного пыла, с каким хоругви сражались в первый день. Сегодня они упорно оборонялись, но первыми не нападали, не разбивали в пух и прах курени, не сметали, точно ураган, все на своем пути. Степь, раскисшая не только с поверхности, но и на значительную глубину, сделала невозможным прежнее неистовство и действительно вынудила тяжелую кавалерию не отходить от вала. Силу гусар составлял, решая победу, разгон, а они вынуждены были оставаться на одном месте. Хмельницкий же вводил в бой все новые и новые полки. Он поспевал всюду. Сам ведя в атаку каждый курень, он поворачивал назад, почти доскакав до неприятельских сабель. Пыл его постепенно передался запорожцам, и те хотя и гибли бессчетно, но с криками и вытьем вперегонки неслись на шанец. Они напарывались на стену железных грудей, на острия копий и, разбитые, поредевшие, снова шли в атаку. Хоругви от такого натиска, словно бы дрогнув, подавались, а кое-где и отступали; так борец, стиснутый стальным объятием противника, то слабеет, то снова собирает силы и начинает пересиливать.
К полудню почти все запорожские полки были в огне и сражении. Борьба шла такая упорная, что меж обеими сторонами вырос как бы новый вал – гора конских и человеческих трупов.
Ежеминутно в казацкие окопы из битвы возвращались толпы воинов, раненых, окровавленных, перемазанных грязью, тяжело дышавших, падавших от усталости. Но появлялись они с песнею на устах. Лица их пылали боевым огнем и уверенностью в победе. Теряя сознание, они продолжали кричать: «На погибель!» Отряды, остававшиеся в резерве, рвались в бой.
Пан Скшетуский помрачнел. Польские хоругви стали исчезать за бруствером. Они уже не могли оказывать сопротивления, и отход их отмечала горячечная спешка. Заметив это, более двадцати тысяч глоток исторгли радостный вопль. Азарт атаки удвоился. Запорожцы буквально наступали на пятки казакам Потоцкого, прикрывавшим отступающих.
Однако пушки и град мушкетных пуль отбросили их назад. Битва на минуту утихла. В польском стане послышалась труба, предлагавшая переговоры.
Но теперь Хмельницкий переговоров вести не желал. Двенадцать куреней спешились, чтобы вместе с пехотой и татарами идти на штурм укреплений.
Кречовский с тремя тысячами пехоты в решительный момент должен был поспешить им на подмогу. Все барабаны, бубны, литавры и трубы зазвучали разом, заглушая клики и мушкетные залпы.
Пан Скшетуский, содрогаясь, глядел на долгие шеренги не имевшей себе равных запорожской пехоты, рвавшейся к валам и окружавшей их все более тесным кольцом. Длинные полосы белого дыма выстреливали в нее из окопов, словно некая исполинская грудь пыталась сдунуть эту саранчу, неотвратимо наседавшую отовсюду. Пушечные ядра пропахивали в ней борозды, самопалы грохотали все торопливее. Гром не смолкал ни на секунду. Тьмы и тьмы, тая на глазах, конвульсивно изгибаясь, точно огромная раненая змея, все же шли вперед. Вот-вот достигнут! Вот они уже возле вала! Пушки им теперь не страшны! Скшетуский зажмурился.
И тотчас вопросы молниями замелькали в его мозгу: увидит ли он на валах польские значки, когда откроет очи? Увидит или не увидит? Там шумят все громче, там визг какой-то неслыханный. Неужто случилось что-то? Крики летят из самого лагеря.
Что же это? Что же стряслось?
– Боже всемогущий!
Вопль этот исторгся из груди пана Скшетуского, когда, открыв глаза, увидел он на валу вместо огромного золотого коронного стяга малиновый с архангелом.
Позиция была взята.
Вечером наместник узнал от Захара, как все было. Не напрасно Тугай-бей называл Хмельницкого змеем: в минуты самого отчаянного сопротивления подученные Балабановы драгуны перекинулись к казакам и, набросившись с тыла на собственные хоругви, помогли уничтожить их без остатка.
Вечером же наместник увидел пленных и присутствовал при кончине молодого Потоцкого, горло которому пронзила стрела. Прожил тот после поражения всего несколько часов и умер на руках Стефана Чарнецкого. «Скажите отцу… – шептал, отходя, молодой каштелян, – скажите отцу, что я… как рыцарь…», но не смог молвить ничего более. Душа его покинула тело и унеслась к небесам. Скшетуский долго потом не мог забыть это бледное лицо и голубые глаза, вознесенные в смертный час к небу. Пан Чарнецкий клялся над холодеющим телом, что, ежели Господь даст ему обрести свободу, он реками крови за смерть друга и позор поражения отомстит. И ни слезинки не скатилось по суровому лику его, ибо был это рыцарь железный, многажды подвигами отваги прославленный, человек, никаким несчастьем не сгибаемый. И обеты он свои выполнил. Сейчас же, вместо того чтобы предаваться унынию, он первый и ободрял Скшетуского, ужасно терзавшегося из-за поражения и позора Речи Посполитой. «Речь Посполитая не одно поражение понесла, – говорил пан Чарнецкий, – но неистощимые силы таятся в ней. Не сломила ее до сей поры ничья мощь, не сломят и крестьянские бунты, каковые Господь сам и покарает, ибо кто противу власти восстает, тот его воле перечит. Касательно же поражения, каковое и вправду прискорбно, – так кто его понес? Гетманы? Коронные войска? Нет! После отпадения и измены Кречовского войско, которое вел Потоцкий, только передовым отрядом и можно было счесть. Смута неотвратимо распространится по всей Украине, ибо мужичье там заносчивое и к воительству способное, но бунтуют ведь там не впервой. Мятеж утихомирят гетманы с князем Иеремией, силы которых до сей поры стоят нетронутые; значит, чем жарче мятеж вспыхнет, тем, погашенный на сей раз надолго, а может быть, на вечные времена, скорее уймется. Ничтожен верою и невелик духом полагающий, что какой-то казацкий атаманишка с неким мурзой татарским могут всерьез угрожать могучему народу. Плохи были бы дела Речи Посполитой, ежели бы какая-то крестьянская смута могла влиять на ее судьбу и существование. Воистину легкомысленно собирались мы в этот поход, – заключил пан Чарнецкий, – и, хотя передовой наш отряд разгромлен, полагаю я, что гетманы не мечом, не оружием, но батогами могут бунт этот подавить».
И когда говорил он так, казалось, что говорит не пленник, не воин, проигравший битву, но гордый гетман, уверенный в завтрашней победе. Такое величие духа и такая вера в Речь Посполитую были бальзамом для ран наместника. Он собственными глазами наблюдал войско Хмельницкого вблизи, оттого оно его несколько заворожило, тем более что вплоть до сегодняшнего дня сопутствовала войску этому удача. Но прав был, пожалуй, пан Чарнецкий. Силы гетманов стоят нетронутые, а за ними – вся мощь Речи Посполитой, вся непререкаемость власти и воли Божьей. Так что расставался наместник с паном Чарнецким весьма ободренный и душой веселый, а расставаясь, спросил еще, не намерен ли тот сразу повести переговоры с Хмельницким об освобождении.
– Тугай-беев я пленник, – ответил пан Стефан. – Ему же и выкуп заплачу, а с атаманишкой этим дела иметь не желаю и заплечным мастерам его прочу.
Захар, устроивший пану Скшетускому свидание с пленниками, возвращаясь с ним к телеге, тоже утешал его:
– Не с молодым Потоцким оно тяжеленько, – говорил он. – С гетманами будет тяжеленько. Дело-то ведь только начато, а чем кончится, один Бог знает! Гей, набрали татары и казаки польского добра, да взять и сохранить не одно и то же. А ты, д и т и н о, не горюй, не с у м у й, тебе и так свобода будет – ты к своим пойдешь, а старый тужить по тебе станет. На старости лет хуже нету одному на свете остаться. А с гетманами тяжеленько будет, ой, тяжеленько!
И правда победа, хоть и блестящая, тем не менее не решила дела в пользу Хмельницкого. Она могла даже обратиться во вред, ибо нетрудно было предвидеть, что великий гетман, мстя за смерть сына, с особым рвением возьмется теперь за сечевиков и сделает все, чтобы одним разом их извести. К слову сказать, великий гетман питал некоторое нерасположение ко князю Иеремии, которое хоть и прикрывалось любезностью, однако довольно часто при различных обстоятельствах проявлялось. Хмельницкий, отлично об этом зная, полагал, что сейчас нерасположение это отойдет на второй план, что краковский властелин первым примирительно протянет руку, чем обеспечит себе помощь прославленного воителя и его могучих ратей. А с такими объединенными силами, под водительством такого вождя, как князь, Хмельницкий пока что не мог и мечтать меряться силой, ибо сам в себя до конца еще не верил. Так что решил он не медлить, а одновременно с вестью о желтоводском поражении появиться на Украине и ударить на гетманов, пока не подоспела княжеская помощь.
Поэтому, не давши отдохнуть войскам, он на зорьке следующего после сражения дня повел их дальше. Бросок этот был столь стремителен, словно гетман спасался бегством. Казалось, полая вода заливает степь и мчится вперед, питаемая по дороге всеми реками и родниками. Шли по лесам и дубравам, по курганам, без роздыха переправлялись через речки. Казацкое войско разрасталось по пути, так как в него постоянно вливались все новые толпы беглых украинских мужиков. Пришлые сообщали сведения о гетманах, но противоречивые. Одни говорили, что князь еще за Днепром, другие – что уже соединился с коронными войсками. Зато все совпадали в одном – Украина в огне. Крестьяне не только сбегали навстречу Хмельницкому в Дикое Поле, но сжигали села и города, поднимались на своих господ и повсеместно вооружались. Коронные войска вели военные действия уже целых две недели. Они вырезали Стеблев, а под Дереньковцем дошло даже до кровавой битвы. Городовые казаки кое-где уже перешли на сторону черни и повсюду ждали только знака. Хмельницкий на это и рассчитывал, а потому спешил еще больше.
Наконец он остановился на подступах. Чигирин распахнул ему ворота настежь. Казацкий гарнизон незамедлительно перешел под его знамена. Дом Чаплинского был разрушен, шляхту, искавшую укрыться в городе, вырезали. Радостные клики, колокольный звон и крестные ходы не прекращались ни на миг. Пламя тотчас же перекинулось на всю округу. Все живое хваталось за косы, пики и соединялось с запорожцами. Несчислимые толпы простолюдинов стекались к Хмельницкому отовсюду; были получены радостные, ибо достоверные, сведения, что князь Иеремия хотя и предложил помощь гетманам, но пока что с ними не соединился.
Хмельницкий облегченно вздохнул.
Он, не мешкая, двинулся вперед и теперь шел уже сквозь бунт, резню и огонь. Свидетельствовали о том пожарища и трупы. Он шел, точно лавина, уничтожая все на своем пути. Страна перед ним восставала, за ним пустела. Аки мститель, шел он, аки змей многоглавый. Поступь его выжимала кровь, дыхание вздувало пожары.
Остановился он с главными силами в Черкассах, а вперед выслал дикого Кривоноса и татар под водительством Тугай-бея, которые, достигнув гетманов под Корсунем, не раздумывая, по ним ударили. Однако за дерзость свою тут же дорого поплатились. Отброшенные, поредевшие, вдребезги разбитые, они в панике отступили.
Хмельницкий кинулся на помощь. По дороге он узнал, что пан Сенявский во главе нескольких хоругвей соединился с гетманами, которые, оставив Корсунь, пошли на Богуслав. Это оказалось правдой. Хмель занял Корсунь без боя и, оставивши в городе возы и провиант, то есть весь обоз, налегке, верхами погнался за ними.
Преследование было недолгим, так как те ушли недалеко. Под Крутой Балкой передовые отряды наткнулись на польский обоз.
Пану Скшетускому не привелось увидеть битву, ибо вместе с обозом он остался в Корсуне. Захар поселил его на городской площади в доме пана Забокрицкого, которого чернь незадолго до того повесила, и поставил охрану из остатков миргородского куреня, потому что толпа неутомимо грабила дома и убивала каждого, кого полагала ляхом. Сквозь выбитые окна наблюдал пан Скшетуский толпы пьяного сброда, перемазанного кровью, с засученными рукавами метавшегося от дома к дому, от лавки к лавке, обыскивавшего все углы, чердаки, навесы; время от времени страшные вопли возвещали, что обнаружен шляхтич или еврей, мужчина, женщина, ребенок. Жертву вытаскивали на площадь и зверски измывались над нею. Пьянь затеивала драку из-за разорванных в куски останков, с наслаждением размазывала кровь по своим лицам, обкручивала шеи дымящимися внутренностями. Мужики, схватив еврейских детей за ноги, разрывали их надвое под безумный гогот толпы. Совершались нападения и на дома охранявшиеся, где содержались именитые пленники, оставленные в живых ради немалого выкупа. Тогда запорожцы или татары, составлявшие охрану, толпу сдерживали, колотя нападавших прямо по головам древками пик, луками или плетьми из бычачьей кожи. Подобное происходило и у дома, где находился Скшетуский. Захар велел учить холопей нещадно, и миргородцы с удовольствием приказ выполняли, ибо хотя низовые в пору мятежей и пользовались охотно помощью черни, но презирали ее куда больше, чем шляхту. Недаром считали они себя «благорожденными казаками». Сам Хмельницкий впоследствии неоднократно дарил множество простого народа татарам, которые гнали ясырей в Крым, где продавали в Турцию или Малую Азию.
Так что толпа бесчинствовала на площади и в конце концов дошла до такого исступления, что люди принялись убивать друг друга. Дело шло к вечеру. Была целиком подожжена одна сторона площади, церковь и дом униатского попа. По счастью, ветер относил огонь в поле и мешал пожару распространиться. Однако громадное пламя освещало площадь не слабее солнечных лучей. Стало нестерпимо жарко. Издалека доносился страшный грохот пушек – как видно, битва под Крутой Балкой становилась все упорнее.
– Горячо там, видать, нашим приходится! – ворчал старый Захар. – Гетманы не шутят. Гей же! Пан Потоцкий знатный ж о л н i р.
Потом он указал в окно на толпу и сказал:
– Вона! Они теперь безобразничают, но ежели Хмеля побьют, то и над ними побезобразничают!
В эту минуту послышался конский топот, и на площадь на взмыленных лошадях влетело несколько десятков конных. Лица, почернелые от порохового дыма, истерзанная одежда и пообвязанные тряпками головы некоторых говорили о том, что примчались верховые сюда прямо из боя.
– Л ю д и! Х т о в б о г а в i р у е, р я т у й т е с я! Л я х и б ’ ю т ь н а ш и х! – истошно прокричали они.
Поднялись вопли и переполох. Толпа заколыхалась, точно волна, вздутая вихрем. Дикое замешательство охватило всех. Народ бросился бежать, но так как улицы были забиты возами, а одна сторона площади горела, убежать было невозможно.
Началась давка, чернь кричала, билась, давила друг друга, вопя о пощаде, хотя неприятель был пока еще далеко.
Наместник, видя, что происходит, чуть с ума не сошел от радости. Он точно помешанный стал бегать по комнате, бить себя кулаками в грудь и кричать:
– Я знал, что так будет! Знал! Будь я не я! Это с гетманами дело иметь! Это со всею Речью Посполитой! Вот оно, возмездие! Что это?
Снова раздался топот, и на этот раз несколько сот верховых, сплошь татар, ворвались на площадь. Убегали они, как видно, не разбирая дороги. Толпа мешала им, и они бросались прямо на нее, топча, побивая, разгоняя, полосуя саблями в надежде прорваться к тракту, ведущему на Черкассы.
– Шибче ветра бегут – закричал Захар.
Едва он сказал это, пронесся еще отряд, а за ним и еще один. Казалось, бегство стало всеобщим. Стража у домов беспокойно заходила туда-сюда, явно намереваясь сбежать. Захар выскочил в палисадник.
– Стоять! – крикнул он своим миргородцам.
Дым, жар, суматоха, конский топот, тревожные голоса, вой освещенной пламенем толпы – все вместе составило одну адскую картину, которую наместник мог наблюдать в окно.
– Какой же там разгром должен быть! Какой же разгром! – кричал он Захару, позабыв, что тот не может разделить его радости.
Меж тем снова как вихрь промчался удиравший отряд.
От грохота орудий сотрясались стены корсунских домов.
Вдруг чей-то пронзительный голос завопил прямо возле дома:
– Спасайся! Хмель убитый! Кречовский убитый! Тугай-бей убитый!
На площади наступил истинный конец света. Люди, потеряв рассудок, кидались в огонь. Наместник упал на колени и вознес руки к небу.
– Господи всемогущий! Господи великий и справедливый, слава тебе в вышних!
Захар, вбежав из сеней, прервал его молитву.
– А послушай-ка, д и т и н о! – закричал он, запыхавшись. – Выйди и посули миргородцам прощение, не то они собираются уходить, а как уйдут, сюда сброд ворвется!
Скшетуский вышел в палисадник. Миргородцы беспокойно ходили возле дома, обнаруживая явное желание оставить пост и удрать по шляху, ведущему на Черкассы. Страх охватил весь город. То и дело новые отряды разбитых войск, словно на крыльях, прилетали со стороны Крутой Балки. Бежали в величайшем замешательстве мужики, татары, городовые казаки и запорожцы. Но главные силы Хмельницкого, вероятно, еще оказывали сопротивление, битва, вероятно, не была еще вполне решена, ибо пушки грохотали с удвоенной силой.
Скшетуский обратился к миргородцам.
– За то, что неусыпно стерегли особу мою, – сказал он торжественно, – не надобно вам бегством спасаться, обещаю заступничество и прощение гетмана.
Миргородцы все как один поснимали шапки, а он, подбоченясь, гордо взирал на них и на площадь, все более пустевшую. Какая перемена судьбы! Вот пан Скшетуский, недавний пленник, возимый за казацким войском, стоит сейчас посреди наглого казачья господином среди подданных, шляхтичем среди холопов, панцирным гусаром среди обозников. Он, пленник, обещает миловать, и шапки перед ним ломают, а покаянные голоса взывают тем угрюмым, протяжным, свойственным страху и покорности манером:
– П о м и л у й т е, п а н е!
– Как сказал, так оно и будет! – отвечает наместник.
Он и в самом деле уверен в успехе своего ходатайства у гетмана, которому знаком, ибо неоднократно возил письма от князя Иеремии и сумел завоевать гетманское расположение. Потому и стоит он, подбоченясь, и ликование написано на лице его, освещенном отблесками пожара.
«Вот и окончена война! Вот и разбился вал о пороги! – думает он. – Пан Чарнецкий был прав: неисчерпаемы силы Речи Посполитой, незыблемо могущество ее».
А пока он таково думал, гордость переполняла грудь его, но не мелочная гордость по поводу ожидаемого упоения возмездием, унижения врага или обретения вот-вот имеющей наступить свободы и не оттого гордость, что перед ним сейчас ломают шапки, нет, он ощущал в себе гордость оттого, что был сыном Речи Посполитой, победоносной, всесильной, о врата которой всяческая злоба, всякое злонамерение, все удары разбиваются в прах, как силы ада о врата небесные. Он чувствовал в себе гордость как шляхтич-патриот, ободренный в отчаянии и не обманутый в вере своей. Отмщения же он теперь не жаждал.
«Победила, как государыня – простит, как мать», – думал он.
Тем временем орудийная канонада превратилась в непрерывный грохот.
Конские копыта снова заколотили по пустым улицам. На площадь, точно гром небесный, влетел на неоседланном коне казак. Он был без шапки, в одной рубахе, с рассеченным саблей лицом, залитым кровью. Примчавшись, казак осадил коня, раскинул руки и, ловя разинутым ртом воздух, стал кричать:
– Х м е л ь б ’ е л я х i в! П о б и т i я с н о в е л ь м о ж н i п а н и, г е т ь м а н и i п о л к о в н и к и, л и ц а р i i к а в а л е р и!
Прокричав это, он зашатался и грохнулся оземь. Миргородцы бросились ему на помощь.
Жар и бледность сменялись на лице Скшетуского.
– Что он говорит? – горячечно стал спрашивать он Захара. – Что случилось? Не может такого быть. Богом живым клянусь! Не может такого быть!
Тишина! Только пламя гудит на другой стороне площади, с треском взлетают снопы искр, а то и догорающее строение обрушивается с гулом.
Но вот и новые какие-то гонцы мчатся.
– П о б и т i л я х и! П о б и т i!
За ними вступает татарский отряд – не спеша, потому что окружает пеших, как видно, пленных.
Пан Скшетуский не верит глазам своим. Он ясно различает на пленных мундиры гетманских гусар, поэтому всплескивает руками и странным, не своим голосом упорно повторяет:
– Не может быть! Не может быть!
Грохот пушек еще не умолк. Сражение продолжается. Однако по всем уцелевшим улицам подходят толпы запорожцев и татар. Лица их черны, груди тяжко дышат, но идут они отчего-то воодушевленные, песни поют!
Так солдаты могут возвращаться только с победой.
Наместник сделался бледен как мертвец.
– Не может быть, – повторяет он все более хрипло. – Не может быть… Речь Посполитая…
Новое зрелище привлекает его взор.
Появляются казаки Кречовского с целыми охапками знамен. Они выезжают на середину площади и швыряют их наземь.
Знамена – польские.
Орудийный грохот слабнет, в отдалении слышен лишь перестук подъезжающих возов. Впереди высокая казацкая телега, за нею вереница других – все в окружении желтошапочных казаков пашковского куреня; они проезжают мимо дома, который стерегут миргородцы. Пан Скшетуский, всматриваясь в пленных на первом возу, глядит из-под руки, ибо его слепит свет пожара.
Внезапно он отшатывается, машет руками, точно человек, пораженный стрелой в грудь, а из уст его исторгается страшный, нечеловеческий крик:
– Иисус, Мария! Это гетманы!
И падает на руки Захара. Глаза ему застилает пелена, лицо напрягается и застывает, как у покойника.
Несколькими минутами позже три всадника во главе несчислимых полков въезжали на корсунскую площадь. Ехавший посредине, одетый в алое, сидел на белом коне, подпершись златоблещущей булавою, и глядел гордо, по-королевски.
Это был Хмельницкий. С боков ехали Тугай-бей и Кречовский.
Окровавленная Речь Посполитая лежала во прахе у ног казака.
Глава XVI
Прошло несколько дней. Небеса, казалось, обрушились на Речь Посполитую. Желтые Воды, Корсунь, разгром всегда победоносных в борьбе с казаками коронных войск, пленение гетманов, страшный пожар, объявший Украину, резня, неслыханные от начала мира зверства – все это стряслось так неожиданно, что люди просто поверить не могли, чтобы столько бедствий сразу могло выпасть на долю одной страны. Кое-кто и не верил, кое-кто оцепенел от ужаса, иные лишились рассудка, иные пророчили пришествие антихриста и неотвратимо близкий Страшный суд. Нарушились все общественные связи, все взаимоотношения, как человеческие, так и родовые. Пресеклась всяческая власть, различия исчезли между людьми. Преисподняя спустила с цепей все преступления и пустила их гулять по свету; убийство, грабеж, вероломство, озверение, насилие, разбой, безумие заступили место прилежания, честности, веры и совести. Казалось, отныне человечество уже не добром, но злом жить станет, что извратились сердца и умы, что полагают теперь святым прежде бывшее мерзким, а мерзким – прежде считавшееся святым. Солнце не сияло больше в небе, ибо сокрыто было дымами пожарищ, ночами вместо звезд и месяца светили пожоги. Горели города, деревни, храмы, усадьбы, леса. Люди перестали пользоваться человеческой речью, они или стенали, или по-собачьи выли. Жизнь потеряла всякую цену. Тысячи и тысячи гибли без ропота и поминовения. А из всех этих крушений, смертей, стонов, дымов и пожаров вырастал все выше и выше один человек, становясь грозней и громадней, почти заслонив уже свет белый и отбрасывая тень от моря до моря.
Это был Богдан Хмельницкий.
Двести тысяч вооруженных и окрыленных победами людей были теперь готовы на все, стоило ему пошевелить пальцем. Городовые казаки присоединялись к нему во всех городах. Край от Припяти и до рубежей степных был в огне. Восстание ширилось в воеводствах Русском, Подольском, Волынском, Брацлавском, Киевском и Черниговском. Войско гетмана росло ото дня ко дню. Никогда еще Речь Посполитая не выставляла даже против самого грозного врага и половины тех сил, какими сейчас располагал он. Равных не имел в своем распоряжении и немецкий император. Буря переросла все ожидания. Сперва сам гетман не отдавал себе отчета в собственной мощи и не понимал, сколь высоко он вознесся. Он пока еще декларировал по отношению к Речи Посполитой лояльность, законопослушание и верность, ибо не осознал, что понятия эти, как ничего не значащие, уже мог топтать. Однако по мере развития событий укреплялся в нем и тот безмерный, безотчетный эгоизм, равного которому не знала история. Ощущение зла и добра, преступления и добродетели, насилия и справедливости смешались в понятиях Хмельницкого в одно с ощущением собственной обиды и своекорыстия. Тот был для него добродетелен, кто держал его сторону; тот преступник, кто ему супротивничал. Он готов был и солнцу пенять, полагая личным против себя злоумышлением, если оно не светило тогда, когда ему, Хмельницкому, бывало это необходимо. Людей, события и целый мир он подгонял к собственному «я». И, несмотря на всю хитрость, на все лицемерие гетмана, были некие чудовищные благие намерения в таковом его подходе. Из них проистекали не только все его прегрешения, но и поступки добрые, ибо насколько не знал он удержу в издевательствах и жестокостях по отношению к врагу, настолько умел быть благодарен за все, пусть даже случайные, услуги, лично ему оказанные.
Лишь будучи пьян, забывал он о благодетельстве и, рыча в безумии, отдавал с пеною на устах кровавые приказы, о которых потом сожалел. А по мере того, как росли его успехи, пьяным он бывал все чаще, ибо все большая охватывала его тревога. Казалось, триумфы вознесли его на такие высоты, на какие он сам возноситься не намеревался. Могущество его, изумлявшее других, изумляло и его самого. Исполинская рука мятежа, увлекши гетмана, несла его с молниеносной быстротой и неотвратимостью, но куда? Как всему этому суждено было завершиться? Затеяв смуту ради личных своих обид, этот казацкий дипломат не мог не предполагать, что после первых успехов или даже поражений он начнет переговоры, что ему предложат прощение, удовлетворение обид и возмещение убытков. Он хорошо знал Речь Посполитую, терпеливость ее, безбрежную как море, ее милосердие, не знающее границ и меры, проистекавшее вовсе не из слабости, ибо даже и Наливайке, окруженному уже и обреченному, предлагалось прощение. Но теперь, после победы у Желтых Вод, после разгрома гетманов, после разгула усобицы во всех южных воеводствах, дело зашло слишком далеко; события переросли всяческие ожидания – теперь борьба пойдет не на жизнь, а на смерть.
Но на чьей же стороне будет победа?
Хмельницкий спрашивал гадальщиков и от звезд ждал ответа, и сам тоже вглядывался в грядущее – но впереди видел только мрак. И бывало, что от страшных предчувствий дыбом вставали волосы его, а из груди, точно вихрь, рвалось отчаяние. Что будет? Что будет? Он, Хмельницкий, бывший прозорливее других, соответственно и понимал лучше других, что Речь Посполитая не умеет распорядиться своими силами, что просто-напросто не имеет о них представления, хотя могущественна безмерно. Получи кто-то возможность использовать это могущество, кто бы тогда мог тому человеку противостоять? А кто мог знать, не поумерятся ли ввиду страшной опасности, близкого крушения и гибели внутренние раздоры, свары, своекорыстие, интриги панов, склоки, сеймовое пусторечие, шляхетское самодурство, бессильность короля. Тогда полмиллиона одного лишь дворянского сословия могут выйти на поле брани и расправиться с Хмельницким, даже будь с гетманом не только хан крымский, но и сам султан турецкий.
О дремлющем этом могуществе Речи Посполитой знал, кроме Хмельницкого, и покойный король Владислав, а посему, пока был жив, намеревался с величайшим на свете властелином повести борьбу не на жизнь, а на смерть, ибо только таким образом скрытые эти силы могли быть пробуждены. Ради планов своих король не поколебался заронить искру и в казацкий порох. Было ли предопределено именно казакам вызвать это половодье, чтобы в нем и захлебнуться в конце концов?
Хмельницкий знал также, каким страшным, несмотря на всю слабость, будет отпор этой самой Речи Посполитой. Ведь в нее, столь расхлябанную, непрочно связанную, раздираемую, своевольную, беспорядочную, били наигрознейшие в мире турецкие валы и разбивались, как о скалу. Так оно было под Хотином, что, можно сказать, он собственными глазами видел. Эта самая Речь Посполитая даже и во дни слабости своей водружала знамена на стенах чужих столиц. Какой же она теперь даст отпор? Чем удивит, доведенная до отчаяния, когда надо будет или умереть, или победить?
Поэтому каждый триумф Хмельницкого оборачивался для него самого новой опасностью, так как близил пробуждение дремлющего льва и делал все более невозможными мирные переговоры. В каждой победе сокрыто было грядущее поражение, в каждом ликовании – на донышке горечь. Теперь ответом на казацкую бурю должна была грянуть буря Речи Посполитой. Хмельницкому казалось, что он слышит уже глухое, отдаленное рокотание.
Вот-вот – и из Великой Польши, Пруссии, многолюдной Мазовии, Малой Польши и Литвы подойдут легионы воинов, им нужен только вождь.
Хмельницкий взял в плен гетманов, но и в этой удаче можно было усмотреть как бы ловушку судьбы. Гетманы были опытными воителями, но ни тот, ни другой не были тем, кто соответствовал сей године гнева, ужаса и невзгод.
Вождем мог быть только один человек.
Звался он – князь Иеремия Вишневецкий.
Именно потому, что гетманы попали в неволю, выбор, вероятнее всего, должен был пасть на князя. Хмельницкий, как и остальные, в этом не сомневался.
А между тем в Корсунь, где гетман запорожский остановился после битвы для отдыха, с Заднепровья доходили вести, что страшный князь уже двинулся из Лубен, что по пути немилосердно искореняет бунт, что, где пройдет, там исчезают деревни, слободы, хутора и местечки, но зато воздвигаются кровавые колы и виселицы. Страх удвоивал и утроивал количество его войск. Говорили, что ведет он пятнадцать тысяч наиотборнейшей рати, какая только могла сыскаться во всей Речи Посполитой.
В казацком стане его ожидали с минуты на минуту. Вскоре после битвы под Крутой Балкой среди казаков кто-то закричал: «Ярема идет!», и чернь охватила паника – началось беспорядочное бегство. Паника эта заставила Хмельницкого сильно призадуматься.
Ему теперь предстояло решить: или двинуться со всеми силами против князя и искать с ним встречи в Заднепровье, или, оставив часть войск для покорения украинных замков, двинуться в глубь Речи Посполитой.
Поход на князя был чреват опасностями. Имея дело с таким прославленным военачальником, Хмельницкий, несмотря на все свое численное превосходство, мог потерпеть поражение в решающей битве, и тогда сразу все было бы потеряно. Чернь, преобладавшая в его войске, уже показала, что разбегается от одного только имени Яремы. Требовалось время, чтобы превратить ее в армию, могущую противостоять княжеским полкам.
Опять же и князь, вероятно, не принял бы решающего сражения, он ограничился бы обороной в замках и отдельными стычками, которые затянули бы войну на месяцы, если не на годы, а меж тем Речь Посполитая, без сомнения, собрала бы новые силы и двинулась на помощь князю.
Вот почему Хмельницкий решил оставить Вишневецкого в Заднепровье, а сам – укрепиться на Украине, навести порядок в своих войсках, а затем, двинувшись на Речь Посполитую, вынудить ее к переговорам. Он рассчитывал, что подавление мятежей в Заднепровье надолго отвлечет на себя княжеские силы, а ему при этом развяжет руки. Смуту же на Заднепровье решил он подогревать, высылая отдельные полки на подмогу черни.
И еще придумал он сбивать князя с толку переговорами и протянуть время, покуда княжеское войско не ослабеет. Тут он вспомнил про Скшетуского.
Через несколько дней после Крутой Балки, а именно в день, когда среди черни возник переполох, он велел позвать к себе пленника.
Принял он его в старостовом дому в присутствии одного только Кречовского, бывшего Скшетускому давним знакомым, и, милостиво встретив, хоть и не без напускной важности, соответствующей нынешнему своему положению, сказал:
– Досточтимый поручик Скшетуский, за услугу, какую ты оказал мне, я выкупил тебя у Тугай-бея и обещал свободу. Время пришло. Я дам тебе пернач[69], дабы тебе, если встретишь какие войска, было возможно свободно проехать, и конвой для защиты от мужичья. Можешь возвращаться к своему князю.
Скшетуский молчал. Даже подобия радостной улыбки не появилось на лице его.
– Готов ли отправиться? Вроде бы вижу я хворость в тебе какую-то.
Пан Скшетуский и в самом деле выглядел как тень. Раны и недавние события подкосили могучего молодого человека, и сейчас у него был вид больного, не обещающего дожить до завтра. Изможденное лицо пожелтело, а черная, давно уже не бритая борода еще более изможденность эту подчеркивала. Всему причиной были душевные терзания. Рыцарь ел себя поедом. Находясь в казацком обозе, был он свидетелем всему, что произошло с момента выступления из Сечи. Видел он позор и беду Речи Посполитой, полоненных гетманов; видел казацкие триумфы, пирамиды, сложенные из голов, отрубленных у павших жолнеров, шляхту, подвешиваемую за ребра, отрезанные груди женщин, надругательства над девицами; видел отчаяние отваги и позорность страха – видел все. Все выстрадал и продолжал страдать тем более, что в голове его и груди жалом засела мысль, что сам он и есть невольный виновник всему, ибо он, и никто другой, перерезал удавку на шее Хмельницкого. Но разве же мог христианский рыцарь предположить, что помощь ближнему породит таковые плоды? И страдания его были безмерны.
А когда задавал он себе вопрос, что с Еленой, и когда представлял, что могло случиться, если злосчастная судьба задержала ее в Разлогах, то воздевал к небу руки и взывал голосом, исполненным безысходного отчаяния и дерзновения: «Господи! Возьми же душу мою, ибо здесь мне выпало испытать более, чем я заслуживаю!» Однако тут же спохватывался, понимая, что кощунствует, а посему падал на лицо и молил о спасении, о прощении, о том, чтобы Господь сжалился над отчизною и над голубицей сей невинной, которая, быть может, вотще взывает к Божьему милосердию и его, Скшетуского, помощи. Короче говоря, он так извелся, что дарованная свобода его не обрадовала, а этот самый гетман запорожский, триумфатор этот, желавший выглядеть великодушным, милости свои являя, и вовсе был ему неприятен, что заметив, Хмельницкий поморщился и сказал:
– Поспеши же воспользоваться великодушием, не то я раздумать могу; добродетель моя и упование на успех делают меня столь неосмотрительным, что я врага себе приобретаю, ибо знаю хорошо, что уж ты-то против меня сражаться будешь.
На что пан Скшетуский:
– Если Бог даст сил.
И таково глянул на Хмельницкого, что прямо в душу тому проник, а гетман, взгляда его выдержать не умея, уставил очи в землю и лишь спустя некоторое время подал голос:
– Ладно, довольно об этом. Я достаточно силен, чтобы какой-то мозгляк мог для меня что-то значить. Расскажешь князю, господину своему, что тут видел, и остережешь от слишком дерзких поступков, ибо, если у меня лопнет терпение, то я навещу его на Заднепровье и не думаю, что мой визит будет ему приятен.
Скшетуский молчал.
– Я говорил уже и еще раз повторяю, – продолжал Хмельницкий, – не с Речью Посполитой, но с вельможами я воюю, а князь среди них не последний. Ворог он мне и народу русскому, отщепенец от церкви нашей и изверг. Наслышан я, что он мятеж в крови топит, пускай же поостережется, как бы свою не пролить.
Говоря это, он все более возбуждался. Кровь бросилась ему в голову, а глаза стали метать молнии. Ясно было, что гетман в очередном припадке гнева и ярости, когда он все забывал и сам забывался.
– На веревке велю Кривоносу привести его! – кричал он. – Под ноги себе повергну! На коня с его хребта садиться стану!
Скшетуский поглядел свысока на метавшегося Хмельницкого, а затем спокойно сказал:
– Сперва победи его.
– Ясновельможный гетман! – вмешался Кречовский. – Пусть же этот дерзкий шляхтич скорей уезжает, ибо не пристало тебе во гнев из-за него впадать, а раз ты ему обещал свободу, он рассчитывает, что ты или нарушишь слово, или инвективы его будешь вынужден слушать.
Хмельницкий поутихнул, хотя некоторое время продолжал тяжело дышать, а затем сказал:
– Пускай же в таком случае отправляется и знает, что Хмельницкий добром за добро платит. Дать ему пернач, как было сказано, и сорок татар, которые его до поляков проводят.
Потом, обратясь к Скшетускому, добавил:
– Ты же знай, что мы теперь с тобой квиты. Полюбил я тебя, несмотря на твою дерзость, но, если еще раз попадешься, выкрутиться не мечтай.
Скшетуский вышел с Кречовским.
– Раз гетман отпускает тебя целым и невредимым, – сказал Кречовский, – и ты волен ехать, куда пожелаешь, то скажу я тебе по старому приятельству: беги хоть в самое Варшаву, но не за Днепр, потому что оттуда никто из ваших живым не уйдет. Ваше время прошло. Будь ты человеком разумным, ты бы остался с нами, но знаю я, что про это говорить с тобой дело пустое. А ты бы высоко пошел, как и мы.
– На виселицу, – буркнул Скшетуский.
– Не пожелали мне дать Литинского староства, а теперь я сам десять староств возьму. Выгоним панов Конецпольских, да Калиновских, да Потоцких, да Любомирских, да Вишневецких, да Заславских, да всю шляхту, а сами их имением поделимся, что опять же согласно с Божьим промыслом, коль скоро дарованы нам уже две столь блестящие виктории.
Скшетуский, не слушая полковника, задумался о чем-то своем, а тот продолжал:
– Когда я после сражения и победы нашей повидал в Тугаевой ставке захваченного в плен господина моего и благодетеля, ясновельможного гетмана коронного, он меня тотчас же неблагодарным и иудой честить изволил. А я ему: «Ясновельможный воевода! Вовсе я не такой неблагодарный, ибо когда в твоих замках и поместьях сяду, только пообещай, что напиваться не будешь, и я тебя подстаростой сделаю». Хо-хо! Поимеет Тугай-бей за пташек этих пойманных и потому их не трогает. Мы бы с Хмельницким по-другому с ними разговаривали. Однако – эвона! – телега твоя готова и татары в седлах сидят. Куда же ты направляешься?
– В Чигирин.
– Как постелешь, так и поспишь. Ордынцы проводят тебя хоть бы и до самых Лубен, потому что так им приказано. Похлопочи только, чтобы твой князь на колы их не посажал, что с казаками не преминул бы сделать. Потому и дали татар. Гетман велел и коня тебе вернуть. Бывай же здоров, нас вспоминай добром, а князю кланяйся и, ежели сумеешь, уговори его к Хмельницкому на поклон приехать. Возможно, милостиво будет принят. Бывай же здоров!
Скшетуский взобрался на телегу, которую ордынцы тотчас окружили кольцом, и отправился в путь. Проехать через площадь оказалось делом нелегким, потому что вся она была запружена казаками и мужичьем. И те, и другие варили кашу, распевая песни о желтоводской и корсунской победах, уже сложенные слепцами-лирниками, во множестве невесть откуда прибредшими в лагерь. Меж костров, пламенем своим облизывающих котлы с кашей, там и сям лежали тела умерших женщин, которых насиловали ночью победители, или возвышались пирамиды, сложенные из голов, отрубленных после битвы у раненых и убитых солдат противника. Трупы эти и головы начали уже разлагаться и издавали тлетворный запах, казалось, вовсе не беспокоивший людское скопище. В городе бросались в глаза следы опустошений и дикого разгула запорожцев: окна и двери повыломаны, обломки и осколки бесценных предметов, перемешанные с птичьим пухом и соломой, завалили площадь. По карнизам домов висели повешенные, в основном евреи, а сброд развлекался, цепляясь за ноги их и раскачиваясь.
По одну сторону площади чернели пепелища сгоревших домов и приходского костела; от пепелищ этих еще тянуло жаром, и над ними курился дым. Запах гари стоял в воздухе. За сожженными домами находился кош и согнанные ясыри под присмотром многочисленной татарской стражи, мимо которых пан Скшетуский вынужден был проехать. Кто в окрестностях Чигирина, Черкасс и Корсуня не успел скрыться или не погиб под топором черни, тот угодил в неволю. Среди пленников были и солдаты, плененные в обоих сражениях, и окрестные жители, до сей поры не успевшие или не пожелавшие присоединиться к бунту: люди из оседлой шляхты или просто шляхетского звания, подстаросты, офицеры, хуторяне, однодворцы из захолустий, женщины и дети. Стариков не было: их, негодных на продажу, татары убивали. Орда уводила целые русские деревни и поселения, чему Хмельницкий не смел противиться. Неоднократно случалось, что мужики уходили в казацкое войско, а в благодарность татары сжигали их дома и уводили жен и детей. Увы, среди поголовного разгула и одичания никого это уже не волновало, никто не искал управы. Простолюдины, берясь за оружие, отрекались от родных гнезд, жен и детей. Коль скоро отбирали жен у них, отбирали и они, и даже получше, потому что «ляшек», которых, натешившись и наглумившись, они убивали или продавали ордынцам. Среди полонянок довольно было также и украинских м о л о д и ц ь, связанных с паннами из шляхетских домов по три или по четыре одною веревкою. Неволя и недоля уравнивали сословия. Вид этих несчастных потрясал душу и порождал жажду мести. В лохмотьях, полунагие, беззащитные перед непристойными шутками поганых, интереса ради слонявшихся толпами по майдану, поверженные, избитые или лобызаемые мерзкими устами, они теряли рассудок и волю. Одни всхлипывали или на голос рыдали, другие – с остановившимся взором, с безумием в глазах и разинутым ртом – безучастно поддавались всему, что с ними совершалось. То тут, то там раздавался истошный вопль человека, зверски убиваемого за вспышку отчаянного сопротивления; плети из бычачьей кожи то и дело свистели над толпами пленников-мужчин, и свист этот сливался с воплями страданий, плачем детей, мычанием скота и конским ржаньем. Ясыри не были еще поделены и построены для конвоирования, поэтому повсюду царила страшная неразбериха. Возы, кони, рогатый скот, верблюды, овцы, женщины, мужчины, груды награбленного платья, посуды, ковров, оружия – все это, скученное на огромном пространстве, еще ожидало дележа и разбора. То и дело пригонялись новые толпы людей и скота, нагруженные паромы пересекали Рось, из главного же коша прибывали все новые и новые гости, дабы порадовать взоры видом собранных богатств. Некоторые, хмельные от кумыса или горелки, напялив на себя странные одежды – ризы, стихари, русские рясы или даже женское платье, – уже ссорились, учиняли свары и ярмарочный гвалт по поводу того, что кому достанется. Татарские чабаны, сидя возле своих гуртов на земле, развлекались – одни высвистывая на дудках пронзительные мелодии, другие – играя в кости и взаимно колотя друг друга палками. Стаи собак, прибежавших вослед своим хозяевам, лаяли и жалобно выли.
Пан Скшетуский миновал наконец человеческую эту геенну, оглашаемую стенаниями, полную слез, горя и жутких воплей, и решил было, что наконец переведет дух, однако тотчас новое жуткое зрелище открылось его взору. В отдалении, откуда доносилось немолчное конское ржание, серел собственно кош, кишевший тысячами татар, а ближе, на поле, тут же возле тракта, ведущего на Черкассы, молодые воины упражнялись в стрельбе из лука, забавы ради пуская стрелы в слабых или больных пленников, которым долгая дорога в Крым оказалась бы не под силу. Несколько десятков трупов уже лежали на дороге, продырявленные, как решета, некоторые еще дергались в конвульсиях. Те, в кого стреляли, висели, привязанные за руки к придорожным деревьям. Были среди них и старые женщины. Радостному после удачного выстрела смеху вторили восклицания: