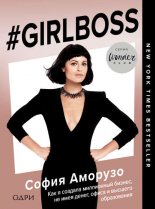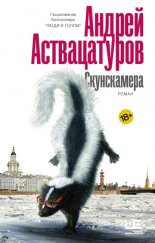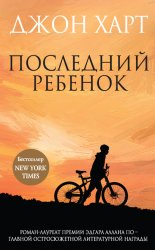Роксолана. Великолепный век султана Сулеймана Загребельный Павел
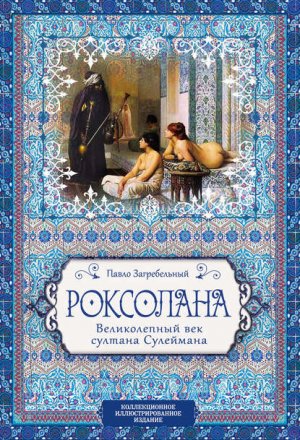
И уже когда Хюррем уснула, он бормотал над спящей, точно колыбельную, из Юнуса Эмре[103], слишком простого для султанов поэта, но такого уместного для данного мгновения:
Станем мы оба идущими по одному пути, Приди, о сердце, пойдем к другу.
Станем мы оба людьми одной судьбы, Приди, о сердце, пойдем к другу.
Не разлучимся мы с тобой, Приди, о сердце, пойдем к другу.
Пока не пришла весть о смерти, Пока не схватила смерть за ворот, Пока не напал на нас Азраил, Приди, о сердце, пойдем к другу.
Спящая Хюррем казалась ему бессмертной. Несмело прикасался к ее шелковистым персям и ощущал ее бессмертие. Она спала, точно корабль на тихих водах, полный жизни, огня и скрытого движения. Словно змея, она никогда не потела, сухой огонь бил из нее даже спящей, обжигал Сулеймана, обращал в уголь, в пепел. Наконец-то нашел он женщину, которая убедила его, что существует на свете нечто более важное, более ценное, нечто выше его самого во всей его недосягаемости. Что же? Она сама. Только она. Была для него утолением жажды, забытьем и воскрешением, давала высвобождение от всего, похожее на сладкую смерть. Тогда он забывал даже о себе самом, освобождался от себя, знал лишь одно: без этой женщины не сможет жить, без любви к ней, без ее любви мир утратит всю свою прелесть, все краски свои, самое же страшное – потеряет свое грядущее. Ибо любовь, как искусство, охватывает и то, что реально существует, и то, что должно когда-то наступить.
Кому об этом расскажешь? Хюррем знала и без того, а больше никто не поймет, не с кем ему поделиться. Разве что с Ибрагимом, с которым давно уже не уединялся, увлекшись ночами с Хюррем, а его оставив для утех с молодою женой.
Словно бы затем, чтобы дать Хюррем полностью прочувствовать счастье нести в себе султанское семя, Сулейман приказал, чтобы ее никто не трогал в гареме, даровал ей отдых и одиночество на несколько дней и ночей, сам же обратился с усердием, могущим показаться чрезмерным, к делам государственным, затем, возобновив давний свой обычай, заперся в покоях Фатиха с любимцем своим Ибрагимом. У них нечасто были такие затяжные разлуки, новая встреча всякий раз щедро орошалась вином, выпив же первые чаши, они разыгрывали на два голоса иляхи дервишей ордена руфаи. Так было и на этот раз. Сулейман, лукаво поглядывая на Ибрагима из-за края золотой чаши, начал то, что в их игре принадлежало ему:
– «Упал мой взгляд, полюбил красавчика араба». Ох! Ох!
– «Хоть и араб он, но очень изысканный», – мгновенно ответил Ибрагим.
Сулейман отставил чашу, прижал руку к сердцу:
– Я сказал: «Мальчик Шамуна, ты не из Дамаска?» Ох! Ох!
Ибрагим, улыбаясь, медленно покачал головой:
– «Нет! Нет! Родом я не из Дамаска, а из Халеба». Ох! Ох!
Один спрашивает, другой отвечает, обязанности распределены давно и твердо, распределение это еще больше укрепилось после вступления Сулеймана на престол, в сущности, Ибрагим своим положением Сулейманова любимца и наперсника обязан был тому обстоятельству, что никогда не давал воли своей врожденной наглости, умел сдерживаться, к тому же делал это незаметно, всегда уступая своему повелителю первое место, и всячески склонял того к мысли, будто они во всем равны и никто из них в этих ночных беседах не имеет никаких преимуществ.
После песенки дервишей можно было бы почитать что-нибудь из скабрезной поэмы Джафара Челеби или из хмельных стихов Ильяса Ревани, но начинать должен был султан, а если уж не начинать, то хотя бы намеком показать Ибрагиму, чего он от него ждет.
– Ты забыл обо мне, – укоризненно произнес Сулейман.
– Я скорее забыл бы собственное имя, ваше величество, – всплеснул руками Ибрагим, искренне обиженный таким упреком.
– Разве может сравниться нудный султан со сладкой Кисайей? – прищурил глаз Сулейман, склоняя Ибрагима к простецкой игривости, в которой находил отдых от постоянного напряжения власти.
Ибрагим одним из первых при дворе узнал о неожиданном увлечении султана рабыней-роксоланкой и тревожился по поводу этого увлечения, может, даже больше, чем валиде, ибо это могло коснуться не только его дальнейшей судьбы, но и самой его жизни. Знает ли уже султан о том, что роксоланка подарена для его гарема именно им, Ибрагимом? А если еще не знает, то когда, и от кого, и как узнает? Ладно, если увлечение пройдет так же необъяснимо, как и началось, и Сулейман забудет о маленькой рабыне и не станет доискиваться, откуда она взялась в Баб-ус-сааде. А если случится непредвиденное? Если этот непостижимый человек приблизит Хюррем к себе надолго, сделает ее кадуной? До сих пор Ибрагим был в руках валиде, теперь зависел и от Хюррем. Вдруг она вспомнит, как была куплена на бедестане, как привел ее Ибрагим в свою ложницу, как, уже отдавая в султанский гарем, пожелал увидеть ее молодое девственное тело? Как немилосердно ревнив Сулейман во всем, что касается его женщин, Ибрагим знал еще со времен Манисы. Однажды, увидев, как молодой мерин пытается залезть на кобылу, шахзаде с удивлением спросил у конюха: это случайно или у мерина в самом деле может что-то быть с кобылой.
Грубый конюх только захохотал на такую наивность принца.
– Бывает, мерин справляется лучше жеребца, бывает, и жеребец неспособен в этом деле заменить мерина.
– Но ведь он лишен пола? – не отставал шахзаде.
– Но не лишен «снасти»!
– А как же евнухи? – спросил тогда Сулейман Ибрагима, словно бы тот должен был разбираться в таких вещах лучше урожденного мусульманина.
Ибрагим пожал плечами. Но у Сулеймана голова была устроена так, что если уж в нее что-нибудь западало, то крепко и надолго. Он стал расспрашивать своего воспитателя Касим-пашу, докапываться, как кастрировали рабов в Мысре, откуда происходил этот нечеловеческий обычай при дворах персидских шахов, сельджукских султанов и его предшественников из рода османов, а потом велел провести осмотр всех евнухов и безжалостно лишить их всего мужского, чтобы не осталось и следа. Когда Касим-паша осторожно намекнул, что не все выдержат столь тяжелое испытание, особенно евнухи пожилые, то есть самые преданные и опытные, испытанные в службе, Сулейман только покривился:
– Тем хуже для них.
То же проделал и в Стамбуле, переполовинив евнухов и в Баб-ус-сааде, и при дворе. Не грозили теперь султанским женам ничем, даже малую нужду не имели чем справлять и вынуждены были носить в складках своих тюрбанов серебряные трубочки для этой цели.
Так что легко было представить, что ждало бы Ибрагима, если бы султан узнал о происхождении своей возлюбленной и о ночах, которые она провела в его доме на Ат-Мейдане. Спасение было разве в том, что рабыня надоест султану прежде, чем он станет интересоваться, как она к нему попала, или же в том – и на это надо было надеяться более всего, – что Ибрагима не выдадут ни валиде, ни сама Хюррем: одна – чтобы не быть в соучастии с греком, другая – чтобы навсегда остаться перед султаном вне всяких подозрений. Но это были все же одни только надежды, а как будет на самом деле, никто не мог знать наперед, даже сам Ибрагим, несмотря на его проницательность и остроту ума. Утешало то, что султан не изменил пока своего отношения к любимцу, значит, еще не знал ничего. Иначе бы не простил. И если не повелел бы немедленно уничтожить неверного друга, то пред царственные очи свои не пустил бы никогда и ни за что – это уж наверное.
О молодой жене Ибрагима заговорил султан тоже, видимо, неспроста.
Может, увлеченность его маленькой Хюррем была такой сильной, что не терпелось похвалиться ее красотой и прелестями, но положение султана не позволяло сделать этого даже перед Ибрагимом, и Сулейман призывал к откровенности своего любимца: пусть тоже хвалит свою Кисайю, и в тех восхвалениях отразится, как в зеркале, увлеченность султана. Для этого достаточно было бы Ибрагиму прочитать строки из Ахмеда Паши: «Локон, кокетничающий на твоей щеке, о друг мой, прекрасный павлин, распускающий крылья и перо, о друг мой…» Но в то же время заставлять султана сравнивать свою любимую с любимой его подданного (пусть и приближенного, пусть и любимца!) – не будет ли это оскорбительным для его высокого достоинства, особенно же принимая во внимание тяжелый Сулейманов характер? Султан не нуждается в свидетелях своих любовных утех, ему не нужны поверенные в его мужской страсти, женщина, которую он полюбил даже на несколько дней, для него выше всех женщин на свете, так что если уж говорить при нем о них, то разве что пренебрежительно или насмешливо.
Все эти мысли, опасения и сомнения пронеслись в голове хитрого грека так быстро, что он ответил на укор Сулеймана почти без задержки, почти мгновенно, и ответил именно так, как хотелось услышать Сулейману.
– Кисайя? – воскликнул Ибрагим, расширяя глаза, словно безмерно удивляясь напоминанию султана о какой-то там не стоящей его внимания личности. – Та дочка набитого дукатами дефтердара Скендер-челебии? Но ведь вы не поверите, ваше величество: она пахнет золотом!
– Золотом? – усмехнулся султан. – Ты сказал – золотом? Я еще никогда не слыхивал о таких женщинах. Может, амброй или мускусом?
– Да нет, именно золотом, ваше величество! Если бы я был старым и она так же стара и от нее пахло золотом, то я утешался бы мыслью, что это запах благополучия. Когда же золотом пахнет от молодой, так и знай – это уже не женщина, а лишь дочь главного дефтердара. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно – только дочь дефтердара: это опротивеет даже самому терпеливому, а я не отношусь к терпеливым, особенно в любовных утехах. К тому же она держит меня в объятиях так крепко, как держит кредитор своего должника. Разве это жизнь, ваше величество?
– Пожалуй, придется подумать о настоящей жене для такого доблестного мужчины, как ты, мой Ибрагим, – сказал султан, по всему видать, довольный сокрушенностью Ибрагима, мысленно сопоставляя свое высокое счастье с куцым счастьем своего любимца. – Но подумаем мы об этом после похода, – добавил султан, не давая Ибрагиму возможности даже поблагодарить, зато удивляя его, как умел удивлять только этот загадочный повелитель.
– После похода?! – воскликнул Ибрагим. – Ваше величество, но мы ведь никуда не отправляемся? Мы сидим в Стамбуле!
– Заветы моих предков требуют, чтобы я выполнял их волю.
Ибрагим молча смотрел на Сулеймана. Уж кто-кто, а он знал беспредельную алчность османов и не пытался отгадать, о каком же завете султану пойдет речь на этот раз.
Султан отпил из чаши, наполненной Ибрагимом, помолчал, потом кинул коротко:
– Остров!
Объяснения были излишни. Ибрагиму слишком хорошо было известно, что ненавистным для османов островом, дразнившим и манившим их еще со времен Мехмеда Фатиха, был Родос, неприступная крепость христианских рыцарей-иоаннитов, которые строили ее и укрепляли уже двести лет, превратив остров в приют для всех христианских кораблей, в убежище корсаров, которые терзали побережье Османской империи, нападали на корабли Порты, захватывали в рабство паломников, плывущих в Хиджаз, на поклонение святым местам, не брезгали поживой, достававшейся им с христианских судов, особенно с венецианских, – а их на море было едва ли не больше всего, так что Пресветлая Республика, когда речь заходила о рыцарях Родоса, всякий раз не могла преодолеть колебаний, считать их друзьями или врагами, принимать их сторону или присоединиться к могучим султанам.
Для Ибрагима султановы слова про остров были не только неожиданными, но и угрожающими. Замахнувшись на остров рыцарей святого Иоанна, султан как бы уничтожал те никчемные остатки личной свободы, которые Ибрагим сохранял глубоко в душе, вспоминая иногда свое детство и свой маленький остров на краю Греции, посреди теплого моря с удивительно прозрачной водой. Был рабом этих исконных сынов материка, жил среди них, приспособился к их обычаям и в то же время чувствовал себя выше них, может, благодаря своему островному происхождению. Когда же непобедимый вал жилистых османских тел зальет и острова, тогда конец его душевной независимости и неведомо в чем придется искать ему опору. Каждый человек стремится быть островом, и властители, наверное, отдают себе в этом отчет и ни за какую цену не хотят позволить людям такую неприступность и независимость.
– Ваше величество, – воскликнул Ибрагим, – я верю, что вы исполните завет ваших великих предков!
– Иначе и не может быть, – спокойно ответил Сулейман, не уловив ни малейшей неискренности в Ибрагимовом голосе, – и мы начнем готовиться к этому если не сегодня, то уже завтра. Ты первый, кому я открылся в своем намерении. Не знаю только, выпустит ли тебя из своих цепких объятий Кисайя, которая держит тебя, как кредитор должника.
Они долго смеялись над Кисайей и над самим Ибрагимом и ночь ту закончили чтением таких скабрезных стихов Джафара Челеби, что даже одной строки, услышанной султаном из чьих-либо иных уст, было бы достаточно, чтобы тот человек лишился головы. Но даже великий султан имеет право на отдых от государственных дел, и единственным человеком, кому дано было об этом знать, был Ибрагим.
В походе против Родоса он оставался великим сокольничим и надзирателем покоев султанских дворцов, а также любимцем падишаха, человеком, которому была дарована честь ехать возле правого султанова стремени. Он не стал ни визирем, ни советником султана, да и не домогался этого положения, разумно уступая место уже прославленным воинам, особенно тем, кто выказал чудеса отваги на стенах Белграда. Правда, породнившись со Скендер-челебией и став еще большим другом Луиджи Грити, Ибрагим теперь мог считать себя одним из самых богатых людей Высокой Порты и охотно вкладывал и свои средства в приготовления к великому походу, уповая если и не на немедленные прибыли, как поступали Скендер-челебия и Грити, то уж на укрепление султановой благосклонности наверняка. Так что когда рубились деревья, плелись канаты, ткались полотна для парусов, ковались якоря, отливались пушки, изготовлялся порох, вялилось мясо, натягивались боевые барабаны, шились зеленые и красные стяги, то делалось все это не только на средства, выданные из султанской казны в Эди-куле, но и на средства Ибрагим-паши. Бывал теперь с султаном ежедневно. Принадлежали ему не только дни, но часто и ночи, пожалуй, страсть Сулеймана к роксоланке шла на убыль, Ибрагим одерживал очередную победу, а это стоило даже острова, всех островов его родного моря!
Неожиданно на диване против похода на Родос выступил великий визирь Пири Мехмед-паша. Уже и в боях под Белградом он часто болел и устранялся от обязанностей сераскера, так что султан вынужден был полагаться то на второго визиря Мустафа-пашу Чобана, то на таких славных своих бегов, как Ахмед-паша или Бали-бек. Теперь старый Пири Мехмед не только сам отказывался идти на Родос, но и не советовал делать этого султану. Все ждали тяжкого гнева султана, но Сулейман был милостив, он даже оставил Мехмед-пашу великим визирем и назвал его своим наместником в Стамбуле на время своего отсутствия, а сераскером поставил Мустафа-пашу. Последнего сделал визирем еще при Селиме не кто иной, как Пири Мехмед. Веселый красивый босняк, который ко всему легко приспосабливался, за что и прозван был Чобаном, Мустафа был простым капиджи у Пири Мехмеда, потом стал капиджибашей и так пришелся по сердцу великому визирю, что тот отважился предложить султану Селиму сделать Мустафу визирем. Селим ответил: «Я еще не сошел с ума, чтобы такого олуха делать визирем, но если хочешь иметь еще и скомороха, то бери». В египетском походе Мустафа-паша проявил чудеса храбрости, возвел роскошный дом над морем, где часто принимал венецианского баила Марка Минио, Луиджи Грити и самого Ибрагима, держался независимо не только из-за своего богатства, но также и потому, что знал, как любит его новый султан, ибо под Белградом Сулейман показал, что превыше всего ставит воинов безумной, дикой храбрости, а Чобан был именно таким.
Назначив Мустафа-пашу сераскером, Сулейман отдал ему в жены свою сестру Хафизу, вдову придворного капиджибаши, убитого султаном Селимом. Для сорокалетнего паши получить в свой гарем жену, которую уже кто-то держал в постели, было бы не слишком великой радостью, если бы эта жена не была султанской сестрой и если бы дал ее не сам султан. Но, вводя безродного босняка в султанскую семью, Сулейман давал понять, что сераскерство для Мустафа-паши – вещь не случайная, что в будущем его ждет и печать великого визиря; и уже Чобан уравнивался с хвастливым Ферхад-пашой, презиравшим всех членов дивана только потому, что был женат на султанской сестре Сельджук-султании, а румелийского беглербека Ахмед-пашу, всеми силами рвавшегося к наивысшей должности в диване, просто уничтожал. Ахмед-паша заменил старого Касим-пашу, воспитателя султана, тот попросился на отдых и готов был уступить место четвертого визиря даже такому рубаке, как румелийский беглербек. Ахмед-паша под Белградом, пожалуй, действительно превзошел храбростью всех, и Сулейман еще по пути в Стамбул осыпал ласками отважного беглербека, и в то же время султан, разбиравшийся в людях, видел, что Ахмед-паша служить для чужой славы не мог. Введенный в диван, он был груб с другими визирями, позволял себе высокомерие даже со старым Пири Мехмедом, разводил сплетни. Султан терпел его только потому, что считал великим воином, а без таких людей – знал это хорошо! – никакого могущества не достигнешь.
Год назад Сулейман отправлялся из Стамбула неведомо куда, отправлялся с невероятной пышностью, вел огромное войско, показывая его столице, но не называя своего врага, которому оно должно было нанести удар. Теперь все знали, куда идет султан, но выступал он из столицы без чрезмерной пышности, и войска никто не видел, так как собиралось оно отовсюду, точно капли дождя в большой темной туче, часть шла по суше, часть должна была переправляться морем – из разных гаваней в разное время вышло девяносто девять легких и семьдесят тяжелых галер, сорок палиндрей, пятьдесят фуст и бригантин, всего свыше трехсот судов, и все взяли курс к берегам Ликии, к Родосу, чтобы прийти туда именно тогда, когда со своими спахиями и янычарами придет сам султан.
Не одно сердце сжалось в тот день, когда отправлялся султан против острова[104], не одни глаза заплакали тайком или открыто, не скрывала своей печали султанская сестра Хафиза, вынужденная разлучиться с любимым мужем, в объятиях коего успела ли и побывать, не смела даже заплакать Хюррем о своем султане, ибо без него оставалась просто маленькой рабыней, пока не родит падишаху сына и не возвеличится теми родами (а если не сына, а если не родит?). «Берегите себя, ваше величество, – сказала она в ночь их расставания, – потеряв вас, я теряю все». Сплела из своих золотых волос тоненький браслет и подарила султану. Залог ее любви или его победы? Ах, какой же непрочный, хотя мало что на этом свете может сравниться в прочности с волосами любимой женщины. Но кому мог поведать Сулейман об этой женщине, о ее словах и ее дивном подарке? Встревоженность и неуверенность сопровождали этот внезапный поход нового султана, и никто бы не взялся предугадать его последствия. Ведь даже великий Мехмед Фатих не мог взять Родос. Его воины взобрались уже было на стены крепости, точно львы, сорвавшиеся с цепи, и уже хотели броситься на разграбление неприступного города рыцарей, когда на них грозно обрушился сераскер Месих-паша: «Грабить запрещается! Все, что есть на Родосе, должно пойти в султанову казну!» Это так расхолодило воинов, что христиане смогли отбить их штурм.
Грозный Селим, завоевавший Сирию, Египет и Аравию, начал строить огромный флот, чтобы напасть на заклятый остров, но скончался, не успев осуществить своего намерения, – словно бы какая-то сила и впрямь хранила христианских рыцарей-разбойников, которые засели за белыми каменными стенами и башнями острова двести лет тому назад, придя туда с Кипра.
Когда из-под стен только что захваченного славными исламскими войсками Белграда Сулейман рассылал гордо-радостные фетх-наме о своей великой победе, он послал письмо и гроссмейстеру родосского ордена Вилье Иль-Адану. Престарелый гроссмейстер уловил в султанской похвальбе угрозу, поэтому не обрадовался победе Сулеймана, а ответил посланием довольно враждебным. Слишком уверенным чувствовал он себя за своими непробивными стенами, да еще и надеясь на поддержку всех христианских властителей, для которых Родос был мечом, нацеленным в самое сердце нечестивых.
Восьмидесятилетний гроссмейстер имел под рукой каких-нибудь полтысячи рыцарей, у молодого султана было, может, полсвета! Месяцы, проведенные в столице после белградского похода, султан потратил не только на врачевание своей сердечной раны, но и на внимательное наблюдение за тем, что происходит вокруг. Новый император испанский Карл дрался за Италию с королем Франции Франциском. Папа римский был озабочен расколом в своей церкви, который внес немецкий монах Лютер. Пресветлая Венецианская Республика, удовлетворившись привилегиями, полученными от султана по заключенному после победы под Белградом договору, не пошлет на защиту Родоса ни единого судна. Остров неминуемо должен стать добычей исламского войска, и свершиться это должно незамедлительно.
Сулейман послал Иль-Адану письмо с предложением сдать остров добровольно. Поклялся Аллахом, творцом неба и земли, Магометом, посланником Аллаха, всеми пророками и всеми святыми книгами, что отпустит Иль-Адана и всех его людей с острова, ибо великий грех – проливать кровь мусульманских воинов, если землю можно взять без боя.
Гроссмейстер не ответил на письмо, да султан и не надеялся на ответ.
Повел большую часть войск по суше. Шли шесть недель под раскаленным солнцем, за день проходили столько, сколько в обычных условиях проходили бы за два. Султанские бостанджии опережали поход, разбивали для падишаха огромный его шатер с золотым шаром над ним, и Сулейман, пока его воины, утомленные за день, отдыхали для нового, еще более тяжелого дня, вершил государственные дела, советовался с визирями и пашами, велел своему верному Джелаледдину писать письма, карал и миловал.
Проходили по горным ущельям, голым, как брюхо дикого осла, по мрачным равнинам, усеянным мертвыми, выжженными солнцем холмами. Где-то здесь бежал после изгнания из рая и ужасался этой земле Адам. Султан призвал в свой шатер мудрецов, сопровождавших победоносное войско, и потребовал от них ответа, чем Адам питался в раю. Седобородые никак не могли прийти к согласию. Один стоял за кабачки, другой был сторонником сельдерея.
– А хлеб? – спросил султан. – Разве он не ел хлеба?
– Хлеб – это уже на земле, – ответил старейший из имамов. – В поте лица. В раю одни плоды. Но не сладкие. За сладкий плод был изгнан. А какие же не сладкие? Могли быть кабачки, мог быть сельдерей, могло быть и еще что-то.
– С чем он вышел из рая? – спросил султан.
Никто не знал. Не думали об этом.
– Бог прикрыл ему срам. Так? Имамы соглашались. Прикрыл.
– Значит, дал ему пояс?
Имамы не возражали.
– За пояс он мог бы заткнуть сельдерей с его длинными листьями. А в руках нести кабачок. Иначе откуда бы у людей были и сельдерей, и кабачок?
Имамы по достоинству оценили высокую мудрость падишаха. «Поистине Аллах объемлющ, знающ! Он дарует мудрость, кому пожелает…»
Султан щедро вознаградил имамов. В таком тяжелом походе нелишним будет, если в войске разнесется слух об ученых спорах в шатре повелителя.
Когда уже добрались до голых красноватых гор Ликии, на краю которых купался в теплом белопенном море непокоренный Родос, к султану привели конийского кадия, обвиняемого в злоупотреблениях при распределении воды для орошения садов и полей вокруг Коньи. Сулейман велел удавить кадия перед войском, чтобы показать простым воинам размеры султанской справедливости. Гонец из Стамбула принес среди других писем неожиданное письмо из гарема. Хитрая Гульфем, не имея возможности пробиться к султану в гареме, подкупила старую уста-хатун, и та дрожащей рукой нацарапала любовное послание к падишаху от верной его одалиски. «Если бы слабая девичья природа, – писала рукой уста-хатун Гульфем, – позволила мне, не запятнав своей чести, полететь отсюда к вам, властитель мой, чтобы увидеть ваше лицо, тело мое со всей неистовостью изголодавшегося коршуна, получившего наконец свободу, ринулось бы к вам, чтобы коснуться губами ваших царственных стоп».
Султан посмеялся и велел послать Гульфем черепаховую шкатулку, украшенную золотом, наполненную отборными жемчугами.
Уже когда он стоял под стенами Родоса, гонец вновь принес письмо из Стамбула, написанное той же старческой рукой, но подписанное уже не Гульфем, а его маленькой Хюррем, письмо странно короткое и не совсем понятное: «Слова замирают на моих устах, и душа моя не может выдержать столь длительной разлуки. А жемчуга ваши я рассыпала, простите меня, великий мой властелин и повелитель». Сулейман не терпел женщин покорных, как агнцы. И мужчин тоже любил только отчаянных, сорвиголов, рубак, готовых ринуться в огонь и в воду, чем как бы дополнял свою сдержанность, степенную медлительность собственной натуры. После коротенького письма Хюррем султан на несколько дней впал в хмурое настроение, никого не подпускал к себе, причин его подавленности не мог разгадать никто, даже Ибрагим и личный врач Сулеймана, мудрый араб Рамадан.
Город рыцарей полукругом обступал скалистую бухту острова, был похож на большой белый полумесяц и уже поэтому должен был стать добычей сынов Ислама – в этом был убежден султан, в это верил самый последний его воин. Кораблями переправляли живую силу с суши, подвозили и устанавливали пушки, мастерили лестницы и боевые передвижные башни, обложили твердыню рыцарей смертельным кольцом, не прорвать которое никакой силе. Но рыцари и не думали прорываться. Все надежды они возлагали на оборону. Флот свой расположили в гавани так, что он не позволял войти туда кораблям турецкого корсара Курдоглу, которому Сулейман присвоил адмиральский титул капудан-паши. Восемь наречий защищали Родос: французы, немцы, англичане, испанцы, португальцы, итальянцы, рыцари из Оверни и Прованса, наречий много – людей мало, всего шестьсот рыцарей. У старого Иль-Адана было под рукой еще шестьсот критских наемников и пять тысяч жителей Родоса, греков, – вот и вся опора. Между тем Сулейманов сераскер Мустафа-паша хвалился, что на каждый камень осажденной твердыни может выставить по воину.