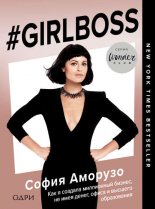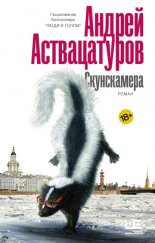Масштаб. Универсальные законы роста, инноваций, устойчивости и темпов жизни организмов, городов, экономических систем и компаний Уэст Джеффри
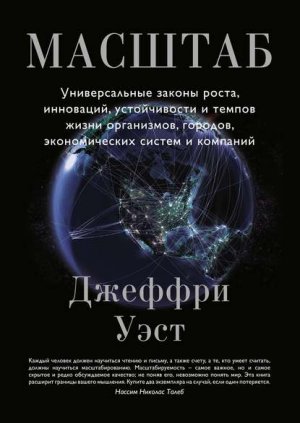
Рис. 28
Рис. 29
Возрастные изменения работоспособности различных органов: зависимость процентной доли максимальной работоспособности от возраста. Отметим быстрый рост в период роста и достижение максимума в районе двадцатилетнего возраста, после которого следует устойчивый линейный спад. Несмотря на такой монотонный спад, здоровая и активная жизнь может продолжаться до весьма преклонного возраста.
Наличие приблизительно инвариантных величин и законов масштабирования в сложных процессах старения и смерти убедительно свидетельствует в пользу того, что эти процессы не произвольны: в них вполне могут действовать некие общие законы и принципы. Еще более завораживающим кажется тот факт, что масштабирование продолжительности жизни следует тем же степенным законам с четвертными показателями, что и все остальные факторы физиологии и жизненного цикла.
Прежде чем мы рассмотрим эту ситуацию более подробно, будет полезно сравнить некоторые ее аспекты с долговечностью автомобилей. К сожалению, существует на удивление мало анализов масштабирования автомобилей и других машин, особенно в отношении их долговечности. Однако гарвардский инженер Томас Макмэн проанализировал данные по двигателям внутреннего сгорания, от используемых в газонокосилках до автомобильных и авиационных, и показал, что они следуют простым изометрическим кубическим законам масштабирования по Галилею, о которых мы говорили в главе 2. Например, мощность таких двигателей в лошадиных силах (аналог уровня метаболизма) линейно увеличивается при увеличении их массы: для удвоения мощности двигателя нужно увеличить его массу в два раза. Таким образом, двигатели, в отличие от организмов, не проявляют экономии на масштабе при увеличении размеров. Макмэн также продемонстрировал, что частота вращения двигателя (ЧВД, аналог частоты сердцебиения) масштабируется обратно пропорционально кубическому корню из его массы[93].
Это резко отличается от степенных законов масштабирования с показателями, кратными , которым подчиняются организмы благодаря своим оптимизированным фрактальным сетевым структурам: уровень их метаболизма (мощность) масштабируется с показателем , а частота сердцебиения (ЧВД) – с показателем –. Тот факт, что двигатели внутреннего сгорания не содержат сложных сетевых структур и не следуют степенным законам масштабирования с четвертными показателями, служит подтверждением теории сетевых основ происхождения четвертного масштабирования в биологии. Раз изготовленные человеком двигатели следуют классическому кубическому масштабированию, можно было бы предположить, что продолжительность их жизни возрастает пропорционально не корню четвертой степени, а кубическому корню массы. К сожалению, мы не располагаем достаточными данными для проверки этой гипотезы. Однако на качественном уровне она предсказывает, что более крупные автомобили должны служить дольше. И действительно, в десятку наиболее долговечных автомобилей входят только крупные пикапы и внедорожники, а в первую двадцатку попадают всего три седана стандартных размеров. Если вас интересует только долговечность, покупайте что-нибудь большое: первое место занимает «Форд F-250», второе – «шевроле-сильверадо», а третье – «шевроле-субурбан».
Сейчас обычно предполагается, что пробег автомобиля может доходить приблизительно до 250 000 км. Собственно говоря, продолжительность жизни автомобилей, как и людей, которые их делают, резко возросла за сравнительно короткое время и почти удвоилась за последние пятьдесят лет. Чтобы представить себе, что это значит, предположим, что типичный автомобиль ездит с усредненной по всему сроку его службы скоростью 50 км/ч и «частотой пульса» 2500 об/мин. Тогда суммарное число «биений сердца» в течение пробега 250 000 км составит около одного миллиарда. Как это ни поразительно, это число не так уж далеко от числа сокращений сердца млекопитающего в течение его жизни. Случайно ли это совпадение или же оно что-то говорит нам об общности механизмов, отвечающих за старение?
IV. К численной теории старения и смерти
Все данные указывают на то, что старение и смертность возникают в результате процессов «амортизации и износа», неизбежно следующих из самого процесса жизни. Как и все остальные организмы, мы метаболизируем энергетические и материальные ресурсы высокоэффективным образом, ведя непрерывную борьбу с неизбежным производством энтропии в виде отходов жизнедеятельности и диссипативных сил, наносящих нам физический ущерб. По мере того как мы начинаем проигрывать многочисленные местные сражения с энтропией, мы стареем, а в конце концов проигрываем и всю войну в целом, то есть умираем. Великий русский драматург Антон Чехов весьма точно заметил, что «только энтропия дается легко».
Главная черта способа поддержания жизни – это передача метаболической энергии через все масштабные уровни заполняющих пространство сетей для обслуживания и питания клеток, митохондрий, дыхательных комплексов, геномов и других межклеточных функциональных модулей, в соответствии с символической иллюстрацией, приведенной на с. 123. Однако те же самые системы, которые поддерживают наше существование, непрерывно повреждают и изнашивают наше тело. Поток машин на автостраде или поток воды в трубах порождают непрерывную амортизацию и износ, приводящие к повреждениям и разрушениям, – и точно то же самое происходит и с потоками в наших сетях. Есть, однако, одно важное различие: в организмах повреждения с наиболее серьезными последствиями случаются на клеточном и межклеточном уровнях, являющихся теми концевыми модулями этих сетей, в которых производится обмен энергетическими и материальными ресурсами, например между капиллярами и клетками.
Хотя повреждения возникают на многих масштабных уровнях в результате действия множества разных механизмов, связанных с явлениями физического или химического переноса, их можно довольно приблизительно разделить на две категории: 1) Классический физический износ, вызванный вязким сопротивлением потока, аналогичный износу, порождаемому трением при движении двух физических объектов друг по другу: такому износу подвергается наша обувь или шины автомобиля. 2) Химические повреждения, вызываемые свободными радикалами, которые являются побочным продуктом производства АТФ в процессе дыхательного метаболизма. Свободные радикалы – это любые атомы или молекулы, потерявшие электрон и, следовательно, имеющие положительный электрический заряд, что делает их чрезвычайно активными. Большую часть повреждений такого рода причиняют кислородные радикалы, реагирующие с жизненно важными компонентами клеток. Особенно разрушительным может быть окислительное повреждение ДНК, поскольку оно приводит в нереплицируемых клетках, например клетках мозга или мускулатуры, к неустранимым нарушениям транскрипционного и, что, вероятно, наиболее важно, регуляторного участков генома. Хотя роль и степень участия окислительных повреждений в процессе старения точно не известны, эта концепция породила целую небольшую отрасль промышленности, в которой противоокислительные добавки (антиоксиданты), например витамин Е, рыбий жир и красное вино, считаются своего рода эликсиром жизни, помогающим бороться со старением.
Огромные возможности и преимущества, которые дает общая количественная теория структуры и динамики таких сетей, и в особенности текущих в них энергетических потоков, состоят в том, что она дает аналитические рамки для расчетов многих других вспомогательных величин – например, кривых роста, показанных в предыдущем разделе, или интенсивности повреждений, влияющей на старение и смертность, о которых мы будем говорить здесь. Эти весьма приблизительные рамки носят очень общий характер и могут включать в себя любую модель старения, основанную на обобщениях механизмов «повреждений», связанных с обсуждавшимися выше общими явленияи физического или химического переноса. Детали механизмов возникновения повреждений несущественны для понимания многих из общих черт старения и смертности, так как наиболее важные повреждения возникают в инвариантных концевых модулях сетей (например, капиллярах и митохондриях), свойства которых не изменяются сколько-нибудь заметным образом в зависимости от размеров организма. Соответственно, уровень повреждений на один капилляр или одну митохондрию остается приблизительно одинаковым независимо от того, о каком животном идет речь.
Поскольку такие сети заполняют пространство, то есть обслуживают все клетки и митохондрии всего организма, повреждения постоянно возникают во всем организме и распределяются по нему приблизительно равномерно, что является причиной приблизительно равномерного пространственного распределения старения и его приблизительно линейного нарастания с возрастом. Именно поэтому, как видно из рис. 27, к семидесятипятилетнему возрасту все части нашего тела изнашиваются примерно в одинаковой степени. Если говорить более детально, из этого следует, что в пределах каждого из органов старение протекает почти равномерно, хотя разные органы могут стареть с умеренно разными скоростями, так как их сетевые системы обладают несколько разными характеристиками, особенно с точки зрения возможностей восстановления.
Поскольку в соответствии со степенным законом масштабирования с показателем более крупные животные имеют более высокий уровень метаболизма, они подвержены большему производству энтропии и, следовательно, большему уровню повреждений, так что можно было бы подумать, что более крупные животные должны иметь меньшую продолжительность жизни, что очевидно противоречит наблюдениям. Однако в главе 3 мы видели, что уровень основного обмена на одну клетку или на единицу массы тканей, а следовательно, и интенсивность повреждений на клеточном и межклеточном уровнях систематически уменьшается с увеличением размеров животных – еще одно проявление экономии на масштабе. Кроме того, как мы уже подчеркивали, наиболее значительные повреждения возникают в концевых модулях сетей, в капиллярах, митохондриях и клетках, а уровень их метаболизма уменьшается при увеличении размеров организма в соответствии со степенным законом масштабирования с показателем . Интенсивность преобразования энергии в клетках крупных животных систематически ниже, чем в клетках мелких организмов. Поэтому на наиболее важном, клеточном уровне степень и скорость возникновения повреждения клеток тем меньше, чем больше размеры животного, что и дает соответствующее увеличение продолжительности жизни.
Вспомним, что такое снижение активности концевых модулей есть результат гегемонии сетевых структур, и порождается оно общей экономией на масштабе при увеличении размеров. Это обстоятельство также отражается в том факте, что число концевых элементов возрастает в зависимости от массы не линейно, а пропорционально массе в степени ; это играет центральную роль в выводе кривых роста и объясняет, почему рост в конце концов прекращается. Поскольку концевые элементы неизменны, суммарный объем повреждений пропорционален только их полному числу и, значит, тоже увеличивается пропорционально массе в степени , то есть прямо пропорционален уровню метаболизма.
Накапливающиеся повреждения, порожденные метаболизмом, неустанно изнашивают весь организм. Для борьбы с этим непрерывным разрушением в нашем теле имеются мощные восстановительные механизмы, также приводимые в действие клеточным метаболизмом и, следовательно, регулируемые теми же законами устройства сетей и масштабирования. Поэтому их включение в вычисление суммарного объема необратимых повреждений не меняет математической структуры уравнения, но влияет на величину конечного результата. Восстановление требует больших ресурсов, а неукоснительное восстановление всех поврежденных элементов требует ресурсов чрезмерно больших и может оказаться невозможным, если учесть огромное число непрерывно происходящих повреждений. Суммарный масштаб восстановления определяется в первую очередь эволюционными требованиями: организмы должны прожить столько, чтобы успеть произвести достаточное с точки зрения конкуренции в генофонде количество потомства.
Поэтому старение развивается приблизительно монотонным образом и в конце концов приводит к смерти. Это происходит в результате совокупного воздействия неустраненных повреждений, которое становится достаточно макроскопическим для все большего нарушения работоспособности организма, как видно из графика, приведенного на рис. 27. В конце концов организм оказывается не в состоянии далее работать и умирает «от старости». Для прекращения жизнеспособности бывает достаточно даже небольшого отклонения или возмущения, например легкого сбоя сердечного ритма. Однако в большинстве случаев смерть наступает еще до возникновения этого состояния, по разнообразным причинам, связанным с ослаблением, например, конкретных органов и/или иммунной и сердечно-сосудистой систем, вызванным накоплением их повреждений. Все основные причины смертности, перечисленные в таблице 4, относятся к этой категории, за исключением, разумеется, смертей, вызванных внешними факторами или ухудшением состояния окружающей среды – несчастными случаями, огнестрельными ранениями, загрязняющими веществами и т. п. Соответственно, вычисление продолжительности жизни, основанное на описанных источниках смертности, только ограничивает максимально возможную продолжительность жизни.
Ее можно оценить, предположив, что необратимо смертельное состояние наступает, когда отношение числа поврежденных клеток (или молекул – например, ДНК) к их суммарному числу в органе или всем теле достигает некоторого критического значения, приблизительно одинакового для всех организмов одной и той же таксономической группы (например, для всех млекопитающих). Другими словами, суммарное число повреждений пропорционально суммарному числу клеток и, следовательно, массе тела. Мы просто хотим установить, сколько времени занимает появление такого количества повреждений, зная, исходя из уровня метаболизма, с какой скоростью возникают повреждения, а также зная, что в среднем каждое отдельное повреждение клетки вызывается приблизительно неизменным количеством энергии. Суммарное число повреждений в течение жизни просто равно произведению интенсивности повреждений (то есть числа повреждений, возникающих за единицу времени, пропорционального суммарному числу концевых модулей) на продолжительность жизни, и оно должно быть пропорционально суммарному числу клеток, а следовательно, массе тела. Значит, продолжительность жизни пропорциональна отношению суммарного числа клеток к числу концевых модулей. Но число концевых модулей масштабируется с массой по степенному закону с показателем , а число клеток масштабируется линейно, из чего следует, что продолжительность жизни должна масштабироваться пропорционально массе в степени , что согласуется с данными наблюдений.
Отметим, что, когда мы обсуждали рост, мы уже видели, что несоответствие между масштабированием источников энергии (концевых модулей), которые являются также и источниками повреждений, и масштабированием потребителей энергии (поддерживаемых клеток) имеет чрезвычайно важные последствия. В одном случае оно обеспечивает прекращение роста, а в другом – увеличение продолжительности жизни более крупных животных. И все это следует из ограничений, накладываемых сетевыми структурами.
V. Проверки, предсказания и следствия: увеличение продолжительности жизни
А. Температура и увеличение продолжительности жизни. Поскольку уровень метаболизма пропорционален числу концевых модулей, а именно в них по большей части возникают повреждения, мы можем непосредственно связать продолжительность жизни с уровнем метаболизма. Это дает альтернативное выражение продолжительности жизни в виде отношения массы тела к уровню метаболизма. Другими словами, продолжительность жизни обратно пропорциональна удельному уровню метаболизма на единицу массы организма и, следовательно, обратно пропорциональна среднему уроню метаболизма его клеток. Выше, когда мы говорили о метаболической теории экологии, мы видели, что эта величина систематически увеличивается с массой тела, следуя четвертному закону масштабирования, и экспоненциально зависит от температуры.
Это дает нам интересную возможность проверки теории путем вывода из нее объяснения систематического и предсказуемого экспоненциального увеличения продолжительности жизни с уменьшением температуры, проиллюстрированного на рис. 24. Отсюда следует, что в принципе продолжительность жизни можно увеличить путем понижения температуры тела, так как это приводит к снижению уровня метаболизма и, следовательно, интенсивности возникновения повреждений. Этот эффект очень силен: напомню, что понижение температуры тела всего на 2 °C может увеличить продолжительность жизни на 20–30 %[94]. Поэтому, если бы вам удалось искусственно понизить температуру своего тела всего на 1 °C, вы могли бы продлить свою жизнь на 10–15 %. Проблема состоит в том, что для получения этого «преимущества» необходимо, чтобы такое уменьшение температуры действовало всю жизнь. Однако еще существеннее то, что значительное понижение температуры тела вполне может иметь другие разрушительные и даже опасные для жизни последствия. Как я уже подчеркивал, изменение одного отдельно взятого компонента сложной адаптивной системы без полного понимания ее многоуровневой пространственно-временной динамики обычно дает непредвиденные результаты.
Б. Сердцебиение и темп жизни. Эти данные также подтверждают масштабирование продолжительности жизни в зависимости от массы с показателем около . Поскольку в применении к сердечно-сосудистой системе теория предсказывает, что частота сердцебиения уменьшается пропорционально массе в степени , в произведении частоты сердцебиения на продолжительность жизни зависимость от массы сокращается: уменьшение первой из этих величин в точности компенсирует увеличение второй, и результат получается инвариантным, то есть равным величине, одинаковой для всех млекопитающих. Но поскольку произведение частоты сердцебиения на продолжительность жизни попросту дает суммарное число сокращений сердца в течение жизни, теория предсказывает, что эта величина должна быть одинаковой для всех млекопитающих, что согласуется с данными, представленными на рис. 2 в главе 1. Это же рассуждение можно распространить на фундаментальный уровень дыхательных комплексов, базовых модулей митохондрий, в которых происходит производство АТФ, и показать, что число реакций получения АТФ, происходящих в течение жизни, также одинаково для всех млекопитающих.
Как я уже отмечал, крупные животные живут долго и медленно, а мелкие – недолго и быстро, но их основные биологические параметры, например суммарное число сокращений сердца, остаются приблизительно одинаковыми. При масштабировании по степенному закону с показателем события жизненного цикла всех млекопитающих ложатся на одну и ту же траекторию, пример которой дает всеобщая кривая роста, показанная на рис. 19. Может быть, все млекопитающие воспринимают последовательность, темп и продолжительность жизни одинаково? Приятное предположение.
Некогда, когда мы были «всего лишь» млекопитающими, это относилось и к нам. Но с возникновением социальных сообществ и урбанизации мы развились в нечто иное, по сути дела отклонившись от ограничений, удерживавших нас в гармонии с природой. Наш эффективный уровень метаболизма возрос стократно; мы удвоили продолжительность своей жизни и уменьшили свою плодовитость. В дальнейших главах мы вернемся к разговору об этих поразительных изменениях и попытаемся понять, как они произошли, используя ту же систему концепций.
В. Ограничение калорий и увеличение продолжительности жизни. Как мы только что видели, продолжительность жизни уменьшается с ростом уровня клеточного метаболизма. Поскольку эта величина систематически уменьшается по всему организму животного с увеличением его массы, на каждую клетку приходится меньшее количество повреждений, что приводит к тому, что большое животное живет дольше. Однако индивидуальная особь каждого вида, например каждый из нас, может уменьшить свой уровень клеточного метаболизма, просто сократив количество съедаемой пищи, что приведет к снижению удельной интенсивности метаболических повреждений на каждую клетку и может увеличить продолжительность жизни. Такая стратегия называется ограничением калорий. Она имеет долгую, довольно бурную историю и была предметом многочисленных исследований на разных животных. Хотя многие из таких исследований показали существенные положительные результаты, в других не было обнаружено значительного эффекта, и положение остается несколько неясным. Почти во всех исследованиях, независимо от наличия или отсутствия увеличения продолжительности жизни, были отмечены некоторые признаки уменьшения старения. Проведение долгосрочных контролируемых экспериментов затруднительно, а проведение исследований на людях невозможно; к тому же многие из этих исследований были недостаточно корректно спланированы. Сам я несколько предубежден в пользу этой идеи, так как верю в лежащую в ее основе теорию и в концепцию того, что снижение уровня метаболизма уменьшает интенсивность повреждений, замедляет процесс старения и увеличивает максимальную продолжительность жизни.
Грубо говоря, теория предсказывает, что максимальная продолжительность жизни, а по экстраполяции и средняя ее продолжительность, возрастает при уменьшении энергопотребления. Если воспринимать теорию буквально, из нее следует, что последовательное уменьшение количества съедаемой пищи на 10 % (то есть на пару сотен килокалорий в сутки) должно позволять прожить на 10 % (до десяти лет) дольше. На рис. 30 показаны данные по энергетическому ограничению, полученные в опытах на мышах, которые проводил в 1980-х гг. Рой Уолфорд, один из ведущих пропагандистов увеличения продолжительности жизни путем энергетического ограничения, работавший тогда патологом на медицинском факультете UCLA[95]. Данные представлены в виде кривых выживаемости групп мышей, которым давали разное количество пищи. Эффект получается действительно очень заметным и согласуется с предсказанным увеличением продолжительности жизни на 10 % при 10 %-м уменьшении калорий. Однако эффект резкого уменьшения калорий в два раза не достигает предсказанного удвоения продолжительности жизни: она увеличивается не на ожидаемые 100 %, а приблизительно на 75 %. Тем не менее тенденции и общая форма зависимости продолжительности жизни от энергопотребления согласуются с теорией.
Учитывая сравнительную простоту теории, это согласие кажется поразительно хорошим. В сочетании с другими успешными предсказаниями (в том числе скорости старения, аллометрического масштабирования продолжительности жизни и ее зависимости от температуры) можно сказать, что теория дает достоверную приблизительную основу для развития более точной количественной теории старения и смертности. Она позволяет получить формулы зависимости скорости старения и максимальной продолжительности жизни от общих, «универсальных» биологических параметров, из которых видно, например, каким образом микроскопические масштабы молекулярных процессов порождают столетний масштаб нашей жизни и почему мыши живут всего по нескольку лет. Таким образом, мы получаем научную основу, на которой могут быть сформулированы вопросы о том, изменение каких параметров может обеспечить продление жизни и прекращение старения – если такова наша цель. Например, объединение законов масштабирования, представленных на рис. 23–30, позволяет получить численную оценку возможностей продления жизни путем изменения температуры тела или уменьшения количества съедаемой пищи.
Более того, поскольку эта теория – лишь часть гораздо более крупной объединенной системы, охватывающей многие аспекты жизненного цикла, она также может помочь при изучении важнейшего вопроса о некоторых из возможных непредвиденных последствий изменения продолжительности жизни. Бездумные попытки вмешательства в «естественны» процессы старения и умирания, будь то с применением генетических или физических методов или волшебного зелья, могут иметь – и имеют – потенциально разрушительные последствия для здоровья и образа жизни. Без опоры на количественную теорию такие манипуляции будут потенциально опасными и безответственными.
Кривые выживаемости для мышей с разными уровнями ограничения калорий, демонстрирующие сопутствующее увеличение продолжительности жизни
Перед завершением этого раздела нельзя не упомянуть о том, что Рой Уолфорд, сыгравший ключевую роль в исследованиях старения, был человеком многосторонних талантов. В частности, еще в молодости он приобрел несколько скандальную известность, когда вместе с другим таким же старшекурсником исследовал рулеточные колеса в одном из казино города Рино, штат Невада, и определил методами статистического анализа, какие из них по случайности были перекошены. Затем они стали ставить крупные суммы на самых несбалансированных рулетках и срывать крупные куши. В конце концов в казино поняли, что происходит, и запретили им играть. Уолфорд потратил свой выигрыш на оплату обучения медицине, а также на годовой яхтенный круиз в Карибском море.
Глава 5. От антропоцена к урбаноцену. Планета, на которой господствуют города
1. Жизнь в экспоненциально расширяющейся Вселенной
Одно из наиболее удивительных и глубоких открытий ХХ в. заключалось в том, что в космическом масштабе мы живем в экспоненциально расширяющейся Вселенной. Не менее глубоким, но гораздо менее разрекламированным открытием было осознание того факта, что и в масштабах нашей планеты мы тоже живем в экспоненциально расширяющейся вселенной, вселенной социально-экономической. Хотя это ускоряющееся социально-экономическое расширение не привлекает к себе такого же внимания, оно оказывало и будет и дальше оказывать гораздо более сильное влияние на нашу жизнь, жизнь наших детей и жизнь их детей, чем все чудеса и парадоксы экспоненциально расширяющейся космической Вселенной со всей ее архетипической мифологией, повествующей о черных дырах, темной материи и Большом взрыве.
Наиболее очевидное проявление экспоненциального характера расширения нашего социального и экономического мира можно увидеть в демографическом взрыве, происходящем приблизительно в течение последних двухсот лет. По имеющимся оценкам, приблизительно после двух миллионов лет медленного, устойчивого роста число людей на планете достигло миллиардной отметки около 1805 г. Но после промышленной революции произошел настоящий взрыв численности человечества. Этот переход можно приписать смене традиционных методов ручной работы на массовое машинное и промышленное производство. Она в большой степени стимулировалась изобретением крупномасштабных производственных процессов, вызванным открытием новых методов использования энергии, накопленной в огромных залежах железной руды и угля. Открывшийся вследствие этого доступ к, по-видимому, неограниченным энергетическим и людским ресурсам, обеспеченный развитием капитализма, индивидуального и коллективного предпринимательства и инноваций, произвел огромные изменения в деятельности человека. Промышленная революция стала социально-экономическим аналогом Большого взрыва. Увеличение численности населения до миллиарда заняло два миллиона лет; прибавление еще одного миллиарда – еще 120 лет, а следующего – менее 35 лет. Следующее удвоение заняло всего 25 лет, и к 1974 г. численность населения достигла 4 млрд, а сейчас, всего 42 года спустя, мы снова почти удвоили эту цифру: современная численность населения Земли превышает 7,3 млрд человек. Таким образом, до самого последнего времени период удвоения систематически уменьшался, что говорит о сверхэкспоненциальном росте. Только в этом году численность населения увеличилась еще на 80 млн человек, эквивалент всего населения Германии или Турции, и ожидается, что к началу следующего века мы достигнем уровня 12 млрд.
Рис. 31. Поразительный сверхэкспоненциальный рост численности мирового населения с момента начала антропоцена, десять тысяч лет назад. Резкий подъем, начинающийся около 1800 г., отмечает начало промышленной революции и урбаноцена
Рис. 32. Параллельно с урбаноценом происходит быстрый рост экономики, что иллюстрирует увеличение ВВП США начиная с 1800 г. Несмотря на многочисленные кризисы, бумы и крахи, оно чрезвычайно хорошо описывается чистой экспонентой (серая пунктирная линия)
Первые изображения всего земного шара, полученные из космоса, сильно повлияли на наше сознание, позволив нам по-новому взглянуть на то, кто мы такие, откуда взялись и чем живем. Возможность впервые увидеть фотографию (см. с. 240, слева) нашей общей матери, давшей жизнь всем 7,3 миллиарда людей, омываемой великолепным светом ее собственного родителя, Солнца, стала настоящим откровением. Наверное, в то время никто не понимал этого лучше, чем писатель и мыслитель-футуролог Стюарт Бранд, убежденно считавший, что изображение всей Земли – это мощный символ, способный вызвать у всех людей, живущих на планете, чувство единства. Он неустанно призывал НАСА опубликовать первые фотографии еще в 1967 г., а затем использовал их для обложки своего чрезвычайно влиятельного «Каталога всей Земли» (Whole Earth Catalog), ставшего одним из величайших символов 1960-х и 1970-х гг.
Не меньшим откровением стали более поздние изображения ночной Земли, не освещенной солнечным светом (см. фото наверху, справа). Если бы лет двести назад существовала техническая возможность сделать такую фотографию, она казалась бы совершенно темной, и на ней ничего не было бы видно. Даже и пятьдесят лет назад это изображение оставалось бы довольно блеклым. Сегодня мы видим совсем другую картину. На великолепных изображениях, полученных спутниками НАСА, Земля кажется покрытой чем-то вроде прекрасной филигранной паутины сверкающих рождественских огней. Сияние этих «ночных огней» – это, конечно же, прямое следствие экспоненциального демографического взрыва и поразительного технического и экономического прогресса, которые его сопровождают. И подавляющее большинство этих огней порождается крупными городами, что свидетельствует о головокружительной скорости нашей урбанизации. Этот символ человека разумного XXI в. воплощает в себе самую суть концепций урбаноцена и масштаба, а потому как нельзя лучше подошел бы для обложки этой книги.
Недавний взрыв численности мирового населения – это поистине поразительное достижение, особенно с учетом того, что, несмотря на существование зон глубочайшей нищеты, одновременно с этим ростом в среднем по миру значительно повысилось и общее качество жизни, определяемое по уровню здоровья, продолжительности жизни и доходам. Рост численности населения традиционно коррелирует с повышением социально-экономических и финансовых показателей – в такой мере, что мы не только считаем экспоненциальный рост нормальным, но и, по сути дела, принимаем его за аксиому. Все наше социальное и экономическое мировоззрение ориентировано на непрерывное решение задач поддержки неограниченного экспоненциального роста.
Кроме того, все уже существующие 7,3 млрд человек и еще несколько миллиардов, которые присоединятся к нам в ближайшие десятилетия, нуждаются в пище, одежде, образовании и уходе. Почти все мы хотим иметь дома, автомобили и смартфоны, мы хотим, чтобы телевидение, кино и видео развлекали нас в комфортных условиях, а многие из нас, кроме того, хотят путешествовать, получать образование и иметь постоянный доступ к интернету. Независимо от различий в наших действиях, материальных желаниях и уровнях благосостояния все мы хотим вести осмысленную, полноценную жизнь. Все вместе мы составляем фантастическую ткань жизни; все мы в той или иной степени взаимодействуем с разнообразными социальными и экономическими процессами, изобретенными человеком, внося в них свой вклад, участвуя в них, извлекая из них блага или перенося причиненные ими потери. Но ничто из этого не может ни происходить сейчас, ни продолжать свое существование в будущем без непрерывного поступления энергетических и материальных ресурсов. При нынешнем положении вещей успешное продолжение нашего существования требует снабжения углем, газом, нефтью, пресной водой, железом, медью, молибденом, титаном, рутением, платиной, фосфором, азотом и многим, многим другим в экспоненциально увеличивающихся объемах.
2. Города, урбанизация и глобальная устойчивость
Наверное, самым великим нашим изобретением была сама сцена, на которой разворачивается все это многоцветие социально-экономических взаимодействий, механизмов и процессов, которые служат двигателем экспоненциального роста, то есть город. Такое мнение высказывает в своей книге «Триумф города»[96] специалист по городской экономике Эдвард Глейзер. Ибо параллельно со взрывным ростом численности населения последние двести лет идет экспоненциальная урбанизация нашей планеты. Город – это хитрый механизм, который мы разработали для поддержки и усиления социального взаимодействия и сотрудничества, двух необходимых компонентов успешного создания инноваций и накопления богатств. Рост численности населения и рост городов, разумеется, тесно взаимосвязаны и, поддерживая друг друга, создают нашу необыкновенную власть над планетой.
В качестве названия последней эпохи в истории нашей планеты, в течение которой деятельность человека стала существенно влиять на экологические системы Земли, был предложен термин «антропоцен». Этот процесс начался более десяти тысяч лет назад с изобретением земледелия и последующим превращением кочевых охотников-собирателей в жителей оседлых сообществ, а затем и возникновением первых городов. До этого времени человек был по большей части существом «биологическим», то есть обычным элементом многогранной экологии Земли – так сказать, ничем не выдающимся млекопитающим, – находящимся в квазиравновесии со всеми другими существами и организмами, составляющими кажущееся бесконечным природное многообразие. Соответственно, численность человечества во всем мире составляла всего несколько миллионов, что отражало динамику нашего взаимодействия с «естественной» окружающей средой, а Земля оставалась по большей части в своем «первозданном состоянии».
Но потом наступила промышленная революция. Хотя деятельность человека существенно изменила значительную часть земного пейзажа еще до ее наступления, именно эта захватывающая последовательность невиданных ранее событий обозначила начало фундаментального перехода в состояние взрывного, сверхэкспоненциального расширения, внесшего за поразительно короткое время непредвиденные изменения в экологию, состояние окружающей среды и климат нашей планеты. Соответственно, некоторые полагают, что моментом начала антропоцена следует считать промышленную революцию, в то время как другие утверждают, что начало этой эпохи относится лишь к середине ХХ в. Кое-кто даже утверждает, что она началась более десяти тысяч лет назад, в начале голоцена, геологической эпохи, в которой на Земле наступило потепление, приведшее к развитию сельского хозяйства и появлению современного человека.
Я всецело поддерживаю столь явное признание масштабов нашего влияния на нашу планету в форме названия новой геологической эпохи, но предпочел бы называть антропоценом весь период, начавшийся несколько тысяч лет назад, когда мы впервые начали значительно отличаться от преимущественно биологического вида и становиться видом преимущественно социальным, увеличивая тем самым эффективный уровень своего метаболизма. С этой точки зрения также следует признать, что мы уже совершили резкий переход из чистого антропоцена в некую новую эпоху, характеризующуюся экспоненциальным ростом городов, которые господствуют теперь на нашей планете. Для обозначения этого гораздо более короткого и насыщенного периода, начавшегося вместе с промышленной революцией, я предлагаю особое название – «урбаноцен». Учитывая всю глубину этого изменения и то, что его будущая динамика должна определить, продолжится ли успешное существование этого поразительного социально-экономического предприятия, я хотел бы для начала повторить кое-что из того, о чем говорилось в первой главе.
К моменту вступления в XXI в. города и глобальная урбанизация стали источником крупнейших проблем нашей планеты со времени образования человеческого общества. Будущее человечества и долговременная жизнеспособность всей планеты неразрывно связаны с судьбой наших городов. Города – это плавильный котел цивилизации, центры инноваций, источник богатства и власти, магниты, привлекающие к себе людей и стимуляторы идей, роста и инноваций. Но у них есть и темная сторона: именно в них в первую очередь сосредоточиваются преступность, загрязнение, нищета, болезни и потребление энергии и природных ресурсов. Быстрая урбанизация и ускоряющееся социально-экономическое развитие породили множество проблем мирового масштаба, от изменений климата и их влияния на окружающую среду до перебоев с пищей, энергией и водой и кризисов здравоохранения, финансовых рынков и глобальной экономики.
Учитывая такую двойственную природу городов, с одной стороны, источника крупнейших наших проблем, а с другой – вместилища творчества и идей и, следовательно, источника решений этих проблем, чрезвычайно актуальным становится вопрос о возможности существования какой-либо «теории городов», то есть системы концепций, позволяющей понять их динамику, рост и развитие и выразить их в предсказуемом численном виде. Такая система жизненно необходима для разработки стратегии, обеспечивающей долговременную устойчивость, особенно в связи с тем, что ко второй половине этого века подавляющее большинство людей будут жить в городах, и многие из них – в мегаполисах невиданных ранее размеров[97].
Среди возникающих перед нами проблем, задач и угроз нет почти ни одной новой. Все они известны нам по меньшей мере с начала промышленной революции. Урбанизация – это сравнительно новое явление глобального масштаба, которое до самого последнего времени не воспринималось всерьез, так как города по большей части играли вспомогательную роль в сравнении с основной массой населения. Они начинают казаться нам надвигающимся цунами, которое может захлестнуть нас только из-за экспоненциального роста урбанизации. Ни пятьдесят, ни даже пятнадцать лет назад большинство из нас знать не знало о глобальном потеплении, о долговременных экологических изменениях, об ограниченности запасов энергии, воды и других ресурсов, о проблемах загрязнения окружающей среды и их влиянии на здоровье населения или об устойчивости финансовых рынков. А если мы о них и слышали, мы считали, что речь идет о временных искажениях, которые рано или поздно должны исчезнуть. Это, несомненно, вопрос спорный, причем большинство политиков, экономистов и идеологов придерживаются довольно оптимистической точки зрения, считая, что наша изобретательность преодолеет все эти затруднения. Сама природа экспоненциального роста такова, что будущее все быстрее становится настоящим, и к тому моменту, когда очередная проблема возникает перед нами, возможность ее успешного разрешения уже оказывается упущенной. Учитывая общее отношение к скрытой угрозе такого экспоненциального расширения, я хотел бы сделать еще одно отступление и описать его последствия, так как кажется, что лишь немногие из обладающих властью и влиянием оценивают их по достоинству.
3. Отступление: что же такое экспоненциальный рост? Несколько поучительных историй
Говоря о расширении Вселенной после Большого взрыва или об огромных социально-экономических переменах, произошедших на нашей планете после начала промышленной революции, я использовал выражения «экспоненциальный рост» или «экспоненциальное расширение», предполагая, что их значение всем хорошо понятно. Более того, я применял понятие «экспоненциальный» несколько вольным образом, без точного объяснения того, что оно означает и подразумевает. Возможно, я недооцениваю уровень знаний и понимания широкой общественности, но то, как слово «экспоненциальный» нередко используется даже хорошо образованными журналистами, видными представителями СМИ, политиками и крупными бизнесменами, заставляет предположить, что они не вполне понимают его значение и неверно представляют себе масштабы того, что оно подразумевает. Собственно говоря, мне часто кажется, что в противном случае нам было бы гораздо легче убедить их в острой необходимости тщательного стратегического учета проблем долговременной устойчивости. Поэтому, боясь показаться педантом, я все же позволю себе сделать небольшое отступление и более подробно обсудить значение этой концепции, играющей в этой книге чрезвычайно важную роль, и следствия из нее.
Подобно словам «импульс» или «квант», слово «экспоненциальный» – это технический термин, пришедший из языка науки, в котором он имеет точно определенное значение. Однако они прижились в повседневном, разговорном языке благодаря тому, что они выражают полезные концепции, не всегда точно передаваемые в повседневной речи. Выражение «экспоненциальный рост» часто понимают просто в смысле роста чрезвычайно быстрого. Например, первое значение слова «экспоненциальный», которое дает мой словарь, – это «стремительно растущий». На самом же деле экспоненциальный рост начинается весьма медленно, почти незаметно, и лишь впоследствии плавно переходит к тому, что можно назвать быстрым ростом. Но дело не только в этом.
Согласно математическому определению, экспоненциально растущее население – это такое население, величина прироста которого (например, в минуту, в сутки, в год и так далее) прямо пропорциональна численности уже существующего населения. Таким образом, сама скорость прироста увеличивается тем быстрее, чем больше численность населения. Например, когда численность экспоненциально растущего населения удваивается, скорость его прироста тоже удваивается, то есть чем больше оно становится, тем быстрее оно растет, и такая положительная обратная связь в конце концов приводит к неограниченному, взрывному увеличению численности. В отсутствие ограничений и численность населения, и скорость его прироста могут стать бесконечно большими.
Все мы хорошо знакомы с одним примером роста такого типа по повседневной жизни, хотя в этом случае его обычно не называют экспоненциальным. Утверждение о том, что скорость прироста в единицу времени прямо пропорциональна текущему количеству, эквивалентно утверждению о постоянном уровне относительного прироста или процентной ставки, что звучит вполне невинно. Это не что иное, как классические сложные проценты, которые используются банками для расчета доходности ваших вложений. Поэтому, когда президенты, министры финансов, премьер-министры или директора компаний заявляют, что уровень роста их стран или организаций составляет в этом году 5 %, или когда банк сообщает вам, что норма прибыли на ваши сбережения равна 5 %, это на самом деле означает, что соответствующие средства увеличиваются экспоненциально, и их абсолютная скорость роста в следующем году должна быть на 5 % больше, чем в этом. Так что, если ничего не изменится, все будут становиться все богаче и успешнее. Даже когда президент мрачно заявляет, что в этом квартале экономический рост составил всего 1,5 %, и подвергается яростной критике за «застойное» состояние экономики, его слова все равно означают, что экономика растет экспоненциально и скорость ее роста по-прежнему становится все большей по мере увеличения ее объемов, но несколько медленнее. При постоянной процентной ставке роста все становятся все богаче и благополучнее, и то, что мы «подсаживаемся» на неограниченный, как на стероидах, экспоненциальный рост, не должно казаться удивительным. Он действительно опьяняет и представляет собой прямое проявление огромного успеха развития нашей экономики.
Рост системы, будь то экономика или популяция, часто выражают при помощи величины, которую называют периодом удвоения: она просто равна тому времени, которое занимает увеличение размеров системы в два раза. Экспоненциальный рост характеризуется постоянным периодом удвоения, что тоже кажется довольно безобидным свойством, пока не поймешь, что это подразумевает, например, что удвоение численности населения с десяти до двадцати тысяч, то есть прибавление всего 10 тысяч человек, занимает столько же времени, сколько удвоение с 20 до 40 млн, при котором добавляется целых 20 млн человек. Как это ни удивительно, период удвоения численности населения мира, как было указано выше, систематически сокращается: удвоение с 500 млн до одного миллиарда заняло 300 лет, с 1500 по 1800 г.; следующее удвоение до 2 млрд – всего 120 лет, а следующее после него, до 4 млрд, всего лишь 45 лет. Эта тенденция проиллюстрирована на рис. 31. Таким образом, до недавнего времени наша численность росла с увеличивающейся скоростью, превышающей чисто экспоненциальный рост! Хотя за последние 50 лет это ускорение стало уменьшаться, численность человечества все еще растет, по сути дела, экспоненциально.
Я не буду приводить других определений и сухой статистики, а лучше расскажу пару забавных историй, которые ярче иллюстрируют эти идеи. Удивительные привлекательность и опасность экспоненциального роста известны уже давно, особенно на Востоке, где сложные проценты понимались и применялись еще в древности. Иллюстрацию этого можно найти в одной из величайших эпических поэм мировой литературы, «Шахнаме», написанной около тысячи лет назад прославленным персидским поэтом Фирдоуси. Это произведение – самая длинная эпическая поэма в мире, ее написание заняло тридцать лет. Приблизительно в это же время в Персии появились шахматы, завезенные туда из Индии, в которой они были изобретены. Фирдоуси отразил популярность этой игры, использовав шахматную доску в качестве иллюстрации особенностей экспоненциального роста. Вот одна из версий этой истории.
Когда изобретатель шахмат показал эту игру царю, тот был настолько увлечен ею, что предложил мудрецу самому назначить себе награду за изобретение столь замечательной и трудной игры. Имея склонность к математике, тот попросил у царя чрезвычайно скромную на первый взгляд награду – всего несколько зерен риса. Однако их следовало отмерить таким образом: за первую клетку шахматной доски он должен был получить одно зернышко, за вторую – два, за третью – четыре, за четвертую – восемь, за пятую – шестнадцать и так далее, удваивая число зерен на каждой следующей клетке. Царь, несколько обиженный столь, по-видимому, убогим ответом на свое весьма щедрое предложение, все же решил удовлетворить просьбу изобретателя и повелел своему казначею отсчитать зерна по предложенной изобретателем схеме. Однако, когда прошла неделя, а казначей все еще не исполнил приказания, царь призвал его и спросил о причинах такой невероятной медлительности. В ответ казначей сказал царю, что для выплаты изобретателю его награды не хватит всех богатств, имеющихся в царстве.
Посмотрим, почему ответ казначея не только справедлив, но и, на самом деле, сильно недооценивает размеры награды. Понять это очень просто. Вспомним, что на шахматной доске есть 64 (8 8) клетки. По условиям определения награды на первую клетку следует положить 1 зерно, на вторую – 2, на третью – 4 и так далее. Таким образом, например, на восьмой клетке (расположенной в правом верхнем углу доски) должно быть 2 2 2 2 2 2 2 = 128 зерен. Однако на последней, 64-й, клетке, расположенной в правом нижнем углу доски, число зерен должно быть равно произведению уже 63 двоек (то есть 2 2 2 2 2 2… 63 раза). Получается поистине астрономическое число: если вы вычислите его на калькуляторе своего компьютера или смартфона, вы увидите, что оно равно 9 223 372 036 854 775 808, то есть немногим меньше десяти миллионов триллионов рисовых зерен! Если ссыпать весь этот рис в одну кучу, она оказалась бы выше Эвереста.
Эта история демонстрирует огромную мощь и абсурдные последствия неограниченного экспоненциального роста. Она также иллюстрирует некоторые из его неочевидных характеристик: рост начинается на удивление меденно, но потом полностью выходит из-под контроля и поглощает все на своем пути. Более того, численность экспоненциально растущего населения в любой момент превышает суммарное число всех особей, существовавших ранее. Например, число зерен на любой клетке всегда больше, чем сумма количеств зерен на всех предшествующих ей клетках, вместе взятых. Таким образом, сейчас на нашей планете живет больше людей, чем их всего жило с момента начала экспоненциального роста и до сих пор. Поэтому достижение уровня численности населения, которое потенциально будет невозможно прокормить, или, по-видимому, «бесконечной» численности может случиться в системе довольно неожиданно, что и иллюстрирует самым убедительным образом наша следующая поучительная история. Как будет показано ниже, в естественных сообществах, находящихся на стадии экспоненциального роста, например лесах или колониях бактерий, обычно существуют естественные механизмы обратной связи, порождающие экологические пределы роста, часто связанные с конкуренцией и ограниченностью ресурсов окружающей среды.
Это подводит меня ко второй поучительной истории, касающейся вопроса несколько талмудического свойства. Речь идет о гипотетическом мысленном эксперименте, основанном на реальном процессе роста колоний бактерий. Предположим, что мы хотим приготовить партию антибиотика – например, пенициллина, – и начинаем этот процесс с одной бактерии. Допустим простоты ради, что нам известно, что раз в минуту наша бактерия делится на две абсолютно одинаковые дочерние бактерии. Таким образом, через минуту мы получаем две бактерии, каждая из которых еще через минуту тоже делится на две, что дает нам уже четыре бактерии. Еще через минуту их становится 8, затем 16 и так далее: через каждую следующую минуту их число удваивается. Аналогия с экспоненциальным ростом числа зерен на шахматной доске очевидна. Допустим, мы начали процесс роста в восемь утра и тщательно рассчитали, что контейнер должен быть целиком заполнен бактериями ровно к полудню. Вопрос: в какой момент между восемью утра и полуднем контейнер будет заполнен наполовину?
Те, кто отвечает на этот вопрос неправильно, обычно считают, что этот момент наступит где-то несколько позже середины промежутка между 8:00 и 12:00, например в 10:30 или в 11:15. Правильный ответ, удивляющий многих, состоит в том, что этот момент наступает в 11:59, всего за одну минуту до полудня. Вы, конечно, поняли, в чем тут дело: раз численность бактерий удваивается каждую минуту, она должна быть равна половине итоговой численности за одну минуту до окончания процесса, то есть до полудня – в 11:59 утра.
Я хотел бы несколько развить этот мысленный эксперимент и, так сказать, обратить время вспять: за 1 минуту до полудня контейнер заполнен наполовину; за 2 минуты до полудня – лишь на четверть ( = ), за 3 минуты – на 1/8 ( ) и так далее. В 11:55, всего за 5 минут до полудня, контейнер заполнен всего лишь на 1/32 ( ), то есть бактерии занимают лишь около 3 % его объема, и их почти не видно. Аналогичный расчет показывает, что в 11:50, когда до полудня остается всего 10 минут, контейнер заполнен всего на 0,1 % и кажется совершенно пустым. Только за последние несколько минут, соответствующие малой доле всего периода существования этой бактериальной вселенной, и непосредственно перед ее неожиданным концом в контейнере происходит хоть что-то заметное.
Теперь взглянем на эту историю с точки зрения бактерий, населяющих эту колонию. Даже по прошествии 100 поколений, что соответствует 100 минутам «реального времени» и эквивалентно приблизительно двум тысячам лет «человеческого времени» (если отводить на каждое поколение по 20 лет), жизнь остается прекрасной, пищи имеется сколько угодно, и сообщество бактерий продолжает разрастаться и осваивать свою маленькую вселенную. Даже через 200 поколений кажется, что все идет превосходно, и даже через 235 поколений все выглядит совсем неплохо, хотя некоторые из бактерий, возможно, уже осознали, что их вселенная имеет «границы», и впервые обнаружили, что еды начинает немножко не хватать. Вскоре после этого, после 239 удвоений, когда численность популяции достигает абсурдно огромного значения 1071 (триллиона, возведенного в миллионную степень), положение начинает казаться ужасным уже всем, и действительно, всего через одно поколение приходит конец!
Хотя эта маленькая история не вполне точна в деталях – время удвоения числа бактерий обычно бывает ближе к тридцати минутам, чем к одной, и, что еще важнее, мы не учитывали такие эффекты, как производство токсичных отходов и вызываемое ими умирание клеток, – основной принцип неограниченного экспоненциального роста и его следствия вполне реалистичны. Выше на рисунке приведена иллюстрация кривой роста и жизненного цикла бактериальных колоний, которую можно найти в любом учебнике начального курса экологии. Как вы видите, она описывает ту же самую историю, которую я только что рассказал: быстрый рост, сопровождающийся застоем и крахом. Важнее всего то, что речь идет именно о замкнутой системе, в которой ресурсы, доступные колонии, остаются конечными, как в пробирке, о которой говорилось в моей истории. Именно в такую ситуацию замкнутой системы мы поставили себя на Земле, почти исключительно используя ископаемые виды топлива и не пытаясь сохранить открытую систему, получающую энергию от Солнца. Хотя экспоненциальный рост является ярким свидетельством поразительных достижений нашего биологического вида, в нем заложены зерна нашей потенциальной гибели и предвестники тяжелейших проблем, ожидающих нас в самом ближайшем будущем.
4. Расцвет промышленного города и РОСТ его тревог
Я привел эти несколько провокационные поучительные истории не только в качестве иллюстрации значения и следствий неограниченного экспоненциального роста, но и для подготовки к дальнейшему обсуждению глобальной экологической устойчивости. Их трудно воспринимать иначе, как с антропоцентрической точки зрения, в качестве эпической саги о современном человеке, обреченном на трагическую и сравнительно стремительную гибель, о которой он не подозревает почти так же, как эти бактерии. Можно ли считать эти истории реалистичными метафорами того, что мы сами делали за последние двести лет? Нужно ли нам готовиться к худшему или, по меньшей мере, ограничивать свою расточительность? Или же это просто мифы, басни, обманчивые в своей простоте, а человеку суждено продолжить свой путь к еще более блестящему будущему, в котором его ожидает здоровье, богатство и процветание?
Эти и подобные вопросы породили весьма оживленные и продолжающиеся до сих пор дискуссии, начавшиеся вскоре после того, как промышленная революция запустила механизм экспоненциального роста. Переход от обработки земли и кустарного ручного производства к автоматическим машинам и созданию фабрик для массового производства товаров, технологические нововведения и повышение производительности сельского хозяйства, появление новых процессов химического производства и черной металлургии, увеличение эффективности использования гидроэнергетических ресурсов и все более широкое применение пара, стимулируемое переходом с обновляемых ресурсов древесины на ископаемое угольное топливо, – все эти факторы внесли свой вклад в неизбежную миграцию все большего количества людей из традиционных сельских поселений в быстро растущие городские центры, открывавшие, как считалось, более широкие возможности в поисках работы. Этот процесс с не меньшей интенсивностью продолжается по всему миру и по сей день[98].
Огромные перемены, принесенные промышленной революцией, породили множество состоятельных промышленных предпринимателей и владельцев заводов, а также возникновение устойчивого и все более влиятельного среднего класса, но участь недавно урбанизированного рабочего класса, будь то на шахтах или на заводах, была ужасной. Вспомним образ Лондона, описанный Диккенсом в «Оливере Твисте»: город, изобилующий преступностью, грязью, болезнями и лишениями, в котором живет в совершенной нищете огромное чсло рабочих. Городские трущобы, возникшие в результате быстрого роста численности населения и индустриализации, славились своей перенаселенностью, антисанитарией и жалкими условиями жизни.
Таким городом был во многих отношениях Манчестер, центр стремительно развивающейся текстильной промышленности и, следовательно, важный фактор для осуществления британского стремления «править морями», обеспечивающий поставки сырья, в частности хлопка, бывшего подлинным символом промышленной революции. Манчестер стал первым в мире промышленным городом; его население, составлявшее в 1771 г. чуть более 20 тысяч человек, к 1831 г. увеличилось в шесть раз, до 120 тысяч, а к концу XIX в., еще через семьдесят лет, превысило два миллиона. История развития Манчестера стала моделью, которая многократно воспроизводилась – и воспроизводится до сих пор – по всему миру, от Дюссельдорфа и Питтсбурга до Шэньчжэня и Сан-Паулу.
Оглядываясь на мегаполисы прошлого, такие как Лондон и Нью-Йорк, можно заметить, что они имели ту же дурную репутацию, которую получают мегаполисы нынешние, например Мехико, Найроби или Калькутта. Вот как описывались 150 лет назад рабочие манчестерских текстильных фабрик: «ужасная правда заключается в том, что хорошо сложенные мужчины превращаются к сорокалетнему возрасту в непригодных к работе стариков, дети становятся изможденными и искалеченными и тысячи и тысячи их гибнут от чахотки [туберкулеза], не дожив и до шестнадцати лет». Тем не менее, несмотря на беззастенчивую эксплуатацию и ужасные, бесчеловечные условия жизни и работы, эти города стали высокодинамичными, быстро развивающимися многогранными сообществами, открывающими огромные возможности, которые в конце концов превратили многие из них в двигатели мировой экономики. Приблизительно то же самое можно предположить в отношении мегаполисов, возникающих сейчас в Африке, Азии и других частях света. Как пишет американский архитектор и градостроитель Андре Дуани, «в 1860 г. в столичном городе Вашингтоне с населением 60 тысяч человек были неосвещенные улицы и открытые сточные канавы, а по его главным проспектам разгуливали свиньи. Условия жизни в нем были хуже, чем в худшем из наших нынешних городов. Надежда есть».
Говоря о расцвете викторианских мегаполисов и тяготах жизни «рабочей бедноты», я не могу устоять перед искушением и не привести здесь несколько личных воспоминаний. Хотя я родился в английской сельской местности, в графстве Сомерсет, у меня были родственники, жившие в лондонском Ист-Энде, и по странной случайности я провел там несколько лет, когда учился в последних классах средней школы. Ист-Энд возник в результате стремительного расширения Лондона в конце XIX в. и стал одним из самых бедных и перенаселенных районов города, превратившись из-за этого в рассадник болезней и преступности. Вероятно, самым знаменитым из ист-эндских преступников всех времен был печально известный Джек-потрошитель. Поддерживая эту сомнительную традицию, мой сосед по парте, сидевший рядом со мною в двух последних классах этой школы, стал впоследствии самым разыскиваемым преступником Британии. В то время значительная часть Ист-Энда по-прежнему считалась трущобами и все так же источала диккенсовскую атмосферу, особенно в зимние месяцы с их короткими днями, темно-серым небом и спускавшимся на город классическим клубящимся туманом цвета горохового супа – идеальные декорации для какого-нибудь расследования Шерлока Холмса.
Учась в старших классах, я нанимался на летние каникулы чернорабочим на местные пивоварни. Первый такой опыт я получил летом 1956 г., когда мне было пятнадцать лет. Дело было на старой пивоварне Taylor Walker в районе Лаймхаус, расположенном рядом с доками на северном берегу Темзы, который пользовался тогда особенно дурной славой даже по сравнению с другими частями Ист-Энда. Лаймхаус фигурирует во многих книгах и фильмах и сохранился с викторианских времен почти неизменившимся. В 1956 г. он все еще славился своей преступностью, хотя опиумные притоны, описанные Диккенсом в «Тайне Эдвина Друда», к тому времени давно исчезли.
Пивоваренная компания была основана в 30-х гг. XVIII в., а ее здание было построено в 1827 г. и частично отремонтировано в 1889-м. Это было типичное викторианское фабричное здание красного кирпича с плохим освещением, плохой вентиляцией и довольно ужасающими условиями работы, не изменившимися более чем за столетие. В мои обязанности входила бесконечная и бездумная погрузка ящиков с пивными бутылками на вертикальный конвейер, по которому использованные бутылки поступали в мойку и под повторный розлив пива. Приблизительно раз в пять секунд мне нужно было засовывать в древнюю чугунную машину очередной тяжелый ящик, и это продолжалось без остановки девять с половиной часов в сутки, пять с половиной дней в неделю (с учетом ежедневного часа сверхурочной работы и половинного рабочего дня в субботу) с часовым обеденным перерывом и двумя перерывами по пятнадцать минут, утром и после обеда. Это была самая тяжелая работа, которую мне когда-либо приходилось выполнять (может быть, за исключением только работы по теории струн и участия в руководстве Институтом Санта-Фе во время рыночного краха 2008 г.). Я возвращался домой (дорога занимала час) совершенно изможденным, съедал обильный ужин и засыпал к 8:30 вечера, а в 6:30 следующего утра мне уже пора было вставать.
В перерывах появлялся словно сошедший со страниц Диккенса человек в замызганном длинном кожаном фартуке, с большим грязным железным ведром в руках, к которому железной цепью была привязана обшарпанная оловянная кружка. В ведре было самое дешевое темное пиво Taylor Walker, и мы имели возможность пить его из этой самой оловянной кружки в неограниченных количествах. Нужно ли говорить, что кружку никогда не чистили и даже не ополаскивали перед употреблением. Бог знает, какие болезни я там подхватил; во всяком случае, своей маме я ничего об этом не рассказывал. За все это я получал 1 шиллинг и 11 пенни в час, то есть чуть меньше одной десятой фунта (десяти пенсов в современной системе), или около 15 американских центов. Это не так мало, как кажется: с учетом инфляции эта сумма приблизительно соответствует 2,18 фунта (около 3 долларов) в сегодняшних деньгах.
Для пятнадцатилетнего мальчика это был очень неплохой заработок, и за эти два или три летних месяца я накопил достаточно, чтобы устроить себе скромные каникулы с путешествием автостопом и наслаждаться всем, что Лондон мог предложить подростку, в течение остального года. Но если бы я был тридцатилетним мужчиной, содержащим жену и троих детей, бог знает, как бы я сводил концы с концами, даже получая в два раза больше. Условия и перспективы были чрезвычайно мрачными, хотя они, несомненно, улучшились по сравнению с положением, существовавшим на сто пятьдесят лет раньше, когда рабочий день составлял двенадцать часов, а рабочая неделя – шесть дней, и на шахтах и фабриках повсеместно использовался детский труд. Хотя мои политические симпатии были на стороне консерваторов, то, что я увидел в большом городе, на обоих концах экономического спектра, оказало на меня, как и на многих до меня, большое влияние. Многие мыслители, выросшие в уютных условиях верхнего слоя среднего класса, от Маркса и Энгельса до Джорджа Бернарда Шоу и членов Блумсберийского кружка, а также Клемента Эттли и его коллег по послевоенной Лейбористской партии, были шокированы нищетой и лишениями, которые они видели в лондонском Ист-Энде, на ланкаширских фабриках или в угольных копях Южного Уэльса.
Очень легко забыть о том, что тяжелые, антисанитарные условия работы были нормой для многих рабочих задолго до промышленной революции. Все те пороки, которые мы приписываем индустриализации и урбанизации – будь то детский труд, антисанитарные жилищные условия или долгие рабочие часы, – были столь же распространены и в доиндустриальном обществе. Более того, значительное уменьшение младенческой и детской смертности и, следовательно, быстрое увеличение скорости прироста населения было вызвано именно усовершенствованиями, принесенными наукой и Просвещением. Кажущееся ухудшение жизни городского промышленного рабочего по сравнению с жизнью работника сльского отчасти связано с образом бесчеловечной жестокости заводов и шахт, противопоставляемым картине труда на земле, но также с тем, что экспоненциальный рост привел к огромному увеличению масштабов и распространенности этих проблем. Те же доводы остаются в силе и сейчас, когда многим кажется, что жизнь была гораздо приятнее, когда все мы якобы жили в маленьких деревнях и городках и еще не утратили то ощущение общности и взаимосвязанности, по-видимому отсутствующее в суете современного города. Мы вернемся к этому вопросу позже, когда будем говорить о динамике городов, и я покажу, что ускоряющийся темп жизни является неотъемлемым элементом неограниченного роста экономики, на который все мы привыкли полагаться независимо от того, живем ли мы в суетливом городе или в сонной провинциальной деревне.
5. Мальтус, неомальтузианцы и поклонники великой инновации
Обычно считается, что лавры первого человека, осознавшего потенциальную угрозу, создаваемую неограниченным экспоненциальным ростом, и связавшего ее с проблемой ограниченности доступных ресурсов, принадлежат Томасу Роберту Мальтусу. Мальтус был английским священником и одним из первых ученых, внесших свой вклад в недавно возникшие дисциплины экономики и демографии и исследовавших их значение для долговременной политической стратегии. В 1798 г. он опубликовал чрезвычайно влиятельную работу под названием «Опыт о законе народонаселения»[99], в которой заявил, что «умножение населения бесконечно превосходит умножение возможностей земли производить пропитание для человека». Он утверждал, что население «умножается геометрически», то есть растет по экспоненциальному закону, в то время как возможности производства продовольствия и снабжения им – лишь «арифметически», то есть увеличиваются в гораздо более медленной линейной прогрессии, и рано или поздно численность населения должна превзойти имеющиеся продовольственные ресурсы, что приведет к катастрофическому краху.
Мальтус заключил, что предотвращение такой катастрофы и обеспечение жизнеспособности населения требуют каких-то мер по регулированию его численности. Такое ограничение может быть следствием «естественных» причин, например распространения заболеваний, голода или войн, или, что более предпочтительно, изменений в социальном поведении, особенно среди рабочей бедноты, в темпах воспроизводства которой он видел корни этой проблемы. Будучи убежденным христианином, Мальтус не особенно приветствовал идею контрацепции и больше ратовал за моральные ограничения, например в форме воздержания, поздних браков и ограничений браков безнадежных бедняков, а также физически и умственно больных. Звучит знакомо, не правда ли? Учитывая глубокие религиозные и нравственные убеждения Мальтуса, вопрос о том, стал ли бы он горячим сторонником массовой стерилизации или свободы абортов, если бы такие возможности существовали в то время, остается весьма спорным. Однако он, несомненно, поддержал бы политику «одного ребенка», проводимую в Китае. Нечего и говорить, что у современных неомальтузианцев нет таких религиозных или этических возражений против искусственного контроля рождаемости, абортов и даже программ стерилизации, если, конечно, они проводятся на добровольной основе.
К сожалению, анализ Мальтуса был понят в том смысле, что бедняки сами виноваты в своих несчастьях, так как упорно продолжают размножаться со слишком большой скоростью. Поэтому было сравнительно легко заключить, что именно это, а не эксплуатация капиталистами, является причиной как их бедности, так и ужасных условий их существования вообще. Из этой идеи классические мальтузианцы делали дальнейший вывод о том, что меры благотворительности и покровительства бедным, как государственные, так и частные, нецелесообразны, так как приводят лишь к увеличению их численности, тем самым еще более способствуя экспоненциальному росту числа бедняков, не способных к самостоятельному существованию, что в конце концов должно привести к банкротству страны. Разнообразные современные версии этого рассуждения нам также хорошо знакомы. Эти идеи неизбежно вызвали бурную дискуссию, не утихавшую в течение следующих двух столетий и, в более широком контексте, продолжающуюся с не меньшей интенсивностью и до сих пор.
То, что эти споры ведутся и сейчас, в некотором смысле удивительно, потому что большинство авторитетов в области общественных наук и экономики подвергли идеи Мальтуса серьезной критике и отвергли их чуть ли не сразу после того, как он их высказал, – и, как мы увидим, небезосновательно. За последние двести лет его теорию яростно критиковали и продолжают критиковать представители самых разных направлений, от марксистов и социалистов до либертарианцев и сторонников свободного рынка, от социал-консерваторов до феминистов и защитников прав человека. Классический пример такой критики, который лично я нахожу особенно забавным, можно найти у Маркса и Энгельса, которые заклеймили Мальтуса «лакеем буржуазии». Эта формулировка хорошо звучала бы в пародийном скетче, снятом о них группой «Монти Пайтон».
Вместе с тем идеи Мальтуса оказали влияние на ряд выдающихся мыслителей, хотя многие из них и не вполне соглашались с его высказываниями. В их число входят великий экономист Джон Мейнард Кейнс, а также создатели теории естественного отбора Альфред Рассел Уоллес и Чарльз Дарвин. Впоследствии, по мере роста озабоченности проблемами глобальной устойчивости, идеи Мальтуса были распространены на вопросы ограниченности ресурсов вообще (а не только пищевых), с основным акцентом не столько на бедноту или даже на рост численности населения, сколько на общие вопросы состояния окружающей среды, изменения климата и осознание того, что эти проблемы выходят за пределы географических зон или экономических классов.
Однако среди специалистов по экономике и социальным вопросам традиционного направления мальтузианская теория с ее выводами о неизбежной и скорой катастрофе стала настоящим жупелом. Большинство из них считает базовые предпосылки этой теории фундаментально ошибочными, и существуют многочисленные данные, подтверждающие это мнение. Вероятно, наиболее важен тот факт, что, вопреки ожиданиям Мальтуса, производительность сельского хозяйства возрастала со временем вовсе не линейно, а следовала за экспоненциальным ростом численности населения. Кроме того, рождаемость стабильно падала, и столь же стабильно повышался уровень жизни. По мере роста средней заработной платы и облегчения доступа к средствам контрацепции трудящиеся стали размножаться меньше, а не больше.
Я почти не встречал экономистов, которые не отвергали бы с порога мальтузианские и другие подобные им идеи о неизбежном или скором крахе, считая их наивными, чрезмерно упрощенными или попросту неправильными. И вместе с тем я почти не встречал физиков или экологов, которые не считали бы безумием противоположную им точку зрения. Возможно, лучше всего их точку зрения сформулировал покойный экономист-диссидент Кеннет Боулдинг, когда он выступал в Конгрессе США: «верить, что экспоненциальный рост может бесконечно продолжаться в конечном мире, могут либо сумасшедшие, либо экономисты».
Большинство экономистов, социологов, политиков и крупных предпринимателей обычно обосновывают свой оптимизм ссылками на классическую мантру об «инновациях», которые они считают волшебной палочкой, способной удерживать нас на плаву в условиях экспоненциального роста. Они справедливо указывают, что именно наши необычайные изобретательность и восприимчивость к новому, в большой степени порождаемые свободной рыночной экономикой, непрерывно подпитывают экспоненциальный рост и повышение уровня жизни. Исходная посылка Мальтуса оказалась ошибочной в связи с непредвиденным технологическим прогрессом в сельском хозяйстве, который стимулировали дух и открытия Просвещения и промышленной революции. Этот прогресс дал нам такие изобретения, как молотилка, сноповязалка, хлопкоочистительная машина, паровой трактор и чугунный плуг со стальным лемехом, а также усовершенствование севооборота и распространение удобрений промышленного производства. Все это внесло огромный вклад в повышение производительности благодаря увеличению урожаев и механизации процессов, которые в течение предыдущих десяти тысяч лет выполнялись в основном вручную. В 1830 г. выращивание ста бушелей пшеницы требовало почти трехсот человеко-часов; к 1890 г. эта цифра составила менее пятидесяти. Сегодня она равна всего нескольким человеко-часам.
То самое время, в которое мы живем, стало свидетелем поразительного развития этой потрясающей революции в производительности производства пищи, вызванного все большей индустриализацией сельского хозяйства. В производстве продуктов питания развитых стран господствуют гигантские агропромышленные консорциумы, применяющие науку и технику для максимизации урожаев и оптимизации распределения. Такая механизация производства пищи, при которой мясо, рыба и овощи, по сути дела, изготавливаются на конвейерах огромных заводов подобно автомобилям или телевизорам, быстро распространяется по всему миру, обеспечивая миллиарды человек едой по доступным ценам.
Просто чтобы представить себе масштаб этих перемен, отметим, например, что в 1967 г. в Соединенных Штатах существовало около миллиона свиноферм, а сегодня их число составляет всего лишь порядка 100 тысяч, и более 80 % выращиваемых свиней происходят именно с этих специализированных ферм. Всего четыре компании производят сейчас 81 % крупного рогатого скота, 73 % овец, 57 % свиней и 50 % кур, необходимых для потребления в Соединенных Штатах. В мировом масштабе таким образом производится 74 % всего птичьего мяса, 43 % говядины и 68 % яиц. В связи с этим сейчас в сельском хозяйстве работает лишь немногим более 1 % населения США, а в 1930-х гг. эта доля составляла около четверти населения, причем каждый сельскохозяйственный работник в среднем обеспечивал пищей приблизительно одиннадцать потребителей. Сегодня эта цифра ближе к ста. Такое огромное увеличение производительности и столь же огромное уменьшение потребности в сельскохозяйственной рабочей силе были одним из важных факторов экспоненциального роста численности городского населения.
Думая о долговременной устойчивости, трудно не согласиться с правотой «инновационной» логики. Достаточно вспомнить о поразительном разнообразии новых приборов, машин, устройств, процессов и идей, созданных за последние двести лет, не говоря уже о последних двадцати. Планета, как будто на стероидах, открывает перед нами нескончаемую, невообразимую, экспоненциальную череду чудесных сокровищ – от самолетов, автомобилей, компьютеров и интернета до теории относительности, квантовой механики и естественного отбора, – которые и не снились ни Али-Бабе, ни Горацио.
По данным Всемирного банка, одна из основных целей развития тысячелетия, установленных ООН в 2000 г., а именно уменьшение уровня бедности в два раза по сравнению с 1990 г., была достигнута с опережением графика, не в 2015 г., как намечалось, а в 2010-м. Более того, современные люди в среднем живут дольше и с более высоким уровнем жизни, чем когда-либо раньше. Но это лишь одна сторона медали. Вторая состоит в том, что половина населения мира до сих пор существует менее чем на 2,5 доллара в день, что более миллиарда человек не имеют достаточного доступа к чистой питьевой воде или достаточного количества пищи. Кажется, что, несмотря на все наши блестящие успехи, где-то на заднем плане все еще маячит угроза мальтузианской катастрофы.
Эта точка зрения была ярко выражена почти пятьдесят лет назад в пользовавшейся огромным успехом научно-популярной книге «Демографическая бомба», которую опубликовал в 1968 г. эколог Пол Эрлих[100]. Он начал свою книгу со следующего провокационного вызова:
Битва за обеспечение пищей всего человечества закончена. В 1970-х гг. сотни миллионов человек умрут от голода, несмотря на все запускаемые сейчас экстренные программы. Сейчас уже ничто не способно предотвратить значительное увеличение мирового уровня смертности…
Высказывались и другие столь же ужасные пророчества (например: «Я не вижу, как Индия сможет к 1980 г. прокормить еще двести миллионов человек), и предлагался целый ряд драконовских мер, способных умерить неумолимо надвигающуюся катастрофу, в число которых входила и насильственная стерилизация.
Вскоре после этого, в 1972 г., было опубликовано исследование под названием «Пределы роста», которое выполнили в MIT Деннис Медоуз и Джей Форрестер[101]. Оно было сосредоточено на изучении влияния конечности ресурсов на продолжение экспоненциального роста, а также на возможных последствиях дальнейшего существования «как обычно». Спонсором этого исследования была организация под названием «Римский клуб», сообщество выдающихся «граждан мира, объединенных общей заботой о будущем человечества», в которое входят бывшие главы государств, дипломаты, ученые, экономисты и предприниматели со всего мира. Эта работа была первой серьезной попыткой создать модель возможных сценариев глобальной устойчивости на основе имеющихся данных в сочетании с компьютерными моделями производства продовольствия, роста численности населения, индустриализации, использования невозобновляемых ресурсов и загрязнения окружающей среды. В этом отношении она стала прообразом последующих серьезных попыток моделирования будущего планеты, в том числе и недавно разработанных моделей изменений климата.
Подобно работе Мальтуса и книге Эрлиха, «Пределы роста» привлекли к себе большое внимание популярных СМИ и вызвали столь же острые дискуссии о будущем нашей планеты. И так же, как эти предыдущие работы, они стали объектом острой критики, особенно со стороны экономистов, за то, что в них не учитывалась динамика инноваций.
Главным критиком этой работы был известный экономист Джулиан Саймон, высказывавший довольно радикальную версию точки зрения, которой придерживаются многие экономисты. Он считал, что потрясающий рост, который мы наблюдаем в течение последних двухсот лет, продолжится «вечно» благодаря человеческой изобретательности и нашей неиссякаемой способности к инновациям. Собственно говоря, в своей книге «Неисчерпаемый ресурс», вышедшей в 1981 г., Саймон утверждал, что большая численность населения есть на самом деле положительный фактор, так как она стимулирует появление еще большего числа технологических инноваций, изобретений и открытий, которые предоставляют нам новые возможности эксплуатации ресурсов и повышения уровня жизни[102].
В XXI в. это видение рога изобилия, образ бездонных бочек рыбы, снова и снова наполняющихся как по волшебству, но не силой божественного вмешательства, а благодаря свободному выражению человеческой изобретательности и безграничных возможностей свободной рыночной экономики, возродилось в качестве важного компонента корпоративного и политического концептуального мышления. Многие представители научных, деловых и политических кругов, по существу, приняли точку зрения Саймона. Лаконичное выражение его взглядов красноречиво сформулировал экономист Пол Ромер, один из создателей теории эндогенного роста, согласно которой основным двигателем экономического роста являются вложения в человеческий капитал, инновации и накопление знаний[103]. Ромер заявляет, что «каждое поколение сталкивается с пределами роста, которые создавали бы ограниченные ресурсы и нежелательные побочные эффекты без открытия новых методов и идей. И каждое поколение недооценивает потенциал обнаружения новых методов и идей. Очень часто мы не осознаем, сколь многие идеи еще могут быть открыты. Возможности не складываются. Они умножаются». Говоря несколько другими словами, речь идет о том, что идеи и инновации накапливаются в прогрессии геометрической (то есть экспоненциально), а не арифметической (то есть линейно) параллельно с экспоненциальным ростом численности населения и что процесс этот бесконечен и, по существу, неограничен.
Однако в последние десятилетия, с подъемом экологического движения и возникновением серьезных опасений за будущее нашей планеты, повились и новые духовные наследники «Демографической бомбы» и «Пределов роста». С их идеями тесно связана глубокая озабоченность влиянием нерегулируемых корпоративных и политических амбиций, которая способствует распространению мнения о необходимости «социальной ответственности корпораций». Преодоление разрыва и сглаживание постоянных противоречий между буйным капитализмом, преподносимым в качестве двигателя инноваций и изобретательности, обеспечивающих всеобщий рост и процветание, и мрачными прогнозами защитников окружающей среды, а также теми, кто прислушивается к тревожным сигналам изменений климата и потенциального экономического краха, становится одной из главных политических задач XXI в.
Хотя сама по себе вера в то, что в коллективной изобретательности человечества и его стремлении к инновациям, поддерживаемым рыночной экономикой, заключается секрет сохранения долгосрочного неограниченного роста и предотвращения потенциального краха, может быть вполне разумной, меня довольно сильно удивляет то, насколько часто она сочетается с отрицанием некоторых из их неизбежных следствий или, по меньшей мере, с глубоким неверием в них. Подобно многим, видящим в «инновации» панацею от всех глобальных социально-экономических проблем будущего, Саймон энергично выражает неверие в то, что деятельность человека наносит глобальный экологический ущерб или является причиной серьезного вреда здоровью людей, идет ли речь об изменениях климата, загрязнении окружающей среды или химических выбросах. У неограниченного экспоненциального роста есть темная сторона, выражающаяся в духе и сути Второго начала термодинамики и его проявлениях в виде роста энтропии. Какой бы замечательной ни была наша изобретательность, в конце концов все на свете приводится в действие и обрабатывается путем расходования энергии, а расходование энергии имеет неизбежные разрушительные последствия.
6. Все дело в энергии!
В мировых масштабах мы потребляем гигантское количество энергии, что-то порядка 150 триллионов киловатт-часов в год. Это одно из тех астрономических чисел – к ним же относится, например, годовой бюджет США, – величину и значение которых простым смертным чрезвычайно трудно осознать: они попросту затуманивают нам взор. Рассказывают, что сенатор Эверетт Дирксен, бывший с 1959 по 1969 г. лидером республиканской фракции в американском сенате, сказал о бюджете Соединенных Штатов: «Тут миллиард, там миллиард – так, глядишь, и до настоящих денег доберемся». Причем дело было в то время, когда бюджет был в тридцать раз меньше нынешнего, составляющего около 3,5 триллиона долларов. Чтобы лучше оценить его размеры, можно сказать, что на каждого мужчину, женщину и ребенка в США в нем приходится приблизительно по 10 тысяч долларов.
Помочь понять сходным образом значение глобального энергопотребления и представить себе его гигантские размеры в осознаваемых величинах могут следующие сравнения. Во вступительной главе я упоминал, что те 2000 пищевых калорий в сутки, которые требуются нам для поддержания жизни, эквивалентны приблизительно 100 ваттам, мощности обычной лампочки. По сравнению с любыми системами, изготовленными человеком, мы расходуем потребляемую энергию чрезвычайно эффективно. Например, посудомоечная машина затрачивает на мытье посуды более чем в десять раз больше энергии в секунду, чем человек, а автомобиль на перемещение – более чем в тысячу раз. Если сложить вместе всю энергию, которую средний человек расходует на приведение в действие всех машин, приспособлений и инфраструктур, ставших неотъемлемой частью современной жизни, результат превышает наши природные энергетические потребности в тридцать раз.
Говоря несколько другими словами, уровень потребления энергии, необходимый нам для поддержания нормального образа жизни, в течение сотен тысяч лет оставался на уровне всего нескольких сотен ватт, пока, около десяти тысяч лет назад, мы не начали образовывать коллективные сообщества городского типа. Этот момент отмечает начало антропоцена, в котором наш эффективный уровень метаболизма начал свой устойчивый рост к современному уровню, составляющему более 3000 Вт. Но это лишь среднее значение по всей планете. В развитых странах уровень энергопотребления значительно выше. В Соединенных Штатах он выше почти в четыре раза и достигает огромной величины 11 000 Вт, более чем в сто раз превышающей «природный», то есть биологический уровень метаболизма. Эта величина немногим меньше уровня метаболизма синего кита, масса которого превышает нашу более чем в тысячу раз. Если представить себе человека как животное, потребляющее в тридцать раз больше энергии, чем «следует», исходя из его физических размеров, можно сказать, что современное человечество действует, как если бы его численность была гораздо большей, чем реальные 7,3 миллиарда человек. С точки зрения вполне реальных последствий наше существование эквивалентно существованию населения, по меньшей мере в тридцать раз более многочисленного, превышающего в целом по миру 200 миллиардов человек. Если правы самые оптимистичные из приверженцев концепции рога изобилия, и к концу века численность населения мира достигнет 10 миллиардов человек, причем уровень их жизни будет сравнимым с тем, что имеется в Соединенных Штатах, то эффективная численность населения превысит тогда один триллион.
Эти расчеты не только позволяют оценить уровень нашего энергопотребления, но показывают, насколько далеко мы отошли от экологического равновесия по сравнению со всеми остальными представителями «природного мира». Не менее важно и то, что такое огромное увеличение энергопотребления произошло за чрезвычайно короткое по масштабам эволюции время, за которое практически не могли случиться никакие системные изменения или адаптации. Например, по имеющимся оценкам, когда человек еще был нормальной составной частью природного мира, действовал с энергопотреблением порядка нескольких сотен ватт и еще не изобрел сельского хозяйства, численность человечества во всем мире составляла всего лишь около 10 миллионов. Она выросла до нынешнего эффективного уровня, превышающего эту величину в 20 тысяч раз, за такое короткое время, что это вызвало серьезное нарушение динамического эволюционного равновесия природы и, таким образом, может привести к катастрофическим экологическим последствиям.
Уже одно это действует отрезвляюще, но положение кажется еще более серьезным, когда мы вспоминаем о неизбежно низкой эффективности нашего энергопотребления и связанном с ним производстве энтропии, порождающем загрязнение природы, выделение низкопотенциального тепла, а также ущерб и разрушения, причиняемые окружающей среде. Приблизительно треть ежегодного мирового энергопотребления, которое увеличилось с 1980 г. почти в два раза, тратится впустую. Например, собственно для передвижения автомобиля используется всего лишь около 20 % энергии, содержащейся в бензине. Важная роль инноваций состоит в уменьшении такой неэффективности путем усовершенствования имеющихся технологий, изобретения новых или разработки иных методов организации их использования. Прямо на наших глазах общественность и корпорации все более ясно осознают проблемы, связанные с тратами энергии, отходами и неэффективностью, а государственные программы и системы налогообложения все более стимулируют применение новаторских подходов и попытки решения этих задач. Вне всякого сомнения, в этом отношении уже достигнуты и продолжают достигаться значительные успехи, но достаточны ли они? На то, что система свободного рынка, действующая в условиях неограниченного роста, даже с учетом государственного вмешательства, поддержки или регулирования, сможет найти некое метастабильное равновесие между получением значительных прибылей и решением проблем экологической устойчивости, можно только надеяться. В конце концов, главная цель предпринимательства – не повышение эффективности, а извлечение прибыли.
Жизнь на нашей планете поддерживается путем преобразования энергии, получаемой непосредственно от Солнца, в энергию биологического метаболизма, которой живут организмы. Этот поразительный процесс успешно используется уже более двух миллиардов лет, а потому его с уверенностью можно считать «устойчивым», несмотря на непрерывную смену действующих лиц, представляющих все новые и новые формы жизни, возникающие в результате естественного отбора. Центральный фактор стабильного поддержания жизни заключается в том, что ее источник энергии, то есть Солнце, есть источник внешний, надежный и относительно постоянный. Солнце светит каждый день, и любые изменения в поставляемой им энергии происходят в течение достаточно долгих периодов, что позволяет жизни приспособиться к ним.
Это непрерывное, постоянно развивающееся, квазиустойчивое состояние начало очень медленно изменяться с момента открытия человеком огня, то есть химического процесса высвобождения солнечной энергии, накопленной в омертвевшей древесине. Это открытие в сочетании с изобретением сельского хозяйства положило начало переходу к антропоцену, в котором человек превратился из чисто биологического организма в существующее сегодня урбанизированное социально-экономическое существо, уже не находящееся в состоянии метаравновесия с «природным» миром. Но самый резкий, революционный отход от устойчивого традиционного состояния, существовавшего на протяжении почти трех миллиардов лет, произошел всего лишь за последние два столетия, когда открытие и эксплуатация солнечной энергии, накопленной в подземных запасах угля и нефти, возвестили начало урбаноцена. Ископаемое топливо казалось – и до сих пор кажется – подобным самому Солнцу, почти неисчерпаемым источником энергии, высвобождение которой стало отправной точкой промышленной революции.
С точки зрения науки подлинно революционной чертой промышленной революции был резкий переход от открытой системы, получающей энергию от внешнего источника, Солнца, к системе замкнутой, источник энергии которой (ископаемое топливо) находится внутри ее самой. Такое фундаментальное системное изменение имеет огромные термодинамические последствия, так как в замкнутой системе неизбежно действует Второе начало термодинамики, и, следовательно, происходит необратимое увеличение энтропии. Наш «прогресс» сопровождался переходом с внешнего, надежного и постоянного источника энергии на источник внутренний, ненадежный и переменный. Более того, поскольку теперь наш основной источник энергии является составной частью той самой системы, которую он поддерживает, поступление энергии попало в зависимость от постоянно изменяющихся внутренних рыночных сил.
Наши социально-экономические достижения, основанные на энергии ископаемого топлива, всего за двести лет превзошли все, что когда-либо удавалось совершить за столь короткое время естественному отбору, получающему питание непосредственно от Солнца. Но за то, что мы выпустили из бутылки джинна энергии ископаемого топлива, мы потенциально должны будем заплатить высокую цену, и нам следует либо смириться с этим, либо, если это возможно, загнать этого джинна обратно в бутылку.
В качестве примера последствий действия Второго начала термодинамики можно назвать повышение температуры атмосферы, вызванное выпуском энергии, накопленной под землей, на поверхность планеты. Оно еще более усиливается производством газов, например углекислого газа и метана, являющихся энтропийными побочными продуктами сжигания этого топлива: это порождает всем известный парниковый эффект, задерживающий тепло в атмосфере. Я не стану подробно рассматривать температурную зависимость интенсивности физических и химических процессов, но отмечу, что они масштабируются по экспоненциальному, а не степенному закону. Поэтому процессы, регулирующие погодные условия и жизненный цикл растений и животных, обладают экспоненциальной чувствительностью к малым изменениям температуры, при которой они протекают. Напомню, что повышение средней температуры всего на 2 °C дает увеличение их интенсивности на целых 20 %. Таким образом, малые изменения температуры окружающей среды, происходящие за достаточно короткие промежутки времени, недостаточные для развития процессов адаптации, могут вызывать огромные экологические и климатологические последствия. Некоторые из них даже могут быть позитивными, но многие не могут не быть катастрофическими. Однако даже независимо от знака этого эффекта нас ожидают значительные перемены, и нам жизненно важно понять их причины и следствия и разработать стратегии их смягчения и приспособления к ним.
Самый важный вопрос состоит даже не в том, порождены ли эти эффекты деятельностью человека, – так как в этом нет почти никаких сомнений, а в том, в какой степени их можно ослабить, не вызывая быстрых и резких изменений нашей физической и экономической среды и в конечном счете потенциального краха всей глобальной социально-экономической системы. Именно поэтому меня поражают те люди, в том числе и крупные политики и предприниматели, которые не обращают внимания на грозные предупреждения ученых, экологов и так далее; именно поэтому я никак не могу понять, почему они ничего не предпринимают. Да, все мы по праву можем гордиться и наслаждаться огромными успехами и прекрасными плодами свободного рынка и человеческой изобретательности, но нам также следует помнить о важной роли энергии и энтропии и принимать совместные стратегические меры к нахождению глобальных решений по преодолению их гибельного воздействия.
Несмотря на безусловно важнейшую роль, которую сыграла энергия в определении нашего нынешнего положения в истории Земли и в особенности в социально-экономическом развитии современного человеческого общества, в классических учебниках по экономике трудно найти хоть какое-нибудь упоминание о ней. Как это ни удивительно, концепции энергии и энтропии, метаболизма и допустимой нагрузки так и не смогли внедриться в традиционную экономическую науку. Продолжающийся в течение последних двухсот лет рост экономики, рынков и численности населения, сопровождающийся параллельным повышением уровня жизни, ожидаемо рассматривается в качестве свидетельства успеха классического экономического мышления и опровержения неомальтузианских идей. В серьезных размышлениях об энергии и ее роли двигателя экономического прогресса или роста численности населения, не говоря уже об энтропии и неизбежных последствиях ее увеличения, просто не было нужды. Не было нужды задумываться и о том, что ресурсы действительно могут оказаться ограниченными, а беспредельный рост может быть связан некими основополагающими физическими ограничениями. Не было – до сих пор.
Теория обходила эти вопросы, ссылаясь на почти волшебную роль, которую играли и, предположительно, будут и дальше играть в обеспечении жизнеспособности всей этой системы инновации и человеческая изобретательность, особенно поддерживаемые сравнительно свободной рыночной экономикой. Если для «объяснения» продолжающегося экспоненциального расширения Вселенной привлекают концепцию таинственной, почти неограниченной темной энергии, то прогноз продолжающегося расширения социально-экономической вселенной, преодолевающего все встречающиеся на его пути препятствия, основывают на образе почти бесконечного запаса инновационных идей.
Кроме того, как кажется, существует явно не высказываемое предположение о том, что идеи, из которых вырастают инновации, ничего не стоят – в конце концов, это «всего лишь» нейронные процессы, происходящие в мозгу того или иного человека, и совместными усилиями мы можем произвести в своих головах почти бесконечное число таких идей. Однако идеи и вдохновленные ими инновации, как и все остальное, требуют энергии, и немалой, для поддержки тех, кто о них думает, и для создания соответствующей стимулирующей обстановки и коллективного опыта, которым мы придаем организационные рамки в университетах, лабораториях, парламентах, кафе, концертных залах и аудиториях.
Самая суть этого процесса воплощена в концепции города и городской жизни. Эта идея была прекрасно выражена знаменитым антропологом Маргарет Мид, которая заметила: «Город как центр, в котором в любой день любого года может встретиться новый талант, острый ум или одаренный специалист, жизненно необходим стране». Действительно, города возникли и развились в качестве средства усиления и облегчения социальных взаимодействий, стимулирующего возникновение новых идей и инноваций. В города стягиваются люди умные и энергичные, и именно в них вызревают наши новые идеи, расцветает предпринимательство и создаются богатства. Поскольку поддержка всего этого – дело чрезвычайно дорогостоящее, было бы наивно считать, что идеи существуют независимо от энергии: на самом деле одно невозможно без другого. Лишь микроскопически малая часть триллионов мыслей, идей, предположений и предложений новых машин, товаров и теорий порождает нечто существенное. Огромное большинство их отбрасывается, хотя все вместе они вносят свой вклад в образование необходимого фона и общего миропонимания, из которого могут возникнуть и развиться новые, новаторские явления. И на все это уходит огромное количество энергии: ex nihilo nihil fit, то есть «из ничего ничего и не получится».
Для создания теории устойчивости необходимо понимание глобальной динамики как сложной адаптивной системы, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем, которые сами являются сложными адаптивными системами и развиваются совместно, с учетом возможных энергетических, материальных и информационных ограничений. Нам нужно понять, как взаимосвязаны динамические свойства инноваций, технического прогресса, урбанизации, финансовых рынков, социальных сетей и численности населения, как их развивающееся взаимодействие порождает рост и общественные перемены, а также как все эти проявления достижений человечества совместно образуют всеобъемлющую системную структуру… и выяснить, насколько устойчивой может быть такая динамически развивающаяся система.
Доводы Мальтуса, Пола Эрлиха, членов Римского клуба и им подобных могут иметь свои недостатки, но их выводы и следствия из них вполне могут быть состоятельными. Во всяком случае, они оказали нам важную услугу, обозначив некоторые из важнейших экзистенциальных проблем, с которыми человечеству приходится сталкиваться по мере того, как мы почти вслепую вступаем в XXI в. Хотя демографическую бомбу и сдали в архив, вопросы устойчивых источников энергии и потенциально разрушительных последствий их использования вышли на повестку дня и стали сейчас предметом серьезного обсуждения.
С учетом того, какой огромный поток энергии неизменно поступает с Солнца на Землю каждый день, можно сказать, что энергетической проблемы вообще не существует. Чтобы составить себе представление о масштабах происходящего, достаточно учесть, что суммарное количество энергии, передаваемой Солнцем на Землю, составляет около миллиона триллионов (1018) киловатт-часов в год, а наша «мизерная» (в этом масштабе) потребность, то есть энергия, которую мы совместными усилиями тратим в течение года, – всего лишь 150 триллионов (1,5 1014) киловатт-часов. То есть наше энергопотребление – это лишь около 0,015 % доступной нам энергии, которую Земля получает от Солнца. Другими словами, в течение одного часа Солнце передает нам больше энергии, чем весь мир расходует за год. Более того, объемы солнечной энергии настолько велики, что всего за один год ее количество превышает приблизительно в два раза все, что когда-либо можно будет извлечь из всех невозобновляемых земных запасов угля, нефти, природного газа и урана, вместе взятых. Так что с этой точки зрения никакой энергетической проблемы не существует – по крайней мере, в принципе.
Соответственно, долговременная стратегия глобального энергообеспечения очевидна: нам нужно вернуться к биологической парадигме, в которой большая часть наших энергетических потребностей удовлетворяется непосредственно Солнцем, но сделать это таким образом, чтобы сохранить и расширить все то, чего мы уже достигли. Нам необходимо срочно разработать новые технологии, которые позволяет нам использовать то изобилие энергии, которое поступает от Солнца, в основном в виде прямого излучения, но также, опосредованно, в виде энергии ветров, приливов и волн. Это ли не прекрасная задача для нашей прославленной изобретательности и таланта к инновациям! Это ли не возможность для динамических и харизматических лидеров, политиков и бизнесменов проложить путь к будущему устойчивого глобального энергообеспечения, используя динамику предпринимательства, систему свободного рынка и поддержку государств. Учитывая историю замечательных изобретений, в число которых входят паровая турбина, телефон, портативный компьютер, интернет, квантовая механика и теория относительности, это должно быть проще простого. Однако один из наиболее загадочных аспектов XXI в. состоит в том, что именно те, кто особенно активно пропагандирует и прославляет инновации и рыночную экономику в качестве основ устойчивости, почему-то не спешат признать остроту этой проблемы и встать на защиту исследований и разработок, направленных на эксплуатацию практически бесконечных возможностей солнечной энергии.
Наблюдавшееся до самого последнего времени отсутствие прогресса в этой области тем более удивительно, что основные технологии использования солнечной энергии известны уже более ста лет. В 1897 г. американский инженер Фрэнк Шуман создал рабочий прототип устройства для использования энергии Солнца и продемонстрировал, что оно может приводить в действие небольшую паровую машину. В 1912 г. его система была наконец запатентована, а в 1913-м он построил в Египте первую в мире солнечную теплоэлектростанцию. Она генерировала всего около 50 кВт (около 65 лошадиных сил), но позволяла закачивать из Нила на окрестные хлопковые поля более 22 000 л воды в минуту. Шуман был пылким энтузиастом и пропагандистом солнечной энергии; в 1916 г. газета New York Times приводила следующие его слова:
Мы доказали коммерческую выгодность солнечной энергии… и, в частности, доказали, что после истощения наших запасов нефти и угля человечество сможет получать неограниченное количество энергии из солнечных лучей.
С учетом того, как давно было сделано это заявление, следует признать наблюдение Шумана чрезвычайно прозорливым, несмотря даже на то, что оно все еще не осуществилось. Открытие и разработка запасов дешевой нефти, начатые в 1930-х гг., помешали развитию солнечной энергетики, и взгляды и принципы конструкций Шумана были практически забыты вплоть до первых энергетических кризисов 1970-х. Однако внушает оптимизм тот факт, что сейчас уже разработаны технологические решения – например, в области солнечных элементов, – использование которых делает осуществление мечты Шумана вполне реальным, так как стоимость эксплуатации возобновляемых источников энергии позволяет им конкурировать с традиционной энергетикой, использующей ископаемое топливо.
Еще одно кардинальное различие между ископаемым топливом и солнечной энергией касается соответствующих фундаментальных физических механизмов выработки энергии. При сгорании ископаемого топлива высвобождается энергия химических связей, соединяющих атомы и молекулы угля, нефти или газа. Все молекулы, что бы они ни образовывали – наше тело, наш мозг, наш дом или наш компьютер, – удерживаются вместе электромагнитными силами, энергия которых составляет порядка нескольких электрон-вольт (эВ), отчего ее и удобно измерять в этих единицах. Электрон-вольт – это величина чрезвычайно малая в том масштабе, о котором мы говорим: 1 эВ составляет всего лишь около четырех сотых триллионной триллионной киловатт-часа (1 эВ = 4 10–26 кВч), так что наше ежегодное энергопотребление, выраженное в этих единицах, приблизительно равно 4 1039 эВ. По самым грубым оценкам, таково число молекул, которые распадаются каждый год для удовлетворения наших энергетических потребностей.
Вместе с тем Солнце, состоящее в основном из водорода и гелия, получает ядерную энергию, накопленную в связях, скрепляющих атомные ядра. При слиянии ядер водорода с образованием ядер гелия эта энергия высвобождается в виде излучения. Этот процесс называется термоядерным синтезом и представляет собой фундаментальный физический механизм, благодаря которому Солнце светит и снабжает нас световой и тепловой энергией, которая и привела к возникновению всей жизни на нашей планете. Он остается единствнным источником энергии для всех форм жизни на Земле, за исключением человека, открывшего несколько тысяч лет назад энергию, содержащуюся в ископаемом топливе.
Характерный масштаб ядерной энергии приблизительно в миллион раз больше, чем энергии электромагнитных химических связей, высвобождаемой при сгорании ископаемого топлива: в ядерных процессах участвуют энергии порядка миллионов (МэВ), а не единиц электрон-вольт, как в химических реакциях между молекулами. Именно это огромное увеличение делает столь привлекательной идею использования ядерной энергии: одно и то же количество вещества позволяет получить из атомных ядер приблизительно в миллион раз больше энергии, чем из молекул. То есть для автомобиля, расходующего около 2000 л бензина в год, потребовалось бы всего несколько граммов ядерного топлива, которые могут уместиться в небольшую таблетку.
Перспектива получения «неограниченной» энергии от атомных электростанций, работающих на тех же физических принципах, что и Солнце, была совершенно фантастической. Когда она только возникла, сразу после Второй мировой войны, в головокружительную эпоху, наступившую после создания атомной бомбы, были распространены чрезвычайно оптимистические ожидания близкого будущего, в котором ядерная энергетика станет нашим основным источником энергии вместо ископаемого топлива. Я хорошо помню газетные статьи 1950-х гг., которые я читал подростком: они обещали, что к тому времени, как я вырасту и обзаведусь семьей, электричество станет настолько дешевым, что его счетчики больше не будут нужны. Типичными для эйфории того времени были, например, заявления основоположника ядерной химии и нобелевского лауреата Гленна Сиборга, бывшего тогда председателем американской Комиссии по атомной энергии. Он утверждал, что «у нас будет транспортное сообщение с Луной на ядерной тяге, искусственные сердца с ядерными источниками питания, бассейны для аквалангистов с плутониевым подогревом и многое, многое другое».
К сожалению, создание конкурентоспособных источников энергии на основе термоядерного синтеза оказалось задачей трудноразрешимой и необыкновенно сложной технически, несмотря на интенсивную работу в этом направлении, проводившуюся по всему миру. Вместо этого были успешно разработаны технологии ядерной энергетики, в которой получают энергию, высвобождаемую в результате распада тяжелых ядер (урана) на более легкие. Этот процесс аналогичен обычному химическому производству энергии из ископаемого топлива. С использованием ядерного распада производится сейчас около 10 % всей вырабатываемой в мире электроэнергии, и лидирующее положение в этом отношении занимает Франция, более 80 % электроэнергии которой поступает из ядерных реакторов.
Производство энергии в ядерном реакторе, как и в традиционной электростанции, работающей на ископаемом топливе, есть процесс внутренний относительно глобальной системы и, следовательно, оно связано с теми же проблемами производства энтропии и вредных побочных продуктов. Хотя атомная энергетика подобно солнечной не является значительным источником парниковых газов и, следовательно, не вызывает возможных изменений климата, ее побочные продукты могут быть чрезвычайно вредоносными в связи с гораздо более высоким (в миллион раз) масштабом энергии. Излучение, возникающее в ядерных реакциях, может быть разрушительным для молекул и, следовательно, для органических тканей и вызывать тяжелые нарушения здоровья, самыми известными из которых являются раковые заболевания. Наша атмосфера в значительной степени защищает нас от аналогичного излучения, поступающего от Солнца, но в случае реакторов, расположенных на Земле, оно создает серьезные проблемы. Кроме того, возникает проблема безопасного хранения и утилизации отходов ядерных реакций, которые остаются радиоактивными в течение тысячелетий.
Несмотря на огромные усилия, направленные на обеспечение безопасности ядерных реакторов, число уже произошедших аварий было достаточно большим, чтобы охладить энтузиазм в отношении их использования в качестве альтернативного ископаемому топливу источника энергии, хотя число непосредственных жертв этих аварий и остается небольшим. Резонанс, который получила случившаяся в 2011 г. катастрофа на японской атомной электростанции «Фукусима-1», привел к резкому сокращению нынешнего и предполагаемого в будущем применения атомной энергии во всем мире. Хотя ископаемое топливо стало причиной сотен тысяч, если не миллионов смертей и неисчислимых нарушений здоровья, его использование по-прежнему кажется многим более приемлемым, чем потенциальная опасность ядерных реакторов. Вопросы долгосрочной безопасности и количественные оценки последствий производства и потребления энергии с точки зрения увеличения энтропии составляют предмет чрезвычайно запутанных и неоднозначных социальных, политических, психологических и научных исследований. Сколько смертей вызывает производство электроэнергии непосредственно, а сколько – косвенно, какие именно связанные с ним нарушения здоровья считать опасными и какими могут быть их долгосрочные последствия? Как можно сравнивать разные технологии? Какие параметры следует для этого использовать?
Чтобы хотя бы приблизительно представить себе такие сравнения, примем во внимание следующие соображения. Мы на удивление терпимо относимся к смертям и разрушениям, вызываемым «не природными, техногенными» причинами, если они происходят постоянно и регулярно, но крайне резко реагируем на них в случае неожиданных, единичных происшествий, даже если число их жертв или объемы разрушений оказываются гораздо меньшими. Например, каждый год во всем мире более миллиона с четвертью человек гибнет в автомобильных авариях, что сравнимо с числом жертв рака легких, самого распространенного вида смерти от онкологических заболеваний. Тем не менее боязнь и беспокойство, касающиеся возможности смерти от рака, как кажется, значительно превышают опасения относительно гибели в автомобильной аварии, что видно по существенному несоответствию размеров тех ресурсов, которые мы выделяем на решение этих проблем. Интересно сравнить эти данные с числом людей, погибших непосредственно в результате аварий на атомных электростанциях. Даже в сумме за все время существования ядерной энергетики это число составляет менее ста человек, и большинство из них погибли при Чернобыльской аварии 1986 г. в СССР; на «Фукусиме» не погиб никто. Вместе с тем воздействие радиации, которым сопровождались такие аварии, особенно в Чернобыле, могло привести к многотысячным случаям возникновения раковых заболеваний, от которых они преждевременно умерли или еще умрут. Но даже это число, скорее всего, «уравновешивается» количеством людей, которых калечат или лишают трудоспособности автомобильные аварии: по имеющимся оценкам, оно составляет 50 миллионов человек в год.
Такие споры продолжаются без конца: мы пытаемся сравнивать несравнимое, надеясь, что правильно выбранные параметры помогут нам в этих непростых решениях и сравнениях. Так мы пытаемся составить глобальный портфель энергетических приоритетов, который будет играть решающую роль в определении развития человеческого общества на будущие десятилетия. Дело осложняют еще и непредсказуемые психологические факторы, например почти всеобщая влюбленность в автомобили и почти всеобщая боязнь крупных атомных аварий, которую трудно отделить от всеобщей боязни ядерного оружия. Я не пытаюсь привести здесь исчерпывающий обзор аргументов за и против каждого из вариантов производства энергии, а хочу лишь представить несколько простых примеров такой численной статистики, на которую нам следует опираться при обсуждении этих вопросов. Мы должны мыслить численно и разрабатывать научное понимание, необходимое для рассмотрения этих задач, чтобы именно на нем были основаны принимаемые политические решения.
Независимо от того, верим ли мы в способность человечества найти инновационное решение проблем производства ядерной энергии, будь то с использованием распада или синтеза, или создания дешевой и надежной солнечной энергетики, способной удовлетворить энергетические потребности 10 миллиардов человек, или же сокращения количества углерода, который мы выбрасываем в атмосферу, – перед нами все равно остается долгосрочная проблема производства энтропии. Одним из недостатков ядерной энергетики является то, что она, как и использование ископаемого топлива, не освобождает нас из плена парадигмы замкнутой системы, в то время как энергетика солнечная обладает тем принципиальным преимуществом, что потенциально может вернуть нас к подлинно устойчивой парадигме открытой системы.
Глава 6. Прелюдия к теории городов
1. Города и компании – это просто огромные организмы?
То, как успешно сетевая теория объясняет законы масштабирования и образует концептуальную основу для количественного рассмотрения самых разных вопросов в широком спектре отраслей биологии, естественно вызывает вопрос о том, нельзя ли распространить эту основу на другие сетевые системы, например, города и компании. На первый взгляд кажется, что у них много общего с организмами и экосистемами. В конце концов, они тоже метаболизируют энергетические и материальные ресурсы, производят отходы, растут, приспосабливаются и развиваются, заболевают и даже могут страдать от чего-то похожего на опухоли и новообразования. Кроме того, они стареют и, если мы говорим о компаниях, почти поголовно рано или поздно умирают. Правда, последнее относится лишь к чрезвычайно немногим из городов, и этой загадкой мы займемся позже.
Многие из нас не задумываясь используют такие выражения, как «метаболизм города», «экология рынка», «ДНК компании» и так далее, как будто бы города и компании – биологические существа. Еще Аристотель то и дело называл город (полис) «естественной», органической автономной сущностью. В более поздние времена возникло влиятельное архитектурное движение под названием «Метаболизм», прямо опирающееся на аналогию с идеей биологической регенерации, порождаемой метаболическими процессами. Представители этого движения считают архитектуру неотъемлемой частью городского планирования и развития, а также постоянно развивающимся процессом и утверждают, что здания с самого начала следует проектировать с учетом будущих изменений. Одним из основателей этого движения был известный японский архитектор Кендзо Танге, удостоенный в 1987 г. Притцкеровской премии, которую считают аналогом Нобелевской премии в архитектуре. Мне, однако, его проекты кажутся удивительно неорганичными: в них преобладают прямые углы, бетон и какая-то бездушность, а не искривленность и мягкость, свойственные живым организмам.
Органический образ городов часто встречается и в литературе. Самый яркий пример такого видения можно найти у Джека Керуака, одного из харизматических основоположников поэзии и прозы битников 1950-х, перу которого принадлежит следующий причудливый образ: «Париж женщина, а вот Лондон независимый мужчина, пыхающий в пабе трубкой»[104]. Но более всего экология и эволюционная биология внедрились, по крайней мере на уровне концепций и терминологии, если не подлинно научного понимания, в бизнес, особенно в Кремниевой долине. Модное выражение «деловая экосистема» стало стандартным обозначением своего рода дарвинистского принципа выживания наиболее приспособленных на рынке. Его запустил в оборот в 1993 г. Джеймс Мур, работавший тогда на юридическом факультете Гарварда, в статье под названием «Хищники и жертвы: Новая экология конкуренции», получившей в том году премию McKinsey[105]. В ней выстраивается довольно стандартная экологическая схема, в которой в эволюционной динамике естественного отбора роль животных играют отдельные компании. Подобно большей части традиционных исследований принципов действия компаний, эта работа дает чисто качественное описание и не обладает никакой количественной предсказательной силой. Ее главное достоинство состоит в том, что она подчеркивает роль общественных структур, необходимость системного мышления и неизбежность процессов инноваций, адаптации и эволюции.
Так следует ли считать все эти ссылки на биологические концепции и процессы всего лишь качественными метафорами, подобными вольному употреблению других научных терминов – например, «квантовый скачок» или «импульс», – для описания явлений, которые трудно выразить средствами повседневного языка, или же они действительно отражают нечто более глубокое и более существенное, подразумевая, что города и компании – это и в самом деле всего лишь сильно увеличенные организмы, следующие законам биологии и естественного отбора?
Образы городов, по часовой стрелке начиная сверху: сталь и бетон небоскребов Сан-Паулу в Бразилии; «органический» город Сана в Йемене; слияние города и сельской местности в Мельбурне, Австралия; расточительное расходование энергии в Сиэтле
Такого рода общие размышления занимали меня в 2001–2002 гг., когда я начал вести неформальные беседы с коллегами по Институту Санта-Фе, работавшими в социально-экономических дисциплинах. По счастливой случайности в это время в SFI проводил свой творческий отпуск Сандер ван дер Леу, весьма известный антрополог из Парижского университета, который впоследствии возглавил факультет устойчивости в Университете Аризоны; кроме того, в институте часто бывал Дэвид Лэйн, ранее бывший руководителем экономической программы SFI. Дэвид был известным статистиком, которого работа в SFI побудила переключиться на исследования экономики. Он возглавлял кафедру статистики в Университете Миннесоты, но потом перешел в Университет Модены в Италии и запустил там программу исследований инноваций, особенно в области промышленного производства, жизненно важного для Северной Италии. Название города Модены наверняка знакомо вам по его превосходному бальзамическому уксусу, не говоря уже о том, что именно там выпускаются автомобили «феррари», «ламборгини» и «мазерати». Когда я впервые приехал в Модену, Дэвид познакомил меня с местным уксусом, замечательным эликсиром, который не следует путать с гораздо менее яркой разновидностью, которую многие из нас добавляют теперь в салаты. Однако стоил он гораздо дороже, чем некоторые из самых дорогих вин, какие я когда-либо покупал.
Несмотря на мой скепсис, Дэвид и Сандер убедили меня в целесообразности попыток переноса сетевой теории масштабирования с биологии на социальные организации. Они стали основной движущей силой разработки широкой программы, охватывающей интересующие всех нас вопросы, от инноваций и передачи информации в древних и современных обществах до понимания структуры и динамики городов и компаний, причем все эти проблемы должны были рассматриваться с точки зрения сложности. Эта программа, названная «Информационное общество как сложная система» (Information Society as a Complex System, ISCOM), получила щедрую финансовую поддержку Европейского союза. Вскоре к нашей работе присоединилась Дениз Пюман, известный специалист по урбанистической географии из парижской Сорбонны, и каждый из нас принял на себя руководство одной из четырех частей проекта. Я собрал в SFI новую междисциплинарную рабочую группу, основной целью которой было рассмотрение вопроса о том, проявляется ли у городов и компаний масштабирование, и, если это так, разработка основанной на численных принципах теории их структуры и динамики.
Как часто бывает в жизни, полезно вспомнить задним числом, когда все уже закончилось, что именно предполагалось сделать вначале. Например, просматривая список участников одного из наших первых семинаров, я вижу, что лишь очень немногие из них продолжили эту работу. Это вполне нормально для таких программ, которые предполагают рассмотрение новых вопросов, выходящих за рамки отдельных дисциплин. Самые разные люди, специалисты в самых разных областях, имеющие глубокие знания и опыт, которые могут оказаться полезны для этой программы, приглашаются вначале к участию в работе в надежде на кумулятивный эффект, на фейерверк идей, на возникновение ощущения достойной и увлекательной новой задачи. Однако многие находят, несмотря на увлекательность сложной интеллектуальной работы и возможные результаты предлагаемого проекта, что это все-таки не стоит тех затрат времени и изменений их собственной исследовательской работы, каких требует полноценное участие. Другие в конце концов приходят к выводу, что данные исследования не так уж их и интересуют, или же считают маловероятным, что они дадут какой-либо существенный результат. Однако мало-помалу, в результате распространения слухов, удачных знакомств и связей, а также постепенного дрейфа людей как в одну, так и в другую сторону, формируется группа исследователей, члены которой, по существу, и выполняют в течение последующих лет работу, необходимую для осуществления проекта. Именно так образовывалась группа, занимавшаяся вопросами масштабирования и социальной организации в проекте ISCOM[106].
Хотя охват и акценты исходной идеи проекта по ходу работы и расширились, ее суть за все эти годы практически не изменилась. Основополагающая идея была изначально сформулирована следующим образом: «В связи с очевидными аналогиями с системами социальных сетей, например корпоративных или городских, исследование возможности распространения на социальные организации тех же методов анализа, которые используются для изучения биологических сетевых систем, представляется и естественным, и необходимым». При этом особый упор был сделан на предположение о том, что «в социальных организациях потоки информации играют не менее важную роль, чем потоки материалов, энергии и других ресурсов». Было задано множество вопросов, в том числе: «Что такое социальная организация? Каковы применимые законы масштабирования? Каким условиям должна удовлетворять архитектура структур, обеспечивающих распределение социальных потоков информации, материи и энергии? В частности, идет ли речь лишь о физических ограничениях, или же могут существовать социальные и когнитивные ограничения, которые также необходимо учитывать?»
На первый взгляд, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Даллас выглядят и ощущаются совершенно по-разному; то же можно сказать о Токио, Осаке и Киото или о Париже, Лионе и Марселе. Однако различия между ними малы по сравнению с очевидными различиями между китами, лошадьми и обезьянами, которые, как было показано выше, на самом деле можно считать масштабными вариантами друг друга, подчиняющимися простым степенным отношениям масштабирования. Такая скрытая регулярность есть проявление физических и математических свойств лежащих в их основе сетей, обеспечивающих в их организмах передачу энергетических и материальных ресурсов. Жизнедеятельность городов также поддерживают похожие сетевые системы, например автомобильных и железных дорог или электропередачи, обеспечивающие транспортировку людей, энергии и материальных ресурсов, – таким образом, проходящие по ним потоки являются проявлением метаболизма города. Эти потоки обеспечивают физическое жизнеобеспечение всех городов, и, как и в случае организмов, их структура и динамическое поведение развиваются под воздействием непрерывной обратной связи, присущей процессу отбора, направленному на приблизительную оптимизацию с точки зрения уменьшения материальных и временных затрат. О каком бы городе ни шла речь, большинство его жителей в среднем стремится как можно быстрее и дешевле добираться из точки А в точку В, а большинство компаний стремится подобным же образом оптимизировать свои системы снабжения и поставок. Поэтому можно предположить, что, несмотря на внешние различия, города также могут быть масштабированными вариантами друг друга в том же смысле, что и млекопитающие.
Однако города – это нечто гораздо большее, чем их физические составляющие, здания и структуры, соединенные и обслуживаемые различными транспортными системами. Хотя мы склонны представлять себе города в физических образах – прекрасные бульвары Парижа, лондонская подземка, небоскребы Нью-Йорка, храмы Киото и так далее, – суть городов далеко не ограничивается их физической инфраструктурой. На самом деле города образуют люди: именно от них исходит жизненная энергия города, его душа, его дух, все те трудноуловимые особенности, которые мы подсознательно ощущаем, когда участвуем в жизни успешного города. Это утверждение может показаться тривиальным, но те, кто думает о городах, – планировщики, архитекторы, экономисты, политики и идеологи – в первую очередь сосредоточивают свое внимание на их физических элементах, а не на живущих в них людях и особенностях их взаимодействия. Слишком часто забывается, что назначение города – сближение людей и облегчение взаимодействий между ними, в результате которых возникают идеи и богатство, стимуляция творческого мышления, предпринимательства и культурной деятельности, использование тех необычайных возможностей, которые предлагает разнообразие городской жизни. Мы открыли эту волшебную формулу 10 тысяч лет назад, когда, сами того не зная, начали процесс урбанизации. Его непредвиденными последствиями стал экспоненциальный рост численности населения, сопровождающийся – в среднем – и повышением уровня жизни этого населения.
Дорожные сети Лос-Анджелеса и сеть нью-йоркского метрополитена; не показаны другие инфраструктурные сети – например, водо-, газо- и электроснабжения
Уильям Шекспир понимал наши фундаментально симбиотические отношения с городами – как и почти все другие аспекты психосоциального мира человека. Один из персонажей его довольно мрачной политической драмы «Кориолан», римский народный трибун по имени Сициний, риторически восклицает: «А что такое город? Наш народ», – на что граждане города (плебеи) отвечают с чувством: «Он дело говорит: народ есть город»[107]. На мой взгляд, это означает, что города представляют собой эмерджентные сложные адаптивные социально-сетевые системы, возникающие в результате непрерывного взаимодействия их обитателей, которое усиливают и стимулируют механизмы обратной связи, создаваемые городской жизнью.
2. Святая Джейн и драконы
С рассмотрением городов через призму коллективной жизни их обитателей больше всех ассоциируется знаменитая писательница – теоретик урбанизма Джейн Джекобс. Ее основополагающая книга «Смерть и жизнь больших американских городов» оказала огромное влияние на представление о городах и решение задач «городского планирования» во всем мире[108]. Ее совершенно необходимо прочесть всем, кто интересуется городами, будь то студент, профессионал или простой горожанин, ищущий знаний. Я подозреваю, что у всех мэров всех городов мира есть на книжной полке по экземпляру книги Джейн и все они прочитали по меньшей мере какую-то ее часть. Это замечательная книга, чрезвычайно провокационная и глубокомысленная, в высшей степени спорная и субъективная, очень интересная и хорошо написанная. Хотя она была опубликована в 1961 г. и подчеркнуто ограничивалась рассмотрением лишь крупных американских городов той эпохи, ее выводы оказались гораздо более универсальными. В некоторых отношениях они, возможно, даже более справедливы сейчас, чем в то время, особенно за пределами Соединенных Штатов, поскольку развитие многих городов последовало, с теми или иными вариациями, траектории американского урбанизма с его господством автомобилей и связанными с ними проблемами, торговыми центрами, ростом жилых пригородов и вызванной им потерей общности.
Как ни странно, у Джейн не было ни пышных ученых степеней, ни даже высшего образования; не занималась она и исследовательской работой в традиционном смысле этого слова. Ее труды больше похожи на журналистские расследования, основанные в первую очередь на рассказах людей, личном опыте и глубоком интуитивном понимании того, что такое города, как они работают и как они «должны» работать. Несмотря на то что ее книга подчеркнуто сосредоточена на «больших американских городах», создается впечатление, что большая часть ее анализа и комментариев основана на ее личных впечатлениях от одного города, Нью-Йорка. Она терпеть не могла градостроителей и политиков и яростно нападала а традиционное городское планирование, особенно в связи с его кажущейся неспособностью придавать главное значение не зданиям и дорогам, а людям. Следующие известные цитаты из ее трудов дают хорошее представление о ее критической точке зрения:
Градостроительная псевдонаука почти невротична в том упорстве, с которым она воспроизводит эмпирические неудачи и игнорирует эмпирический успех.
Таким образом, полагаясь на карты как своего рода высшую реальность, проектировщики и градостроители считают, что, чтобы создать прогулочную зону, нужно просто нанести ее на карту там, где им этого хочется, а потом построить ее на этом месте. Но для прогулочной зоны нужно, чтобы там кто-то прогуливался.
Город нельзя подчинить какой бы то ни было внешней логике; его образуют люди, и именно к ним, а не к зданиям нужно приспосабливать наши планы. ‹…› Мы видим, что людям нравится.
Его целью было создание самодостаточных малых городов – городов действительно очень приятных, если только вы человек послушный, не имеете собственных планов и согласны прожить жизнь среди людей, также не имеющих собственных планов. Как и во всех утопиях, право иметь свои сколько-нибудь серьезные планы оставляют за собой те, кто возглавляет проект.
«Его» в последней цитате относится к сэру Эбенезеру Говарду, автору концепции «города-сада». Она оказывала большое влияние на городское планирование в течение всего ХХ в., служа идеализированной моделью для городов-спутников мегаполисов по всему миру. Говард был вдохновенным утопистом, на которого произвели большое впечатление нищета и эксплуатация британского рабочего класса XIX в. В видении Говарда город-сад должен был быть распланированным населенным пунктом с раздельными зонами для жизни (жилья), фабрик (промышленности) и природы (сельского хозяйства) определенных пропорций, которые он считал идеальными для максимального использования лучших черт городской и сельской жизни. Никаких трущоб, никакого загрязнения окружающей среды, изобилие свежего воздуха и пространства для привольной, полноценной жизни. Такая интеграция города и деревни стала бы шагом к новому цивилизованному обществу, своего рода причудливым союзом либертарианства и социализма. Города-сады должны были быть в основном независимыми и существовать под коллективным управлением своих жителей, экономически заинтересованных в них, хотя и не владеющих их землей.
В отличие от большинства утопических мечтаний, идеи Говарда оказались весьма близки как либеральным мыслителям, так и прагматичным инвесторам. Ему удалось создать компанию, которая привлекла достаточное количество частных инвестиций для постройки на пустующих землях к северу от Лондона двух таких городов – Лечворта (1899), в котором живет сейчас 33 тысячи человек, и Велвина (1919), население которого составляет сейчас 43 тысячи. Однако для осуществления его мечты в реальном мире потребовалось отбросить или серьезно изменить многие из его идеалов, в том числе то самое жестко структурированное иерархическое планирование, против которого столь резко выступала Джейн Джекобс. Тем не менее его основополагающая философия распланированного «городского и сельского» населенного пункта сохранилась по сей день и оставила свой след не только в многочисленных вариантах городов-садов, возникших за это время по всему миру, но и в концепциях проектирования почти всех городов-спутников почти всех мегаполисов. Интересный крупномасштабный пример подобного влияния можно найти в Сингапуре. Хотя этот город превратился в крупнейший финансовый центр с населением более пяти миллионов человек, в котором продолжают возводить все те же претенциозные небоскребы из стали и стекла, его по-прежнему спасает сохранение идеала крупномасштабного города-сада. Это связано в первую очередь с предусмотрительностью руководителя этой страны, ныне покойного авторитарного мечтателя Ли Куан Ю, который еще в 1967 г. потребовал, чтобы, несмотря на хроническую нехватку земли, Сингапур развивался как «город в саду», в котором было бы изобилие растительности, открытые зеленые пространства и ощущение буйства тропической природы. Возможно, Сингапур – не самый захватывающий город в мире, но в нем очень хорошо ощущается эта «зеленая атмосфера».
Как ни странно, в проектах городов-садов, созданных Говардом, нет ничего органического. Их конфигурация и организация сводятся к простейшей евклидовой геометрии; из искривленных линий в них можно найти только правильные окружности, соединенные правильными же прямыми. Они не имеют ничего общего с кажущимся сумбуром и беспорядком городов, поселков и деревень, развившихся органически. В идеале города-сада Эбенезера Говарда – пример его проекта приведен на с. 286 – нет места никаким фрактальным линиям, поверхностям или сетям а-ля Мандельброт. Такое отдаление от органической геометрии стало фирменным знаком модернистского движения ХХ в., как в архитектуре, так и в градостроительстве. Возможно, самым ярким его представителем был чрезвычайно влиятельный франко-швейцарский архитектор и теоретик городского планирования Шарль Эдуар Жаннере-Гри, всемирно известный под именем Ле Корбюзье, философию которого часто сводят к принципу «форма следует функции». Кстати, и псевдоним, образованный из девичьей фамилии своей матери, он взял отчасти для того, чтобы продемонстрировать, что любой человек может заново открыть себя.
Слева вверху: пример планов города-сада Эбенезера Говарда. Справа вверху: новый город Масдар в эмирате Абу-Даби Слева в середине и внизу: проект нового города Ле Корбюзье
Как и на Эбенезера Говарда, на Ле Корбюзье оказали большое влияние ужасающие условия жизни в городских трущобах, и он искал путей действенного облегчения участи городской бедноты. Именно на этом стремлении было основано его дерзкое предложение снести большую часть центра Парижа (и, к слову, Стокгольма) и застроить его множеством небоскребов из тяжелого бетона, стекла и стали, которые перемежались бы с железнодорожными линиями, автомагистралями и даже аэропортами. Это был проект весьма спартанский и даже несколько зловещий, вполне в духе правого сдвига политической идеологи архитектора, происходившего в бурные тридцатые годы. Отражается это и в его формулировках – «зачистка» города, развитие «спокойной и мощной архитектуры» и тому подобное, – а также в том, как он настаивает на проектировании зданий без каких бы то ни было украшений. Слава богу, этим грандиозным планам не суждено было осуществиться, и мы по-прежнему можем наслаждаться самыми декадентскими архитектурными излишествами центров Парижа и Стокгольма.
Ле Корбюзье оказал огромное влияние на архитекторов и градостроителей всего мира, о чем свидетельствует преобладание жестких конструкций из стали и бетона в центральных районах всех наших крупных городов. Если градостроительная философия Говарда оставила неизгладимый след на жизни городов-сателлитов, то идеи Корбюзье стали столь же неотъемлемой частью ландшафта городского центра. Это особенно хорошо видно в проектах недавно построенных столиц, таких как Канберра, Чандигарх или Бразилиа. Особенного внимания заслуживает случай города Бразилиа, общественные здания которого проектировал Оскар Нимейер, на которого Ле Корбюзье оказал большое влияние. Однако восхищение Нимейера этим архитектором не было безграничным; он заявлял:
Меня не привлекают прямые углы и прямые линии, жесткие и несгибаемые, созданные человеком. Меня привлекают свободно текущие, чувственные кривые. Кривые, которые я вижу в горах своей страны, в извивах ее рек, в волнах океана, в формах любимой женщины. Кривые образуют всю Вселенную, искривленную Вселенную Эйнштейна.
Кстати, к этому перечню вполне можно было бы добавить Мандельброта и фракталы. Увы, несмотря на столь восхитительные заявления, Бразилиа стал символом того, каким не должен быть город. Его часто называют «бетонными джунглями», жесткими и бездушными, несмотря даже на наличие в нем множества открытых зеленых пространств и парков, созданных пд влиянием идей все того же Эбенезера Говарда. Посетив Бразилиа вскоре после его торжественного открытия в 1960 г., французская авангардистская писательница и философ Симона де Бовуар, подобно Джейн Джекобс, задавалась следующими риторическими вопросами:
Кому может быть интересно гулять в нем? ‹…› Улица, это место встречи… прохожих, домов и магазинов, машин и пешеходов… не существует и никогда не будет существовать в Бразилиа.
Сейчас, пятьдесят лет спустя, этот город, насчитывающий теперь более двух с половиной миллионов жителей, начинает освобождаться от оков исходного плана и постепенно становится более органическим, образуя те самые «места встреч», присущие среде, более пригодной для жизни человека. Однако в 1989 г., всего через два года после того, как Кендзо Танге получил Притцкеровскую премию, она была присуждена Оскару Нимейеру. Еще один, более поздний притцкеровский лауреат, Норман Фостер, также предпринял попытку проектирования города с нуля, на этот раз в суровых условиях пустынной зоны Персидского залива. Речь идет о широко разрекламированном проекте – городе Масдаре в эмирате Абу-Даби, который должен стать образцом экологически устойчивого, энергосберегающего, удобного для человека высокотехнологичного поселения, использующего изобилующую в тех местах солнечную энергию на основе поразительных достижений информационных технологий. Этот дерзкий, захватывающий проект не лишен, однако, некоторых странностей. Предполагается, что город, в котором к 2025 г. должно насчитываться около пятидесяти тысяч жителей, будет стоить порядка 20 миллиардов долларов. Его основной индустрией должны стать исследования в области высоких технологий и экологическое производство, причем ожидается, что еще 60 тысяч человек будут ездить в него на работу из самого Абу-Даби. Возможно, самая странная черта Масдара заключается в том, что его проектные очертания сделаны максимально неорганическими и неинтересными: границы города образуют точный квадрат. Вот именно, город-квадрат[109].
Трудно не увидеть в Масдаре не живой, многогранный, самостоятельный город, а, по сути дела, увеличенный пригородный технопарк с частным жильем. Во многих отношениях его идеология является следствием концепции города-сада Эбенезера Говарда, привнесенной в культуру высоких технологий XXI в., – за исключением того, что спроектирован он не для рабочей бедноты, а для привилегированного класса. Николай Урусофф, работавший с 2004 по 2011 г. архитектурным критиком газеты New York Times, заявил, что Масдар – это квинтэссенция идеи огороженного коттеджного поселка: «кристаллизация еще одного глобального явления, все более четкого разделения мира на изысканные, дорогостоящие анклавы и огромные, бесформенные гетто, в которых такие вопросы, как экологическая устойчивость, мало кого занимают». Пока что рано судить, станет ли Масдар настоящим городом или останется всего лишь грандиозным, роскошным «коттеджным поселком» посреди Аравийской пустыни.
Противоречия между формой и функцией, между городом и деревней, между органическим эволюционным развитием и скупостью лишенного украшений железобетона, а также между сложностью фрактальных кривых и поверхностей и простотой евклидовой геометрии остаются предметом продолжающихся дискуссий, не имеющих простых решений и не дающих очевидных ответов. Многие из современных архитекторов изучали различные аспекты этих продолжающихся противоречий, боролись или экспериментировали с ними. Сравнить хотя бы заявление Нимейера, в котором он отвергает «жесткое и несгибаемое» и приветствует «свободно текущие, чувственные кривые», с реальным воплощением некоторых из его бездушных бетонных зданий. Вспомнить хотя бы об органическом изяществе терминала авиакомпании TWA, который построил в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди Ээро Сааринен, или причудливый концертный зал, созданный в Лос-Анджелесе Фрэнком Гери, и его же волшебный музей в испанском городе Бильбао, или великолепное здание Сиднейской оперы, созданное Йорном Утзоном, или даже тот возвышающийся над Лондоном странный фаллический символ, прозванный «Огурцом», – его придумал тот же самый Фостер, который строит сейчас в пустыне свой квадратный город. На противоположном от идей Ле Корбюзье и его учеников конце этого дискуссионного спектра находится россыпь таких замечательных архитекторов, как Антонио Гауди в Испании или Брюс Гофф в США. Эти двое, по-видимому, ничем не ограничивали полет своего воображения и охотно воплощали самые фантастические органические сооружения, свидетельством чему служат главный шедевр Гауди, потрясающий храм Святого Семейства (Саграда Фамилиа) в Барселоне, или построенный Гоффом дом семьи Бавинджер в городе Норман, штат Оклахома: источником вдохновения его проекта стала знаменитая последовательность чисел Фибоначчи, проявляющаяся в строении раковины наутилуса, цветка подсолнечника и спиральных галактик.
Все эти примеры относятся к новаторским проектам отдельных зданий, но они не имеют никаких аналогов в проектах целых городов или городского развития, если не считать вариаций на тему города-сада. Однако в 1980-х гг. возникло так называемое движение Нового урбанизма, бывшее попыткой сопротивления некоторым из проблем, порожденных обществом, в котором господствуют автомобили, сталь и бетон, где люди отчуждаются друг от друга, а долгие переезды между домом и работой становятся нормой. Это движение выступало за возврат, как архитектурный, так и социальный и коммерческий, к многогранным районам смешанного назначения с особым акцентом на проектирование структур общественного пользования, благоприятных для пешеходов и общественного транспорта. Его идеи во многом были вдохновлены критическими работами великих урбанистов Льюиса Мамфорда и Джейн Джекобс, напоминавших нам, что города – это не только инфраструктура, обслуживающая автомобили, и корпоративные высотки из стали и бетона, но прежде всего люди.
Джейн Джекобс приобрела громкую известность в 1950-х и 1960-х гг. в связи со своей борьбой против планов прокладки через нью-йоркский район Гринвич-Виллидж, в котором она жила в то время, четырехполосного шоссе автострадного типа. Дело было в самый разгар эпохи «городской реновации» и «расчистки трущоб», когда в центральных районах городов возводились малопривлекательные высотные многоквартирные дома и прокладывались многополосные автострады, сооружаемые практически без учета существующей городской структуры и человеческих ощущений. Вдохновителем всей этой деятельности в Нью-Йорке был Роберт Мозес, могущественный организатор, который занимался преобразованием и омоложением городской инфраструктуры в течение почти сорока лет. Хотя он сделал немало полезного для Нью-Йорка, в том числе построил мосты и автострады, соединившие Манхэттен с другими частями города, его достижения доставались ценой уничтожения многих старых районов.
Важным элементом проекта Мозеса было строительство Автострады Нижнего Манхэттена (Lower Manhattan Expressway), которая должна была пройти прямо через районы Гринвич-Виллидж, Вашингтон-Сквер и Сохо[110]. Джейн Джекобс возглавила борьбу против такого беспрецедентного захвата земли, утверждая, что этот проект уничтожит существенные черты города. Долгая и ожесточенная борьба закончилась ее победой. В течение этого времени ее активно поливали грязью, причем не только политики и застройщики, но и многие градостроители и архитекторы, в том числе Льюис Мамфорд, который считал ее безответственным сентиментальным реакционером, стоящим на пути прогресса и будущего коммерческого процветания Нью-Йорка. В лучших традициях школы Ле Корбюзье, проект Мозеса также предполагал снос множества кварталов города и строительство на их месте роскошных высоток. Хотя во многих других районах города эти планы были осуществлены, в Гринвич-Виллидж им не суждено было сбыться. Тем не менее они привели к созданию района Вашингтон-Сквер-Виллидж, застроенного Нью-Йоркским университетом (NYU), в котором впоследствии стали селить преподавателей университета. Я сам имел удовольствие жить там несколько раз, во время длительных командировок в NYU. Мне там очень понравилось – не то чтобы мне так уж нравилось жить в стандартной современной многоквартирной высотке, но зато прямо за дверью начиналась восхитительно интересная жизнь Гринвич-Виллидж, Сохо и Маленькой Италии. Эти районы населяют все те безумцы, благодаря которым и возникает вся та суета, все те художественные галереи, рестораны и всевозможные культурные проекты, которые делают Нью-Йорк таким великим городом. И все это Мозес мог бы, хотя и ненамеренно, уничтожить, если бы не святая заступница Джейн. И Нью-Йорк, и все мы должны быть вечно благодарны ей за это.
От подобных программ городской реновации и расчистки трущоб, хотя они всегда проводились с самыми лучшими намерениями и часто по вполне основательным причинам, пострадали многие крупные города по всему миру. Слишком часто не принималось в расчет чувство общности, не говоря уже об участи переселяемых, что приводило к бесчисленным непредвиденным последствиям. Слишком во многих случаях прокладка лишенных съездов автострад приводила к разбиению исторических районов на изолированные островки, в буквальном смысле слова отрезанные от основных магистралей города. В сочетании с возведением безликих высотных жилых комплексов эти островки часто превращались в рассадники отчуждения и преступности. Лучшим доказательством справедливости призывов Джейн Джекобс стало то, что огромные автострады, проложенные пятьдесят лет назад через центры крупных американских городов, например Бостона, Сиэтла или Сан-Франциско, сейчас сносят. Восстановить старые районы и возродить общественные структуры, складывавшиеся многими десятилетиями, не так-то просто, но города обладают большой жизнестойкостью и способностью к адаптации, и в них, несомненно, разовьется что-нибудь новое и неожиданное.
В качестве примечания к этому эпизоду истории урбанизма можно отметить следующее поучительное обстоятельство: в состав долгосрочных стратегических планов развития NYU входит проект перестройки района Вашингтон-Сквер-Виллидж со сносом тех самых многоквартирных высоток и восстановлением изначальной структуры района. Plus a change, plus c’est la mme chose[111].
В интервью 2001 г.[112] Джейн Джекобс спросили:
Как вы думаете, как вас больше всего будут вспоминать? Именно вы встали на пути государственных бульдозеров и городской реновации и заявили, что они уничтожают источник жизненной силы этих городов. Это и останется в истории?
Она ответила:
Нет. Если обо мне и будут вспоминать как об одном из заметных мыслителей своего века, то самым важным моим делом следует считать изучение причин расширения экономики. Этот вопрос всегда ставил людей в тупик. Мне кажется, что я поняла, в чем заключаются эти причины.
Увы, она ошибалась. Ее больше всего вспоминают именно в связи с ее борьбой за сохранение Нижнего Манхэттена, а также с ее идеями о природе и функционировании городов, в том числе пониманием жизненно важной роли многообразия и общественных связей в образовании живой социально-экономической экологии города. В последние годы ее роль «одного из заметных мыслителей своего века» наконец признается не только специалистами по городскому планированию, но и в более широких кругах знатоков и интеллектуалов. К сожалению, именно с теми ее достижениями в области экономики, которыми она хотела запомниться, дело обстоит гораздо хуже: они почти не получили признания. Она написала несколько книг по экономике городов и экономике в целом, в которых в основном рассматривала вопросы роста и возникновения новых технологий.
Одним из лейтмотивов ее работ является мысль о том, что с макроэкономической точки зрения в роли основного двигателя экономического развития выступают не национальные государства, как обычно считает большинство экономистов классической школы, а города. В то время эта идея казалась радикальной и осталась практически не замеченной экономистами, тем более что Джейн формально не принадлежала к их клану. Разумеется, экономика страны тесно связана с экономической деятельностью городов, но, как и во всякой сложной адаптивной системе, целое оказывается большим, чем простая сумма его составляющих.
Почти пятьдесят лет спустя после того, как Джейн сформулировала свои гипотезы о первичной роли городов в национальной экономике, многие из тех, кто изучает города с самых разных точек зрения, приходят к тем или иным вариантам тех же выводов. Мы живем в эпоху урбаноцена, и в мировом масштабе оказывается, что судьбу планеты определяет судьба городов. Джейн осознала эту истину более пятидесяти лет назад, и лишь теперь некоторые специалисты начинают признавать ее необычайную прозорливость. Эту тему разрабатывают многие авторы, в том числе специалисты по городской экономике Эдвард Глейзер и Ричард Флорида, но решительнее и смелее всех выступал Бенджамин Барбер, опубликовавший книгу под провокационным названием «Если бы миром управляли мэры: Упадок государств и подъем городов»[113]. Это говорит о растущем понимании того, что все самое важное происходит именно в городах, в которых проблемы приходится решать немедленно и в которых, по-видимому, работают системы управления – по меньшей мере по сравнению со все большей неработоспособностью национальных государств.
3. Отступление: личные впечатления от города-сада и нового города
После Второй мировой войны, причинившей огромные разрушения и уничтожившей миллионы домов, лейбористское правительство Великобритании оказалось перед лицом гигантского жилищного кризиса. Поскольку поврежденные дома по большей части находились в рабочих районах, это существенно ускорило уже шедшие процессы «развития городов» и «расчистки трущоб», стоявшие на повестке дня еще до войны: идея города-сада Эбенезера Говарда была классическим примером идеологии именно такой программы. Однако к 1950–1960-м гг. предпочтительная модель нового жилья отошла от традиционной британской идеи отдельного дома для каждой семьи в сторону более экономичного строительства многоэтажных многоквартирных комплексов. Эти дома не пользовались безусловным успехом и породили многие из тех проблем, о которых мы говорили выше. Не далее как в 2007 г. Уилл Хаттон, оксфордский политический экономист и бывший главный редактор газеты Observer, отмечал:
По правде говоря, социальное жилье – это могила для живых. Отказаться от жилья нельзя, так как есть опасность никогда не получить другого, но остаться в нем значит оказаться узником гетто, как географического, так и духовного. ‹…› Социальные жилые комплексы должны быть менее отрезаны от остальных элементов экономики и общества.
В рамках этой послевоенной жилищной программы британское правительство запустило проект создания целой серии «новых городов», в которые должны были переехать жители разбомбленных бедных городских районов. Их проект вдохновлялся тогдашним пониманием идеи города-сада и предполагал новую жизнь для рабочего класса с жильем в сельской местности и работой на заводах, расположенных в отдельных анклавах. Первым из таких поселений стал город Стивенидж, выбранный в 1946 г. в качестве места сооружения «нового города», в котором я прожил почти год, в 1957–1958 гг. Поэтому у меня есть некоторое личное представление о том, на что похожа жизнь в городе-саде.
К великому своему удивлению, я был принят в колледж Гонвилл-энд-Киз Кембриджского университета и должен был учиться там с начала учебного года, осенью 1958 г. Поэтому к концу 1957 г. я поспешно отчислился из своей школы в лондонском Ист-Энде и устроился на временную работу в исследовательскую лабораторию компании International Computers Limited (ICL), также известной под названием British Tabulating Machine Company, находившуюся в Стивенидже.
Как это бывает с любым подростком, впервые оторвавшимся от родительского дома, этот опыт значительно повлиял на меня и многому научил. Из множества новых идей, открывшихся перео мною в это время, можно выделить три, имеющие отношение к нашей теме. Первая – и наиболее очевидная – из них состоит в том, что работа в области исследований и инноваций, допускающая и даже поощряющая свободу мыслей и действий, несравнимо лучше, чем монотонный труд на пивоварне, сводящийся к бездумной загрузке в машину пивных бутылок.
Кроме того, оказалось, что Джейн Джекобс – никогда, как я подозреваю, не бывавшая ни в одном городе-саде, несмотря на все свои обличительные замечания о них, – была права. О том, кто такая Джейн Джекобс, я узнал лишь много лет спустя, но и тогда я быстро понял, что по сравнению с жизнью в несколько обветшалом викторианском таунхаусе в Северо-Восточном Лондоне, населенном небогатыми представителями среднего класса, Стивенидж казался модным сельским курортом. И это-то и было плохо. В точном соответствии с описанием, которое предложила несколькими годами раньше Джекобс, это был «город действительно очень приятный, если только вы человек послушный, не имеете собственных планов и согласны прожить жизнь среди людей, также не имеющих собственных планов». Несмотря на всю резкость этого определения, оно точно отражает ту атмосферу скуки, монотонности, изолированности и доброжелательной «любезности», скрывающей и подавляющей тайные страсти, которая стала впоследствии ассоциироваться с пригородными поселками. Не то чтобы лондонские районы Хакни или Ист-Энд были вершинами городского блаженства; кстати говоря, несмотря на все декларации Джейн, не были ими и Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия или Бронкс. Хотя сейчас вошла в моду некоторая романтическая ностальгия по пролетарскому Лондону, велеречивые тирады об общности жизни в городских гетто, на самом деле жизнь эта была грязной, нездоровой, тяжелой и опасной, и в ней существовали и свои собственные архитектурные ужасы, и свои собственные возможности для одиночества и отчужденности. Однако все это в большой степени компенсировалось активностью, разнообразием и ясным ощущением участия людей в жизни с легкодоступными музеями, концертами, театрами, кино, спортивными соревнованиями, собраниями, митингами протеста и всеми остальными восхитительными возможностями, которые может предложить своим жителям традиционный город.
Это было на заре появления в продаже компьютеров, и компания ICL, так же как IBM в Соединенных Штатах, разрабатывала машины как старомодные, на вакуумных лампах, так и новые, на основе транзисторов; программировали их при помощи ужасных перфокарт Холлерита. Люди моего возраста вспоминают их со своего рода пропитанной кошмарами ностальгией. Несколькими годами позже, когда я учился в магистратуре в Стэнфорде, я страстно возненавидел эти чудовищные перфокарты и занудную процедуру программирования на языках со странными именами, вроде Фортрана и Балгола. Честно говоря, очень жаль, потому что это навсегда отвратило меня от разработки компьютеров и программирования. Хотя и то и другое получалось у меня довольно неплохо и я присутствовал «при начале», и в Стивенидже, и в Кремниевой долине (тогда еще так не называвшейся), мне не хватило прозорливости понять, что компьютеры когда-нибудь пригодятся не только для выполнения сложных вычислений и статистического анализа. Надо думать, именно поэтому я и стал в конце концов ученым с весьма скромным достатком, а не одним из богатых предпринимателей в области информационных технологий, выпускавшихся стэнфордской фабрикой.
Третье из посетивших меня откровений было осознанием сложности и потенциального могущества электрических схем. Всего из нескольких простых элементов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности и транзисторов), соединенных проводами некоторым замысловатым и сложным, но основанным на простых правилах образом, возникало мощное и «сложное» устройство, способное выполнять в мгновение ока необычайно трудные операции, – то есть электронный компьютер. Так я впервые познакомился с примитивными проявлениями концепций сетей, эмерджентности и сложности, хотя вся эта терминология еще не существовала в явном виде. Когда я начал студенческую жизнь в Кембридже, все это было забыто. Но что-то, видимо, незаметно для меня самого сохранилось в глубинах моего подсознания и вновь всплыло из них сорок лет спустя, когда я начал подозревать, что именно сети образуют фундаментальную систему, позволяющую понять, как работают наши тела, города и компании.
4. Промежуточные итоги и выводы
Это краткое и несколько личное отступление не претендует на роль всеобъемлющего критического рассмотрения или объективного обзора городского планирования и проектирования. Я скорее пытался выделить некоторые из их конкретных характеристик, которые могут подготовить нас к разговору о возможности создания теории городов. Поскольку я не специалист по градостроению, проектированию или архитектуре и не получил никакого формального образования в этих областях, мои наблюдения не могут не быть неполными. Однако из них можно сделать один важный вывод, а именно что программы городского проектирования и реновации – и в частности, почти все вновь созданные распланированные города, например Вашингтон, Канберра, Бразилиа или Исламабад, – в большинстве своем не были очень успешными. Кажется, это мнение разделяет большинство критиков, экспертов, комментаторов и тому подобных специалистов. Вот, например, какие саркастические замечания о Канберре делает в своей книге «Другой конец света» популярный писатель-путешественник Билл Брайсон:
Канберра… Ничего особенного!
Канберра… Зачем дожидаться смерти?
Канберра… Ворота во весь остальной мир![114]
Известно, как трудно объективно оценить успешность города. Неясно даже, какие именно характеристики и параметры следует использовать, чтобы понять, насколько удачным или неудачным оказался тот или иной город. Результаты измерения психологических характеристик – счастья, удовлетворенности, качества жизни – с трудом поддаются численному анализу, не говоря уже о моделировании. Тем не менее им явно поддаются более осязаемые характеристики жизни – например уровень дохода, состояние здоровья и интенсивность культурной жизни. Многое из того, что было написано об успешности городов, не выходит за рамки замысловатых рассуждений на основе таких же впечатлений, какие я приводил выше, и, в лучшем случае, интуитивного анализа историй и рассказов, вполне в духе Джейн Джекобс или Льюиса Мамфорда[115].
Существует множество социологических исследований, основанных на опросах и статистических обзорах, в которых делаются попытки разработать более объективный, «научный» подход. При всей своей давней и славной истории городская социология остается дисциплиной небесспорной и кое в чем на удивление местечковой. Даже Роберт Мозес использовал ее для обоснования своих планов прокладки автострад через традиционно жилые районы. Однако, несмотря на все это, выглядит бесспорным, что все распланированные города оказываются в той или иной степени бездушными и отталкивающими, лишенными жизненной энергии и культурной жизни и в целом бедными общественным духом. Что касается обещаний и рекламной шумихи, обычно сопровождающих создание нового города или крупную программу городского развития, наверное, можно сказать, что они никогда не реализуются в полной мере и во многих случаях могут считаться неудачными.
Однако города обладают поразительной жизнестойкостью и, будучи сложными адаптивными системами, непрерывно развиваются. Например, многие из нас считали Вашингтон «негородом», в который мы ездили только лишь из интереса к истории или патриотических соображений, а также когда нам приходилось иметь дело с федеральным правительством. Он был довольно-таки мертвым местом, бетонными джунглями, над которыми возвышались массивные правительственные здания, источающие жутковатый дух кафкианской бюрократии и странным образом напоминающие старый советский стиль.
Но взгляните на Вашингтон сегодняшний: несмотря на все свои многочисленные проблемы, он превратился в чрезвычайно многогранный и живой город, привлекающий множество энергичных и творческих молодых людей, завороженных его атмосферой активности и общности. В прилегающих к городу окрестностях развилась экономическая деятельность, уже не зависящая от государственных должностей. И правительственные здания как будто по волшебству перестали выглядеть столь угрожающе; их образ смягчило окружающее их обилие превосходных ресторанов и других заведений, переполненных молодежью со всего мира. Вашингтону понадобилось долгое время, чтобы стать «настоящим» городом, местом, которое могло бы понравиться даже Джейн Джекобс. Так что надежда есть.
И это подводит меня к еще одному важному обстоятельству. Раньше в масштабах общей картины мира было, наверное, не так уж важно, будут ли такие новые распланированные, неорганические города, как Вашингтон, Бразилиа или даже Стивенидж, «неудачными» или же они станут восхитительными местами, дающими людям безграничные возможности для полноценной жизни, расширения личных горизонтов и присоединения к энергичным творческим сообществам. Города развиваются, и в них рано или поздно возникает душа, хотя этот процесс может занять немало времени. Кроме того, в не столь отдаленном прошлом в городской среде жила гораздо меньшая доля людей, и распланированных городов тоже было гораздо меньше. Однако в связи с тем, что уровень урбанизации растет экспоненциально – вспомним, что в среднем за ближайшие тридцать лет мы будем каждую неделю создавать на планете по новому городу с населением почти полтора миллиона человек, – эта ситуация изменилась полностью и бесповоротно.
Теперь успешность городов имеет значение. Новые города и городские районы строятся с поистине поразительной скоростью, чтобы угнаться за непрерывным экспоненциальным ростом численности населения. Только в Китае за следующие двадцать лет будет построено от двухсот до трехсот новых городов, население многих из которых будет превышать миллион человек. В то же время мегаполисы, уже господствующие в развивающихся странах, продолжают расширяться, и по мере того, как в города стекается все больше народа, во многих из них возникают все новые трущобы и неформальные поселения.
Как я уже отмечал, мегаполисы прошлого, подобные Лондону и Нью-Йорку, имели ту же незавидную репутацию, которую связывают с мегаполисами нынешними. Тем не менее они смогли превратиться в крупные экономические центры, раскрывающие широкие возможности и приводящие в движение мировую экономику. Но вот в чем состоит проблема: хотя города действительно развиваются, их изменения занимают десятилетия, а у нас уже не остается времени ждать. В случае Вашингтона этот процесс занял 150 лет, в случае Лондона – 100, а в случае Бразилиа – более 50 лет, причем его эволюция еще весьма далека от завершения. При этом следует учитывать огромные масштабы этой проблемы. Китай взял на себя умопомрачительную задачу создания сотен новых городов для урбанизации 300 миллионов сельских жителей. Они строятся в спешке и без глубокого понимания сложности городов и их взаимосвязи с социально-экономической успешностью. И действительно, большинство обозревателей сообщает, что многие из этих новых городов, подобно классическим пригородным поселениям, оказываются бездушными городами-призраками, лишенными сильного духа общности. У городов имеются органические качества. Источником их развития и физического роста являются взаимодействия между людьми. Великие мегаполисы мира облегчают такое взаимодействие, создают тот неуловимый дух, ту энергию, которые порождают их новизну и радость и вносят важный вклад в жизнеспособность и успешность, как с экономической, так и с социальной точки зрения. Игнорировать этот жизненно важный аспект урбанизации и обращать внимание только на здания и инфраструктуру было бы недальновидно и даже опасно.
Глава 7. К созданию научной теории городов
Почти все теории города – это теории по большей части качественные, происходящие в основном из целевых исследований конкретных городов или групп городов, которые дополняются рассказами, забавными случаями и интуицией. Они редко бывают системными и обычно не предусматривают объединение вопросов инфраструктуры и вопросов социально-экономической динамики. Возможно, создание теорий городов того «физического» типа, за который выступаю я, просто невозможно. Города и процессы урбанизации могут оказаться попросту «слишком сложными», чтобы можно было полезным образом описать их какими-либо законами и правилами, действующими независимо от их индивидуальных характеристик. Точные науки лучше всего справляются с поиском общих черт, регулярности, принципов и универсальных положений, выходящих за пределы и лежащих в основе строения и поведения всех отдельных компонентов, будь то кварки или галактики, электроны или клетки, самолеты или компьютеры, люди или города. И лучше всего они работают там, где это можно сделать в рамках численной, допускающей математические вычисления, предсказательной системы, как, например, в случае электронов, самолетов или компьютеров. Однако существует множество вопросов, например о сущности сознания, о происхождении жизни, о зарождении Вселенной или, если уж на то пошло, тех же самых городов, которые, возможно, в принципе нельзя разрешить таким образом, и тогда мы должны признать это и ограничиться такими пределами своего понимания и своих знаний. Тем не менее мы обязаны использовать научный метод до тех пор, пока это допустимо, чтобы определить, где пролегают такие границы его применения, не смущаясь призраком непреодолимой сложности и многообразия. Собственно говоря, сам вопрос о существовании таких границ, потенциальных пределов знаний и понимания, – это вопрос фундаментальный и чрезвычайно важный, как с философской, так и с практической точки зрения.