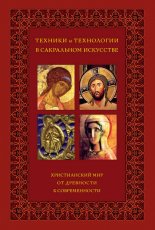Во имя Гуччи. Мемуары дочери Гуччи Патрисия

Было яркое пятничное утро 1956 года, когда моя мать приблизилась к ключевому моменту своей жизни, входя в магазин, о котором никогда прежде не слышала. Не сознавая важности этого дня, она в изумлении оглядывала роскошный, но скромный по размерам магазин с его деревянными витринами, благоухающими новенькой кожей. Когда Лоран поманил ее за собой, она последовала за ним в офис на первом этаже, заметив, что каблуки ее туфель глубоко утопают в зеленом ковре. Зять Пьетро был утонченным, высоким, стройным малым и казался совершенно расслабленным. Он рассказал ей, что рабочее место, которое может ей подойти, – это работа на складе с начальной зарплатой в 25 тысяч лир в неделю. Эта сумма показалась ей ошеломительной.
– Если будешь хорошо справляться, сможешь пробиться и в торговый зал, – прибавил он.
В восторге от идеи быть одной из тех шикарных «витринных» девушек, мимо которых она только что проходила на первом этаже, мама едва не налетела на него, когда он повел ее по коридору в другой кабинет с дверью, отделанной стеклянной панелью. Поворачивая ручку, он улыбнулся и сказал:
– Вначале я должен представить тебя боссу, – и перед тем как открыть дверь, Лоран прошептал: «Ничего не говори, пока к тебе не обратятся, да и тогда говори не слишком много». Она внезапно так занервничала, что у нее закружилась голова.
Они вошли в удивительно непритязательный кабинет, искусно обставленный в духе неофициальности. В маленькой приемной сидела, быстро печатая на машинке, секретарша. Позади большого деревянного стола стоял стильный, модно одетый бизнесмен с редеющими волосами, элегантно зачесанными назад.
– Дотторе Гуччи, это девушка, о которой я вам говорил, – беззаботно сказал Лоран. Он использовал обращение «дотторе», обычно используемое в речи в знак почтения, вне зависимости от квалификации лица, к которому обращаются. – Ее зовут Бруна Паломбо. Она училась на стенографистку, но, если вы одобрите, я хотел бы для начала испытать ее на первом этаже.
Мой отец вышел из-за стола, чтобы пожать моей матери руку и сверкнуть обезоруживающей улыбкой. Она подняла глаза, встретившись с его взглядом, когда он спросил, сколько ей лет. Она сказала, что в октябре будет девятнадцать, он оглядел ее и ответил:
– Очень хорошо. Можете начинать на следующей неделе.
Она опустила взгляд, едва веря своим ушам.
Те несколько минут, что она провела внутри магазина Гуччи, были единственной темой, о которой она была способна говорить в тот день. Едва добравшись до дома, она буквально засыпала мою бабушку и свою подругу Марию-Грацию подробными рассказами о том, как там все богато, и то и дело восклицая:
– Вы даже представить себе не можете!
– А твой начальник каков? – спросила Делия.
– Он добрый, – задумчиво ответила Бруна. – И у него синие-пресиние глаза… такие глаза!
Момент, когда ей предложили работу, был, как она потом рассказывала мне, самым волнующим событием ее молодых лет: «Я просто не могла дождаться, когда приступлю к работе!»
Когда моя мать в понедельник села в оранжевый автобус «М», чтобы отправиться на работу, это определенно был один из счастливейших дней в ее жизни. Казалось, события приобрели сходство с кинофильмом; Бруна ехала мимо Колизея до Пьяцца ди Спанья и воображала, что играет роль молодой горожанки. Благодаря случаю и удаче она каким-то образом проскользнула в волшебный портал и вступила в другой мир, о котором мечтала, будучи маленькой девочкой, – мир, населенный людьми, вольными делать все, что им вздумается, и носить платья вроде тех, что создавала ее мать.
Первые несколько недель она работала с описями, инвентаризацией и установкой ценников в служебном помещении магазина – и делала это с удовольствием. Всякий раз, когда выдавалась возможность, она заглядывала в торговый зал и увлеченно наблюдала, как сливки общества собирались там под хрустальными люстрами: «Этот магазин привлекал таких интересных, элегантных людей, все они явно были богатыми, многие приходили из расположенных неподалеку посольств, были некоторые люди из киноиндустрии. Меня завораживало то, как они одевались, какие прекрасные ювелирные украшения носили».
Она незаметно для окружающих изучала и свойственный этим утонченным посетителям язык тела, а также позы и повадки обслуживающего персонала, готового с энтузиазмом расхваливать товары и предлагать покупателям любую необходимую им помощь. «Buongiorno, posso esserle d’aiuto?»[20] – вежливо спрашивали они, демонстрируя тот уровень этикета, на котором настаивала семья Гуччи еще со времен моего деда.
Пусть моя мать ни разу не слышала этого названия до того, как начала там работать, но она быстро пришла к пониманию, что это один из самых роскошных брендов во всей Италии: в двери магазина часто входили такие звезды, как Ава Гарднер, Джоан Кроуфорд, Керк Дуглас и Кларк Гейбл. Даже королева Англии была покупательницей GUCCI: будучи юной принцессой, она заглядывала во флорентийский магазин. Юную представительницу британского королевского семейства в сопровождении фрейлины обслуживал лично Гуччо Гуччи, и она якобы сказала ему: «В Лондоне нет ничего подобного!»
Вскоре пришла очередь моей матери занять место в торговом зале – событие, которого она ждала с таким же трепетом, с каким модель ждет своего первого выхода на подиум.
Хотя она поначалу делала ошибки, ее скромность и милая улыбка вскоре завоевали симпатию персонала и покупателей. Когда я смотрю на ее фотографии того времени, многое становится понятно: она была потрясающей девушкой, и ее присутствие, должно быть, вызывало немало волнений. Один иранский дипломат, по-видимому, проникся к ней такими нежными чувствами, что стал одним из завсегдатаев магазина и как-то раз признался, что у нее, с ее темными волосами и фрфоровой кожей, «облик персидской красавицы».
Возвращаясь домой, она говорила моей бабушке, что работа у Гуччи стала сбывшейся мечтой, и весело добавляла: «Я каждый день чувствую себя так, словно попала в сказку!» По мере того как росла ее уверенность в себе, она, подражая более опытным девушкам в торговом зале, начала вовлекать посетителей в разговоры.
Мой отец, которого она знала как «дотторе Гуччи», то появлялся, то исчезал – и всегда с головокружительной скоростью. Он работал как минимум шесть дней в неделю и летал по всему земному шару. Его рабочее расписание было невероятно напряженным. Папа не переставал трудиться даже в августе, когда, следуя давней итальянской традиции, большинство римлян уезжали из города, чтобы отдохнуть у моря или в более прохладном горном климате. Он оставался работать, жалуясь, что все остальные его соотечественники – fannulloni, то есть бездельники.
Плотно надвинув на голову мягкую фетровую шляпу, зажав под мышкой кожаный атташе-кейс, мой отец носился с места на место, но никогда не упускал возможности зорко отслеживать все детали, оказываясь в каком-либо из своих магазинов. В манере, которой я сама не раз была свидетельницей, он останавливался, чтобы поправить малейшую несимметричность или проверить, достаточно ли сверкает какая-нибудь глянцевая поверхность, заставляя своих работников трепетать от страха. Он то и дело терял терпение и взрывался, распекая какого-нибудь бедолагу из мелких служащих, который неряшливо оформил витрину или осмелился оставить на стекле отпечаток пальца.
– Вы что, ослепли? – кричал он. – Неужели вы ничему здесь не научились?
Мама рассказывала мне, что, пока возраст не смягчил его характера, порой отец бывал совершенно чудовищным типом: «Он был подобен землетрясению. Его голос гремел по всему магазину. Люди от страха из туфель выпрыгивали!» Она дивилась его вспышкам гнева, но вполне привыкла к такой манере общения благодаря собственному отцу, так что просто закусывала губу и лишь молилась о том, чтобы никогда не подвернуться ему под горячую руку.
Однако в тот момент, когда в двери появлялся потенциальный покупатель, все мгновенно менялось – словно в театре при открытии занавеса, – и мой отец снова становился воплощением очарования. Всегда готовый пообщаться с теми, кто ценил принципы, на которых стояли Гуччи, он, точно пастух, направлял их к своим новейшим творениям. И не оставлял у завороженных мужчин и женщин никаких сомнений – по крайней мере, на несколько мгновений, – в том, что они находятся в самом центре его мира.
– Этот человек мог бы продать бедуинам собственную мать, – рассказывала мама бабушке, приходя домой. – Видеть его в действии – это нечто невероятное!
Чего она не сознавала, так это того, что отец, в свою очередь, наблюдает за ней. Жесткий и суровый с другими, с ней он был нехарактерно мягок. Всякий раз, видя ее, он окликал ее со своим неповторимым тосканским акцентом: «Чао, Нина!» – ласково сокращая начальные буквы придуманного им для нее прозвища – Брунина. Порой он останавливался, чтобы посмотреть, чем она занимается, или приподнять шляпу, приветствуя ее, и спросить, как у нее дела.
Довольная своей работой, мама расцвела и как молодая женщина, и как полноправный член команды продавцов. Поскольку теперь у нее были и собственные деньги, и крепнущее чувство собственной ценности, властная натура Пьетро все больше раздражала ее, особенно когда он начал настаивать, чтобы она не была «слишком дружелюбной» с покупателями. Его инсинуации вызывали у нее гнев. Она всегда вела себя подобающим образом – и в магазине, и вне его – и никогда не позволяла себе никаких неблаговидных поступков. После четырех проведенных вместе лет целомудренных (!) отношений, наверное, ей уже можно было доверять! Их все более неприязненные ссоры часто заканчивались тем, что она драматично разрывала помолвку. Тогда она со слезами стягивала с пальца его кольцо и клала его в обувную коробку с теми деньгами, которые они копили на будущее, переставшее для нее быть желанным.
Ей не с кем было поговорить о своих тревогах, поскольку ее лучшая подруга Мария-Грация перебралась в Америку, влюбившись в американца, и моей маме очень не хватало их заговорщицких посиделок. Ее подругой стала продавщица по имени Лючия, но они были недостаточно близки, чтобы обсуждать сердечные дела. И вот однажды в жизнь моей матери вошел человек, которому предстояло стать ее ближайшим другом.
Она стояла за прилавком магазина, когда впервые заметила красивого молодого мужчину с темными волосами и в «британском» на вид клетчатом коротком пальто с капюшоном, который бесцельно слонялся снаружи магазина. Она выглянула на улицу и спросила, может ли чем-нибудь ему помочь. Молодого человека звали Никола Минелли; у него был опыт работы продаж в Лондоне, и недавно он вернулся в Рим. «Ах, с каким удовольствием я бы здесь работал! – сказал он с шаловливой улыбкой, которая впоследствии стала столь хорошо знакома нам с матерью. – К кому мне следует обратиться насчет приема на работу?» Никола свободно говорил по-английски, и в нем чувствовался определенный стиль. На маму он сразу же произвел впечатление. Она с самого начала заподозрила, что он не интересуется ею как женщиной (и вообще любой женщиной, если уж на то пошло), – и оказалась права. Она пригласила его внутрь, а потом дала моему отцу знать, что на первом этаже его ждет молодой респектабельный мужчина, который ищет работу. Ей было велено проводить его наверх. Вскоре после этого Никола предстал перед ней, излучая благодарность, и сообщил, что приступит к работе со следующей недели.
Никола был для мамы даром Божьим, а со временем и для меня тоже. Обладатель изощренного чувства юмора, он не раз умело поданными магазинными сплетнями доводил маму до приступов хохота. «Видишь во-он того мужчину? Он думает, что если купит женщине самую дорогую сумку, то заставит ее полюбить себя. Да она сделает ему – с такой-то рожей! – ручкой, едва ее получит!» Ей так приятно было снова беззаботно смеяться. В последнее время маминым отношениям с Пьетро явно не хватало веселья.
Тем временем мой отец не утратил интереса к своей самой юной продавщице. Однажды, остановившись рядом с ней, чтобы проверить, как она работает, он внезапно протянул руку и тыльной стороной ладони погладил ее по щеке. Это был спонтанный любовный жест, от которого она вспыхнула, но не отшатнулась. Более того, когда он в следующий раз вышел в торговый зал, ее глаза нашли его, и на мгновение их взгляды встретились так, как не встречались никогда прежде. Он некоторое время смотрел ей прямо в глаза, а потом вышел.
В декабре 1957 года Лоран сказал служащим, что к ним придет особый покупатель. Дотторе Гуччи находился за границей, но его жена Олвен приехала из своего дома Вилла Камиллучча, расположенного в районе Монте Марио, на одном из семи холмов Рима, чтобы выбрать рождественские подарки для своих английских родственников и друзей. Как и всем остальным работникам магазина, маме было любопытно посмотреть, какова жена их босса. Она была приятно удивлена непритязательным видом англичанки средних лет; она казалась почти сконфуженной тем вниманием, которое ей все оказывали. Мама лично не обслуживала синьору Гуччи, но говорила впоследствии, что она увидела «замечательную леди» и «чрезвычайно милую».
В начале 1958 года мою мать вызвали в кабинет отца, и она сразу же встревожилась. «Я боялась, что сделала что-то не так», – рассказывала она мне. Охваченная трепетом, она постучалась и увидела его сидящим за столом. Еще больше маму встревожило то, что секретарши не было на ее вечном посту в уголке, словно он хотел переговорить со своей служащей наедине.
Он тут же успокоил мою мать, сказав ей:
– Ах, Бруна, моя секретарша Мария выходит замуж и вскоре от нас уедет. Мне нужно заменить ее, а Лоран упоминал, что вы учились на стенографистку, верно?
Она кивнула. Со своей характерной обезоруживающе привлекательной улыбкой отец уверил ее, что она прекрасно подойдет для того, чтобы занять эту должность, и может приступить к своим обязанностям со следующего дня. Он не оставил ей выбора, и она согласилась.
Моей матери было тогда двадцать лет, и она проработала в магазине чуть больше года. В тот вечер она поспешила домой, чтобы сообщить бабушке хорошую новость. «Это означает больше ответственности и больше денег, – уверяла она бабушку. – Думаю, у меня есть необходимые навыки, и уверена, что смогу многому научиться у дотторе Гуччи».
Ей не стоило беспокоиться, что она может не справиться со своими обязанностями. Как только она села за придвинутый к стене узкий стол с телефоном, стенографической машинкой «Оливетти» и узкими рулонами бумаги, все, чему она научилась на курсах, тут же вспомнилось. Сидя сбоку от «дотторе Гуччи», она печатала документы под его диктовку. Это были в основном ругательные письма руководству фабрики или менеджерам, которые, как ему казалось, недостаточно хорошо выполняли свою работу. Были и более сдержанные послания юристам и банкам, а также множество кратких записок братьям или троим сыновьям – обычно с целью выругать их за нарушение сроков поставки или чрезмерные запасы расходных материалов. Она заметила, что его письма родственникам всегда были краткими и деловыми, и он никогда не добавлял никаких теплых или личных слов.
Она также пришла к пониманию того, что папа был человеком распорядка, заведенного раз и навсегда; он позволял себе лишь короткий перерыв, чтобы выпить un caff [чашка кофе. – Пер.] или пообедать. Мой отец трудился от рассвета до заката, но всякий раз, поднимая глаза от бумаг, она ловила на себе его «мягкий, но особенный взгляд». Мама добавляла: «Я была в то время очень стеснительной и не понимала, как мне быть».
Его взгляды, рассказывала она, не были откровенно сексуальными; скорее казалось, что ее присутствие вводило его в некое подобие транса. Однако всякий раз, когда его взгляд становился особенно пристальным, она находила предлог, чтобы выйти из кабинета и получить передышку: «Никогда прежде никто не оказывал мне такого рода внимания, и я просто не могла ни на чем сосредоточиться».
Со временем стало очевидно, что она была выбрана на должность секретарши не только за свои стенографические навыки, и у нее начало возникать ощущение дискомфорта при мысли о том, к чему это может привести. Гордясь своим прилежанием в работе, она расстраивалась, когда от этой двусмысленности страдало дело, и в результате многие напечатанные ею письма требовали поправок, но моего отца, похоже, все это ничуть не волновало.
Мама отчаянно хотела сохранить за собой эту работу, но остерегалась его взглядов. Тем не менее она поймала себя на том, что стала приходить на работу гораздо раньше и еще больше заботиться о своей внешности. Пьетро это не нравилось, и он вел себя как собственник, что было неразумно с его стороны и лишь провоцировало участившиеся ссоры. Прошло не так много времени, а мой отец стал подмечать, как часто она не надевает свое кольцо, и втайне радовался, ибо, как он полагал, это служило свидетельством того, что у его стеснительной маленькой «Нины» все-таки есть характер. Со временем он стал рассматривать это кольцо как «барометр», показывающий, как обстоят ее дела в отношениях с женихом.
Первым подарком, который отец оставил на столе моей матери после очередной поездки во Флоренцию, был флакончик духов. За ним вскоре последовали и другие знаки внимания – шелковые шарфы, комплекты из кашмирской шерсти, того рода роскошные вещи, которые она с удовольствием носила бы, но просто не могла себе позволить.
– Я не могу принять это, дотторе, – вежливо говорила она ему. – Это было бы неподобающим поступком.
Она также знала, что возникнет слишком много вопросов, если она когда-нибудь принесет эти вещи домой.
Напропалую флиртуя, мой отец дразнил ее и отказывался брать подарки обратно. Со вздохом она начала складывать их в шкаф в его кабинете, где, как она надеялась, никто не мог их найти. И вскоре этот небольшой шкаф уже ломился от десятков маленьких свертков, составленных один на другой, превратившись в настоящую сокровищницу растущей привязанности моего отца.
Это стало для него чем-то вроде игры. Он привозил ей подарок из каждой поездки, а потом ждал, пока она отклонит подношение.
Между ними росло сексуальное притяжение. Однажды они случайно столкнулись, когда она вскрывала почтовые конверты возле его стола. Придержав ее за плечи, чтобы она не упала, он вдруг притянул ее к себе и страстно поцеловал в губы. «Это было, – рассказывала она мне, – странное, но не неприятное чувство, какого я прежде никогда не испытывала – во всяком случае, с Пьетро».
Однако, пойманная врасплох, она уронила пачку писем, затем сделала шаг назад и вскричала:
– Нет, дотторе! Что вы делаете?
– Mi fai soffrire! Mi fai sudare![21] – смело ответил ей папа.
Сгорая со стыда, она выбежала из его кабинета. Плеская в лицо холодной водой в женском туалете, она вгляделась в свое отражение в зеркале и кончиками пальцев коснулась губ. «Я не знала, что означал этот поцелуй. Что, если кто-нибудь вошел бы и застал нас? Уволит ли меня дотторе Гуччи за то, что я не ответила на его поцелуй?» – вспоминала она.
Она была одновременно перепугана и радостно возбуждена – нежелательная смесь эмоций для такой молодой девушки. Поправив платье и волосы, она сделала глубокий вдох, прежде чем открыть дверь туалета и направиться в обратный путь по коридору.
Поворачивая дверную ручку и входя внутрь кабинета, чтобы вернуться к своим секретарским обязанностям, она инстинктивно понимала, что больше никогда и ничто не будет по-прежнему.
Глава 6
Время тайных свиданий и любовных писем
Хотя я и воспитывалась в католической семье, меня до сих пор ошеломляет мысль, что в тот год, когда мой отец впервые поцеловал мою мать, по итальянскому законодательству супружеская измена каралась тюремным заключением.
Возможно, супружеская неверность молчаливо принималась как неотъемлемая часть мужской психики (особенно в стране, где запрещены разводы), но эти факты все равно требовалось скрывать. Если какие-либо провинности когда-нибудь становились известны широкой публике, они часто служили сюжетом драмы, притягивающей внимание таблоидов.
Несколькими годами ранее просочилась информация о том, что замужняя шведская актриса Ингрид Бергман завела роман с женатым итальянским кинорежиссером Роберто Росселлини и родила от него ребенка. Последовал скандал, приведший к тому, что Сенат США объявил Бергман «орудием зла» и воспретил ее появление на многих общественных мероприятиях. Росселлини тоже впал в немилость, и когда Бергман бежала в Италию, чтобы быть рядом со своим возлюбленным, – и подарила ему еще двух детей – подробности их бракоразводных процессов стали основой таблоидной легенды, которая преследовала обоих на протяжении многих лет.
В другом похожем скандале Фаусто Коппи, один из наиболее известных итальянских спортсменов, стал объектом публичного посрамления из-за интрижки с замужней матерью двоих детей. Коппи, которого благодарные болельщики наградили прозвищем Il Campionissimo [«Герой». – Пер.] после победы на велогонках «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» в течение одного года, был застигнут с поличным в постели со своей любовницей, однако в итоге в тюрьме оказалась только она.
Даже Ватикан был втянут в эту травлю, публично критикуя Коппи и режиссируя общественные попытки восстановить его брак, пусть исключительно ради детей. Когда в 1955 году он предстал перед судом за супружескую измену и детей супругов вызвали в суд в качестве свидетелей, Коппи уже не был Campionissimo. Обвиняемые были приговорены к двум и трем месяцам тюремного заключения соответственно, хотя позднее эти приговоры были заменены на условные сроки.
У матери были собственные моральные принципы, и она слишком хорошо понимала, что ее босс – публичная фигура и его чувства к самой молодой из служащих фирмы будут не только осуждены, но и широко освещены, если когда-нибудь эта история всплывет. Его настойчивые ухаживания подвергали опасности их обоих – илемма, которая занимала ее ум и днем и ночью.
Она была напугана с того момента, когда он поцеловал ее, и мой отец это ощущал. Его жестикуляция стала напряженной, с лица исчезли заговорщицкие улыбки; она избегала визуального контакта и любого физического соприкосновения. Однако он не мог выбросить ее из головы. Ему, 53-летнему мужчине, чувствующему, что угодил в ловушку, не впервые было нарушать супружескую верность, но на этот раз все было иначе. Он очень сильно влюбился в женщину, достаточно юную, чтобы годиться ему в дочери. Это была страсть, пронзившая его до мозга костей, страсть, которой, казалось, невозможно было сопротивляться, несмотря на осознание того, какому риску он подвергает и себя, и ее.
Разочарованный и расстроенный ее реакцией, он уехал из Рима в одну из своих деловых поездок и старался не изводить себя из-за внезапно возникшей между ними дистанции. К счастью, к 1958 году он уже мог пользоваться преимуществами новой эпохи реактивных самолетов, которые навсегда изменили межконтинентальное сообщение, сделав доступной любую точку мира в течение суток. Вечно неутомимый и неугомонный, папа был одним из тех первых пассажиров, которые летали в Нью-Йорк без пересадок, пользуясь первыми коммерческими рейсами, такими как BOAC компании De Havilland Comet и «Боинг-707» компании Pan American. Эти самолеты сократили время трансатлантических перелетов на ошеломительные девять часов. Кроме того, пассажирские реактивные самолеты обеспечивали своим пассажирам роскошные условия с прекрасной едой и винами и даже возможностью курить трубку или наслаждаться сигарой «Тосканелло».
В магазине на Восточной 58-й улице продажи шли хорошо, но международное сообщение все еще оставалось несовершенным, и отец понимал, что должен постоянно находиться в курсе дел. Будучи перфекционистом, он не мог полагаться на телеграммы или не слишком качественную межконтинентальную телефонную связь, поэтому ему приходилось то и дело лично проверять манхэттенский магазин, даже если эти поездки удаляли его от объекта желаний.
Через месяц после их первого поцелуя он вернулся в Рим и поспешил в кабинет, чтобы вполголоса сказать моей матери: «Я должен с тобой поговорить». Когда она его проигнорировала, он оставил на ее столе написанную от руки записку с требованием, чтобы она встретилась с ним в тот вечер в шесть часов в квартале Парьоли. Это был дорогой район частных резиденций на северо-востоке города, где у него была холостяцкая квартирка, так называемая «гарсоньерка», о чем она, будучи секретарем, заведующим всеми его документами, отлично знала. Для чего Альдо ее использовал, она старалась не думать – вплоть до этого момента.
Поскольку назначенный час приближался, она, сказав своей матери и Пьетро, что должна задержаться на работе допоздна, терзалась страхами, понимая, к чему может привести их тайное рандеву. Когда она вышла из такси, которое привезло ее на Пьяццале делле Белле Арти, и заметила принадлежавший моему отцу «Ягуар» Mark 1, она почувствовала дурноту.
– Я села в его машину, и мне было страшно – вдруг кто-то нас заметит, и меня всю била дрожь. Твой отец заметил мое состояние и велел мне успокоиться, – вспоминала мать.
Взяв ее руку в свою, он снова заговорил с ней о том, какой любовью он к ней проникся, а потом погладил по щеке. Дрожь не унималась, и она вновь напомнила ему, что его чувства не взаимны. Когда он придвинулся ближе, ее глаза заметались из стороны в сторону, ее прошиб пот. «Не волнуйся, Бруна, я тебя не укушу!» – сказал он, смеясь, а потом наклонился к ней и страстно поцеловал, накрыв ее губы своими.
Поначалу мама ответила ему, подтвердив убежденность отца в том, что не он один ощущал возникшее между ними влечение. Затем она внезапно отстранилась и, едва не срываясь на слезы, потребовала, чтобы он отвез ее домой. Когда он остановился в переулке, недалеко от семейной квартиры, она выскочила из его машины, не сказав ни слова, и сердце ее «колотилось как бешеное». По ее словам, она была «растеряна и расстроена и по-прежнему до ужаса напугана».
Сердце моего отца тоже учащенно билось, но по иной причине – от сознания своего триумфа. Его застенчивая маленькая «Нина» ответила на его поцелуй!
В ту ночь мама почти не сомкнула глаз и на следующее утро боялась идти на работу. Ей не с кем было поделиться своим секретом, даже моей бабушке она не могла довериться, поэтому ей оставалось, как обычно, отправиться на работу, но использовать любой предлог, чтобы выходить из кабинета, относить что-нибудь в торговый зал или на склад. Несмотря на то что она не сделала ничего плохого, от эмоционального напряжения, вызванного необходимостью хранить, как она тогда полагала, свою «маленькую грязную тайну», у нее начались приступы дурноты. Она теряла вес и не могла заснуть по ночам. Вскоре близкие люди, особенно Пьетро и моя бабушка, заметили эти перемены.
Мой отец не относился к тем людям, кто смиренно принимает отказ. Долго ждать он тоже не любил. Он быстро спланировал следующее свидание с моей матерью, на этот раз в компании Вилмы – его самой преданной и давней сотрудницы. Отец уверил маму, что присутствие дуэньи позволит ей чувствовать себя более непринужденно, и все решат, что эти выходы в свет – не более чем обычные деловые ужины.
Мама чувствовала, что ей придется принять это предложение, но настояла на том, чтобы ужин состоялся в такой вечер, когда Пьетро не будет в городе. Ресторан Antica Pesa располагался в старом здании таможни в богемном районе Трастевере. Я бывала там пару раз, просто для того, чтобы представить себе, как мои родители встречались там во время этой непростой фазы их периода ухаживаний. Рассказы моей матери рисуют безрадостную картину их совместного приезда туда, и она с несчастным видом шла позади, когда их провожали к столику на дальнем конце террасы. Даже после того как их усадили за стол, она так беспокоилась, что ее заметит кто-то из знакомых, что почти не притронулась к еде.
Папа мастерски поддерживал беседу и вел себя как радушный хозяин. Смеясь и рассказывая всевозможные байки, он развлекал ее историями о своих поездках, сверкая глазами в свете свечей и описывая, каково это – лететь 6,5 тысячи километров через всю Атлантику на реактивном самолете.
– Ты не поверишь, какая там роскошь, Бруна! – говорил он ей. – У них такие удобные кресла, а стюардессы в красивой униформе подают мартини и ужин, как в ресторане. Тебе бы понравилось.
Во время таких рассказов всегда подразумевалось, что когда-нибудь она будет сопровождать его. Далее он восторженно говорил о Нью-Йорке с его гигантскими зданиями и непривычно честными людьми, на чью жизнь и деловую репутацию не влияют всякого рода политические ограничения, с которыми он сталкивался в Италии. Он взахлеб рассказывал о шуме и суете этого большого города и говорил, что ей понравилась бы предлагаемая Америкой свобода.
Под действием вина и непринужденной атмосферы мама начала расслабляться и – мало-помалу – вылезала из своей раковины. Потягивая просекко, она начала обнажать ту свою внутреннюю беззаботную сторону, которую, как отец всегда подозревал, она от него прятала.
– Сегодня в магазин приходила женщина, у которой шубка была точь-в-точь в цвет шерсти ее пуделя, – по секрету признавалась она. – Не знаю, чего нам стоило не расхохотаться в голос!
Эти первые увиденные в ней проблески шаловливой, смешливой юности лишь подлили масла в огонь его страсти.
Итак, ухаживание продолжалось, хотя и против воли моей матери. Единственное отдохновение для нее наступило, когда отец уехал и она получила пару недель покоя. Точнее, это она так думала. Однажды утром, перебирая почту, она наткнулась на конверт из Нью-Йорка, адресованный лично ей. Узнав почерк моего отца, тотчас заподозрила, что найдет там. Опасаясь вскрыть письмо в офисе на случай, если кто-то неожиданно войдет, она торопливо засунула его за пояс своей юбки. Только позднее, вечером, сидя в одиночестве на заднем сиденье автобуса, который вез ее домой, она держала в руках первое из тайных любовных писем моего отца, вскрыла его пальцем и наала читать.
Папины слова – и сила чувств, которую они передавали, – ошеломили ее.
Бруна, дорогая моя!
Уже в третий раз подношу ручку к бумаге, уничтожив первые два письма. Я обещал себе, что стану писать лишь о том, насколько сильно испытываю потребность общаться с тобой, всегда рассказывать тебе, что чувствую, все эти крохотные радости, всю эту безмерную боль!!! Только из-за неутолимого желания любить тебя и безмерного страдания, причиняемого нашей тайной, я прошу прощения и позволения любить тебя – вечно, – пока меня не одолели печаль и безумие скорби.
Моя милая Бруникки, надеюсь, ты понимаешь, что я не преувеличиваю. Я просто до безумия влюблен в тебя! Что касается меня, пока буду уверен в твоей привязанности и буду чувствовать, что никогда тебя не потеряю, буду считать тебя своей единственной большой любовью; клянусь, я сделаю все, о чем ты попросишь! Нам необязательно появляться на людях. Я не стану пытать тебя, не стану делать ничего, чтобы мучить тебя или заставлять стыдиться; все, чего я прошу, – это чтобы ты любила меня и наши души сливались в одну, словно в вечном объятии. Я люблю тебя, Бруна, я очень, очень люблю тебя и не перестану говорить тебе об этом, потому что это правда, превыше и больше всего и всех. – хххх А.
В наши времена торопливых электронных писем и SMS, увы, ни один мужчина никогда не написал мне подобного письма. Какие чувства испытывала моя мать, держа этот хрупкий листок бумаги в руке и ощущая всю его нематериальную весомость? Она говорила мне потом: «Это было невероятно. Я чувствовала, что для него что-то значу».
Никто никогда не обнажал перед ней душу до такой степени. Выбранные им слова и стремительные признания в любви затронули глубокие струны в ее сердце. Ей пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить, что это письмо действительно от дотторе Гуччи – мужчины с положением, живого воплощения стиля и грации. Успешный предприниматель, он в равной мере непринужденно чувствовал себя и с членами королевских семейств, и с обычным прохожим на улице. И вот теперь он изливал свою душу «невинному созданию», девушке, едва вышедшей из подросткового возраста и имевшей весьма скромное происхождение. Как такое вообще было возможно?!
Несколько минут она сидела неподвижно на своем сиденье, глядя в окно на проплывавшие мимо уличные сценки. Все виделось как в тумане – вот матери выгуливают маленьких детей, пожилые люди с трудом пробираются сквозь толпы людей, заполнивших город в час пик. Видела, как идут парочки, держась за руки и открыто демонстрируя свою любовь. Она говорила мне: «Помнится, я подумала: а ведь никто из них так не беспокоится о последствиях, как я».
В «Римских каникулах», одном из самых популярных фильмов тех лет, который мама впервые смотрела вместе с Пьетро и много раз пересматривала со мной годы спустя, несчастная принцесса, в исполнении Одри Хэпберн, влюбляется в простого смертного – репортера, роль которого сыграл Грегори Пек. Однако даже в такой голливудской фантазии двое влюбленных не смогли соединиться. После волшебного времени, проведенного вместе, они вынуждены расстаться – оба с разбитыми сердцами. Моя мать не могла мысленно не возвращаться к финалу этого фильма – он всегда трогал ее до слез, – и гадать, на что она могла рассчитывать с таким человеком, как папа.
– Я пришла к выводу, что именно так все и будет со мной и твоим отцом, – говорила она. – Все это казалось совершенно невозможным…
Вложив письмо в конверт и сунув его обратно под одежду, она старалась не думать о высказанной нежности или страсти, которую оно едва могло скрыть. Слова моего отца запали ей в сердце, но, прочитав это письмо, она должна была решить, сохранить его как вечный знак привязанности отца или сжечь (таким был ее первый импульс). Добравшись до дома, она торопливо прошла прямо в свою спальню и спрятала письмо на дне обувной коробки под комодом – под деньгами, откладываемыми на ее будущее с Пьетро. Она больше ни разу не позволила себе снова перечесть его из страха перед теми эмоциями, которые оно могло в ней пробудить. Она даже не сообщила отцу, что получила письмо, избрав путь наименьшего сопротивления.
Если она надеялась, что это письмо станет последним, то ошибалась, недооценивая степень его одержимости.
Найдя новую отдушину для своих чувств, причем такую, где он мог открывать их любимой так, чтобы она не возражала и не перебивала его, мой отец снова и снова подносил перо к бумаге. Он молился о том, чтобы лавина писем, которые он посылал ей, в конечном счете послужила его цели и снесла могучим потоком сопротивление моей матери. Это сработало.
Она была польщена не только его вниманием, но и неприкрытой ревностью к тому времени, которое она проводила с Пьетро – папа всегда называл его местоимением «он». Это острое соперничество заставило ее осознать, что, каким бы безумием это ни казалось, существует возможная альтернатива ее браку с человеком, с которым она ощущала себя связанной на всю жизнь. Мало того, мой отец настойчиво утверждал, что, выйдя замуж за Пьетро, она отринет свой шанс на счастье и жизненные возможности. «Я хочу, чтобы ты увидела, как здесь все прекрасно, – писал он ей из своего номера в «Савой-Плаза» в Манхэттене. – Отель [и] номер – просто мечта. Нью-Йорк – это по-настоящему роскошная жизнь; это то, о чем я часто с тобой говорю, – как замечательно жить так, как живут здесь!» И добавлял: «Чем чудеснее рама, тем острее я ощущаю отсутствие прекрасной картины».
Его слова заронили семя в разум молодой женщины, которая все свое детство не знала ничего, кроме скудости и отсутствия любви своих ближних, кроме моей бабушки. Она не представляла, что когда-нибудь побывает в таком месте, как Нью-Йорк, или на собственном опыте познает ту прекрасную жизнь, о которой говорил мой отец. Вероятно, он был ее единственным шансом повидать мир.
В другом письме папа пытался припугнуть мою мать, говоря о том, что, если она будет продолжать отвергать его, возможно, он будет вынужден отказаться от ухаживания за ней. Он писал: «Я напрасно пытался заставить тебя узреть свет, но мои авансы уйдут в пустоту, если твое намерение – скрепить печатью свою любовь с ним и при этом просто выбросить свое будущее… Любая другая несчастная душа сдалась бы давным-давно, столкнувшись с подобными обстоятельствами».
Он не раз писал о «жгучем и спонтанном призыве» его «болящего сердца» и о своем глубоком сожалении, что не видит перспектив для их «красивой и возвышенной» любви. Он признавался в другом письме (написанном в три часа ночи, когда не мог уснуть, думая о ней): «Словно сам воздух, которым я дышу, уже не такой, каким он бывает, когда ты рядом». Он часто повторял, какая это для него внутренняя «агония» и «пытка» – не быть с ней. «Люби меня, Бруна. Я молюсь о том, чтобы ты любила меня все больше и больше и сочла меня достойным своей привязанности… Желания наших душ быть вместе и вырасти в нечто удивительное… неразделимы до конца нашей жизни… Позволь мне любить тебя вечно. Клянусь, ты об этом не пожалеешь – я буду доказывать это тебе с каждым проходящим днем».
Время, проведенное вдали от моей матери, начало тяжело сказываться на нем, и хуже всего были воскресенья. В какой бы точке мира он ни находился, офисы были закрыты, даже обругать было некого, и вместо того чтобы совершенствоваться в своем ремесле, его служащие предавались как раз тому личному и семейному времяпрепровождению, которого в своей семье он был лишен уже многие годы. Это были праздные, напрасно потраченные дни (как он всегда думал), особенно в Риме. Предоставленный самому себе, он обедал с Олвен, их сыновьями и семьями сыновей на вилле Камиллучча. Оказываясь в другой стране, он надевал шляпу и бесцельно блуждал по улицам, растравляя свою душу воображаемыми картинами, где моя мать была с Пьетро. Держит ли она его за руку, когда они идут куда-то вместе? Заключена ли она в его объятия, целует ли его в губы? «Как я завидую ему!» – писал он, прибавляя, что эта мысль ранит его сердце.
В другое воскресенье он снова писал своей возлюбленной из-за границы: «Я хочу знать обо всем, что ты делаешь и где бываешь… чем ты занималась, спрашиваю я себя… и хочу, чтобы ты знала, как сильно люблю тебя и как ужасно страдаю от этого».
Едва ступив на европейскую землю, он посылал телеграмму или – еще более дерзко – звонил ей домой. Делая вид, что ему необходимо поговорить со своей секретаршей по срочному делу, связанному с работой, он вежливо извинялся перед моей бабушкой или дядей Франко, чтобы не вызывать у них подозрений. Неловко переминаясь у телефона, пока домашние подслушивали ее разговор, мама могла отвечать лишь «si, dottore» [«да, доктор». – Пер.] или «no» [«нет»] на бесконечные вопросы о том, как скоро он сможет ее увидеть. Эти короткие односложные ответы не приносили удовлетворения ему и лишь вызывали еще большую панику у нее.
В поезде, возвращаясь из Флоренции, папа писал: «Завтра утром я поспешу в офис… Такую страсть никак не может вызывать бизнес; это жгучее желание увидеть… драгоценность – само воплощение добродетели, формы и грации с такими чудесными глазами и проникающим в душу выражением, которая едва бросает на меня взгляд, прежде чем отвернуться, ибо она настаивает, что все напрасно».
При любой возможности и под любым предлогом он старался выкроить время побыть наедине, умоляя «всего о пяти минутах доброты». В удачные дни он брал ее с собой обедать в Ristorante Alfredo на виа делла Скрофа, заведение, знаменитое своими фирменными фетучини. Едва усевшись за стол, он снова шептал о том, как сильно любит ее и как жаждет побыть с ней вдвоем. Он любовно называл ее Ниной или Никки (сокращенно от Бруникки).
Очарованная его шармом, соблазненная его письмами и завороженная волшебными местами, куда он приглашал ее, она согласилась сопровождать его уже без Вилмы, и в отсутствие любопытных чужих ушей ее сопротивление ослабло.
– Я люблю тебя, Бруна, – вздохнул однажды мой отец, когда рука его лежала на столе мучительно близко от ее руки. Она почти чувствовала возникшее между ними притяжение. – Неужели ты не видишь, что мы созданы друг для друга?
Подняв глаза от стола, она прошептала в ответ:
– И я тебя люблю, Альдо, – и увидела, как его лицо осветила радость.
Следующее присланное им письмо говорило о том, какой «безжалостный груз» свалился с его сердца и как, решив игнорировать «суровую реальность», которая окружала их, он внезапно был охвачен «взрывными ощущениями… любви и верности». Он писал: «Как чудесно любить тебя, моя обожаемая Бруна… Я безумно люблю тебя». Он уверял ее, что теперь, когда он знает о ее истинных чувствах к нему, они «обязаны друг перед другом» не совершать опрометчивых шагов и не «топить» их любовь. «Ты так молода и красива, и твоя жертва, несомненно, больше, чем моя… Я знаю, что наша судьба – быть вместе… ты завоевала мое сердце, и я принадлежу тебе».
И когда она читала эти строки, прорастало семя, из которого выросла их судьба – а со временем и моя.
Глава 7
Что стало переломным моментом
Уверена, все мы храним в памяти те головокружительные дни, когда только-только влюбились в кого-то и мысли об этом человеке поглощали каждую минуту нашего бытия. Лично я определенно ощущала эти чувства чаще, чем мне хотелось бы признавать.
Казалось, и мои родители ничем не отличались от других влюбленных. Папа уже некоторое время был влюблен без памяти, но теперь и моя мать начала стремиться к их романтическим встречам с таким же волнением. Смеясь над его шутками, она слегка прислонялась к его плечу, когда он шептал ей на ушко любовные глупости за ужином и вином, и упивалась своим ощущением того, что ее обожают и дорожат ею – и это состояние не омрачается «подводными течениями», столь свойственными их отношениям с Пьетро.
– Я была Алисой в Стране чудес, – рассказывала мне мама. Она дерзнула поверить, что, хотя их любовь и была окутана завесой тайны, но у нее появлялся шанс на иную жизнь. Увы, счастье было окрашено растущими опасениями, что их отношения в конечном счете обречены, и постоянным страхом разоблачения – особенно со стороны Пьетро. Это едва не случилось однажды в пятницу, когда ее жениха не было в городе, но он позвонил домой сразу после установленного ее братом «комендантского часа» – девяти часов вечера – и выяснил, что ее нет дома. На следующее утро, когда Пьетро приехал, чтобы забрать ее, он казался чем-то озабоченным и сказал ей, что ему, мол, надо ненадолго заехать домой, прежде чем они проведут день вместе. Когда они добрались до его дома, он запер ее в гараже и грозно навис над нею, требуя отчета, где она была прошлым вечером.
Дрожа от страха и заикаясь, она стала утверждать, что была в местной пиццерии с подругой, но быстро осознала свою ошибку, когда он напомнил ей, что эта пиццерия закрыта. Моя мать никогда не видела Пьетро таким возбужденным. Он схватил ее за руку, потребовал назвать ему имя «подруги» и стал угрожать, что она не выйдет живой, если не скажет ему правду.
– Это была Вилма, женщина, с которой я работаю! – выкрикнула она. – Когда мы увидели, что ресторан закрыт, мы решили пойти померить платья. Я клянусь! Клянусь могилой моего отца!
Тогда Пьетро стал требовать отвести его к Вилме, а она умоляла не позорить ее. В какой-то момент, когда он усадил ее в машину, чтобы направиться к Вилме, она попыталась сбежать, но он схватил ее и с силой усадил обратно. «Я была в ужасе», – рассказывала потом мама.
Ей потребовалось несколько минут, чтобы успокоить его, но, немного остынув, он поставил ей ультиматум.
– Мы женимся! – объявил Пьетро. – Выбирай день в октябре, ближе к твоему дню рождения. Я достаточно долго ждал.
До этого дня – маме должен был исполниться двадцать один год – оставалось меньше трех месяцев. Это означало, что к концу 1958 года – самого бурного года в жизни моей матери – ей суждено стать законной женой Пьетро.
Опасаясь его возможной реакции в случае отказа, она неохотно согласилась. «А что еще мне оставалось?» – говорила она мне. Годом раньше она приняла его предложение и знала, что единственный достойный выход из этой ситуации – сдержать данное ею слово. Пришло время положить конец безумию ее интрижки с моим отцом. Ей еще повезло, что она не зашла слишком далеко.
Однако при мысли, что придется сообщить эту новость папе, у нее едва не случился нервный срыв. Мысленно перебирая причины, по которым следовало завершить их роман, она играла в адвоката дьявола, – с этой игрой мне предстояло близко познакомиться, – бесконечно перебирая все «за» и «против». В конце концов, если дотторе Гуччи был из числа тех, кто изменяет своей жене, то он наверняка со временем начнет обманывать и ее. А если они действительно решат быть вместе, в случае разоблачения оба могут оказаться в тюрьме, к своему вечному позору.
Множество противоречивых мыслей вызывало смятение. К ней снова вернулась бессонница. В тревожные ночи (они стали для нее обычным явлением, чему я сама часто была свидетельницей) ей снились кошмары, и она просыпалась, перепуганная и дрожащая, не имея возможности с кем-нибудь поделиться своими ночными страхами.
Папа чувствовал, что ее тревожит какая-то новая беда, и попытался снова достучаться до нее. Он написал ей среди ночи после одного ужасного свидания за ужином, во время которого она едва ли произнесла пару слов. Его письмо лежало на ее рабочем столе на следующее утро, когда он снова летел в Штаты через Атлантику.
Прошла всего пара часов после того, как я пожелал тебе спокойной ночи. …Ты повернулась и пошла прочь так, словно незнакомка в ночи и наши сердца никогда не соприкасались. Мое драгоценное сокровище, какая это была мука, какая пытка! Я знаю, что ты меня любишь. Знаю это, потому что ты сама мне призналась, и это сделало меня неописуемо счастливым и наполнило мою душу радостью. Вот почему я понимаю твой трепет и ощущаю тревогу в немом языке любящего сердца!..
Ей пришлось ждать возвращения моего отца мучительный месяц, и тогда она собралась с мужеством, чтобы сказать: его чувства к ней абсурдны, и им нужно прекратить встречаться. Расстроенный, он спросил ее, что изменилось за это время, и тогда она рассказала ему о ярости своего жениха. Снова повторив, что их отношения аморальны, незаконны и в конечном счете невозможны, она объявила: «В октябре я выхожу замуж за Пьетро», – а потом поспешила выйти из кабинета.
Не имея возможности дотянуться до нее никакими иными средствами, мой отец снова захлестнул ее волной писем, чтобы попытаться удержать рядом – по крайней мере, духовно. В этих письмах он умолял ее «не позволить занавесу опуститься так скоро». И предостерегал ее, говоря, что она готова смириться с будущим, которое лишит ее «главной составляющей счастья», и ей нужно тщательно обдумать негативные последствия такого выбора. Он сам, писал мой отец, несчастен и «одинок среди бури» и полон решимости «сражаться за жизнь, которой стоит жить». Уверял ее, что их совместное будущее не так невозможно, как она воображает, особенно при «средствах, имеющихся [в его] распоряжении». Утратив ее общество, он возвращался на свою виллу – «в холодный, пустой замок, лишенный кислорода и атмосферы, позволяющей [ему] дышать».
Свое письмо он завершал драматически: «Я торжественно клянусь перед Богом, что, если моей душе будет отказано в возможности духовного роста, я превращусь в циника, озлобленного и безжалостного… Никогда не смогу изгнать тебя из своего сердца».
Втайне она обожала его романтические увертюры и упивалась каждым словом, погружаясь в любовное письмо по пути домой.
Прочтя очередное послание, она бережно складывала листок и прятала его под блузку, ближе к сердцу. Какой бы путь ни выбрала, она знала: у нее навсегда останутся его прекрасные, пусть и безответные письма.
Всякий раз, когда она отвергала его ухаживания и напоминала ему о приготовлениях к свадьбе, которые шли полным ходом, он писал ей очередное письмо; и тон его писем становился все более отчаянным. Он даже пытался воздействовать на нее, прибегая к «шоковой терапии» и полностью прекращая общение между ними, но это молчание продлилось ровно десять дней. Отчаяние его было столь велико, что моя мать опасалась, как бы он не заявился на ее свадьбу, чтобы закатить сцену. В ожидании приближающейся роковой развязки он предпринял последнюю попытку убедить ее быть с ним, пока еще есть время.
Прости меня, если, несмотря на мое обещание не возвращаться к этому спору, снова скажу, как важно для меня подносить перо к бумаге… Я люблю тебя, Бруна, люблю так, что, возможно, это выходит за границы твоего понимания… Наше чувство – это дар Божий… Ты должна хорошенько поразмыслить… это важное решение, отложи все, это переломный момент, Бруна, переломный.
На сей раз ему удалось достучаться. С приближением октября ее сомнения нарастали, и она все больше понимала: брак с Пьетро наполнит ее жизнь сожалениями. Разве мать не предостерегала ее, что спустя три дня она прибежит обратно домой? Неужели решение быть с любимым мужчиной чем-то хуже, чем замужество с нелюбимым? Мой отец ссылался на собственный опыт: лучшие годы своей жизни он провел в браке из-за ошибки молодости.
Он писал ей с некоторой горечью: «Счастье – это духовное благо, которое человек необязательно находит в браке. От нас зависит, сумеем ли мы распознать и верно истолковать этот божественный дар. Все прочее – лишь компромисс, горькое прозябание, способное угнетать душу до полного искоренения любви. Знаю это по собственному опыту… Я поддался давлению, не спросив совета у своего сердца. Теперь этот важнейший источник, который питает наши сердца, полностью пересох во мне. Мне трудно так жить и печально! Иногда материальное благополучие способно это компенсировать… но не всегда, – на самом деле, почти никогда».
В то лето папа устроил вечеринку для своих сотрудников у себя дома, в то время, когда его жена навещала родственников и была в отъезде. «Ты должна прийти, – убеждал он мою мать. – Это будет веселая вечеринка. Там будут все остальные. Будет выглядеть странно, если ты не придешь».
Она еще ни разу не бывала в домах, подобных вилле Камиллучча. В сопровождении Николы, Лючии и других коллег, которые были одеты в вечерние платья или костюмы, она с нескрываемым восхищением бродила по саду, любуясь величественной красотой. «Это был один из лучших вечеров в моей жизни, – рассказывала мать. – Играл оркестр, и официанты в белых смокингах подавали шампанское, канапе и коктейли у бассейна». Гости танцевали при свете разноцветных фонариков под популярные песни вроде «Nel blu dipinto di blu» и «’A tazza ’e caf». Огромные блюда с закусками были выставлены на столы, покрытые белыми скатертями и украшенные живыми цветами.
К концу вечера отец вышел на танцпол, остановил музыку, взял микрофон и произнес замечательную речь о том, какой долгий путь прошла семья Гуччи: «С вашей помощью мы можем развивать эту компанию, чтобы обеспечить великолепное будущее нам всем». Это была воодушевляющая, объединяющая речь, и все аплодировали ему, а моя мать стояла посреди толпы и с гордостью смотрела на этого мужчину – она больше не была уверена, что сможет отказаться от него.
На следующее утро на ее рабочем столе лежал маленький сверток. Внутри него была кассета с сопроводительной запиской, объясняющей, что это подборка музыки с вечеринки, а также запись речи моего отца. Маме весь день не терпелось прийти домой, чтобы прослушать запись на кассетном магнитофоне ее брата. Убедившись, что на кассете нет никаких компрометирующих посланий, она с волнением дала ее послушать бабушке, а рядом сидел дядя Франко.
Пару дней спустя мой отец позвонил матери домой из своего отеля в Нью-Йорке. Он хотел сказать, как жаждет снова увидеть ее. Мама молча выслушала его, а потом сказала:
– Мне нужно идти, дотторе. Уже поздно.
– А, ты собираешься ложиться в постель, – вздохнул он. – Я ревную! Скоро ты будешь в объятиях Морфея.
Никто из них не догадывался, что произошло параллельное подключение: Франко, который звонил домой, чтобы пожелать моей бабушке спокойной ночи, случайно подключился к разговору и подслушал их. По голосу с тосканским акцентом он сразу же узнал того человека, чья речь была записана на маминой кассете, и понял, что между его младшей сестрой и ее боссом что-то происходит.
Если бы на следующее утро моя бабушка отлучилась из квартиры, уверена (судя по рассказу о том, что произошло дальше), дядя Франко вполне мог бы избить мою мать до бесчувствия. Я лишь однажды встречалась с Франко (единственное, что осталось в памяти, он был толстый), но из того, что слышала о нем, он представлялся мне очень похожим на моего деда Альфредо, то есть человеком мрачным и непредсказуемым. Понятие семейной чести было священной традицией в итальянских семействах задолго до истории Ромео и Джульетты, но сегодня трудно представить, что ее следствием могли быть и телесные наказания.
Вернувшись домой после рабочей смены, этот молодой человек, считавший себя главой семьи и защитником добродетели сестры, прямо с порога ворвался в ее комнату. «Puttana!» – вскричал он, назвав ее шлюхой, и принялся бить ее по лицу. Она упала на пол под градом ударов, но он продолжал ее избивать, пока моя бабушка не вбежала в комнату и не встала между ними, крича сыну, чтобы тот остановился:
– Франко! Нет! Ты убьешь ее!
Чувствуя, что, должно быть, зашел слишком далеко, дядя попытался взять себя в руки, а бабушка опустилась на колени рядом с мамой, которая, пытаясь защититься от ударов, подтянула колени к груди и закрыла лицо. Стоя над ней и дрожа от ярости, Франко обвинял сестру в том, что она навлекает позор на семью.
– Она помолвлена! – вопил он. – И путается с другим мужчиной за спиной у Пьетро!
Видя, что бабушка его не слушает, он предупредил маму:
– Так вот, я преподам этому твоему дотторе Гуччи урок, который он не забудет. Я его убью! – и выбежал за дверь.
Мама была в ужасном состояни, ее лицо покрылось синяками, губа была рассечена. Левый глаз уже начал заплывать. Всхлипывая, она пыталась объясниться, но бабушка велела ей не разговаривать. Помогая дочери подняться на ноги, бабушка поддерживала ее, пока она ковыляла в кухню, где можно было обработать травмы.
Несмотря на собственные раны, единственное, что беспокоило маму, – это папа. Ей чудилось, как дядя Франко врывается в магазин или нападает на него на улице, и она настояла, чтобы бабушка позволила ей позвонить в магазин и предупредить папу. Только после этого она легла в постель и пролежала, покрытая синяками, целую неделю.
Когда несколько часов спустя Франко вернулся домой, ничем не показав, где был все это время, бабушка убедилась, что он все же не виделся с Гуччи. Еще через несколько часов зазвонил телефон, и Делия с удивлением услышала знакомый голос на другом конце линии.
– Это Альдо Гуччи, – холодно проговорил мой отец. – Я хотел бы поговорить с Франко Паломбо.
Лежа в постели, мама, затаив дыхание, слышала, как ее брат взял трубку и согласился встретиться с папой у входа в отель «Медитерранео» на виа Кавур. Через несколько минут Франко вышел из квартиры, с силой хлопнув дверью. Позднее отец рассказывал матери, что, когда они встретились, вся бравада Франко моментально слетела с него, как только он оказался лицом к лицу с элегантным господином в шляпе, сидевшим за рулем «Ягуара». Вместо того чтобы «преподать ему урок», как грозился Франко, он смиренно принял приглашение сесть на пассажирское сиденье.
Включив на полную мощность свой легендарный шарм, мой отец уверил дядю, что тот неправильно все понял. Он добавил:
– Я очень люблю вашу сестру и высоко ценю ее навыки, но питаю к ней глубокое уважение и никогда не воспользовался бы преимуществами своего положения.
У обведенного вокруг пальца Франко не оставалось иного выхода, кроме как поверить ему на слово. Он даже извинился перед мамой, когда вернулся домой.
Она сказала брату, что не сердится, но на самом деле так и не смогла простить его. Больше она не рисковала тайно встречаться с моим отцом. После угроз Пьетро и физической расправы Франко было ясно, что, если их с папой когда-нибудь разоблачат, последствия уже будут не только сугубо моральными и даже юридическими, но – потенциально – станут вопросом жизни и смерти.
К тому времени, когда отец попытался «еще один, последний раз» затронуть тему их любви, чаша ее терпения переполнилась.
– Ты не создал в моей жизни ничего, кроме хаоса! – вскричала она. – Ты – причина всех моих несчастий. Basta [довольно. – Пер.]!
Точка. Ее любовный роман с Альдо Гуччи завершен, и чем скорее он с этим смирится, тем лучше будет для всех.
Глава 8
Беременность Бруны
Моя мать говорит, что я могла бы стать спикером в парламенте Англии. По ее словам, я унаследовала от отца дар общения и красноречия, чем она сама не могла похвастаться.
– Ты такая красноречивая, совсем как Альдо, – говорит она мне. – Ты так хорошо выражаешь свои мысли, и язык у тебя хорошо подвешен! Убеждена, будь ты адвокатом, то убедила бы присяжных в невиновности кого угодно!
Как и большинство дочерей, обожаю, когда мама говорит, что во мне есть черты, напоминающие ей моего отца, я поступаю и говорю, как он, и даже внешне немного похожа на него. Это служит мне утешением – теперь, когда его нет. Он поистине замечательно владел речью. Со мной он говорил исключительно по-английски, но с матерью – всегда по-итальянски. На каком бы языке он ни общался, его речь блистала эрудицией, точностью мыслей и остроумием. Как и я, он мог любую фразу произнести так, чтобы она вызвала отклик в душе или защемила сердце.
Несомненно, наибольшее впечатление на маму произвели отцовские письма. И в те решающие дни, когда Пьетро настоял, чтобы они с мамой назначили день свадьбы, именно слова моего отца сыграли решающую роль.
В отеле «Савой» в Лондоне, где впервые блеснула звезда Гуччи, он сидел за столом, подавленный, на следующий день после их последней ссоры, и писал, пожалуй, самое проникновенное письмо.
Дорогая Бруна!
С печалью прихожу к заключению, что вчера, возможно, мы в последний раз обсуждали твое затруднительное положение. Хотя мне не хотелось бы усугублять и без того скверную ситуацию, я должен указать на некоторые серьезные недостатки твоего характера, которые повредят развитию твоей личности. Очевидно, за последние двадцать лет ты не вполне осознала всю важность самоуважения… ценность свободы мысли и права на собственный выбор… Тебе явно не хватает этих принципов, и ты позволила другим запугивать тебя и подчинять своей воле.
Далее он напоминал ей, что приближающийся день рождения, когда ей исполнится двадцать один год, будет знаком «яркого нового этапа» ее женственности, и все же она обречена на «мрачную перспективу» стать служанкой эгоцентричного мужчины, которому необходимо «обладать женщиной без равноправия, но именно оно делает отношения и жизнь по-настоящему стоящими». Это будет, писал он, «унизительный путь», «сродни самоубийству».
Вероятно, именно это сильное выражение и обезоружило ее – сродни самоубийству. Погубить себя заживо в браке с нелюбимым мужчиной, который обладал многими чертами тирана, присущими ее отцу. Или, возможно, после последней вспышки ярости Пьетро к ней пришло осознание, что мой папа на самом деле говорил правду. В отличие от Пьетро мой отец был ее «якорем», мужчиной, который обожал ее и мог подарить ей жизнь, выходящую за пределы ее самых смелых мечтаний. Его письма, несомненно, сильно повлияли на мою мать. Они создавали у нее ощущение собственной ценности – впервые в ее жизни.