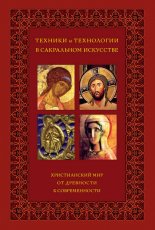Стебель травы. Антология переводов поэзии и прозы Антология
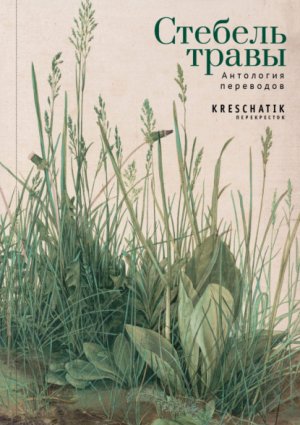
Я лежу, чуть не плача, на кровати Бамбергского отеля «Красный конь» и вдруг слышу голос, он доносится из комнаты подо мной, – невозможно сказать, на каком языке говорят, точно так же, как нельзя сказать, мужчина это говорит, женщина, или ребенок. Кажется, что там кто-то стонет, что-то требует, без злобы и без нажима, и когда я концентрирую внимание на этом голосе, он умолкает, – я слышу только поскрипывание деревянных половиц, а потом ничего не слышу, засыпаю, но в полтретьего ночи голос снова возвращается, это женский голос, и требования теперь кажутся какой-то мольбой, но ничего сексуального в комнате подо мной не разыгрывается, голос охает и дрожит, как в лихорадке, и в какой-то момент я почти уверен, что слышу слово «ужас» и слово «любовь».
На следующее утро я встаю очень рано, в семь часов, спускаюсь по лестнице в буфет выпить кофе – и вижу женщину с алой буквой, она выходит из той комнаты, что находится под моей, и я хочу, наконец, знать, не Эстер ли это из романа Готорна. Я стою перед этой женщиной и, опуская глаза, спрашиваю: «Эстер?», и она ничего не говорит в ответ. Когда мне удается поднять глаза, я вижу, что она не поняла и не могла понять, она понятия не имеет ни о какой Эстер, и с нарушением брачного закона эта женщина тоже не имеет ничего общего, и она не идиотка, и не подражает персонажам книг, но вот она что-то говорит мне, она говорит: «Нет. Я никого и ничего не боюсь. Если бы я боялась… я бы не узнала тогда этот ужас».
Через час я уеду из красивейшего города Германии Бамберга, хотелось бы только понять – куда.
Перевод с немецкого А. Мильштейна
Из латиноамериканской поэзии
Хорхе Луис Борхес
Трофей
- Подобно тому, кто исколесил всё побережье,
- удивлённый обилием моря,
- вознаграждённый светом и щедрым пространством,
- так и я созерцал твою красоту
- весь этот долгий день.
- Вечером мы расстались,
- и в нарастающем одиночестве,
- когда я шёл обратно по улице, чьи лица тебя ещё помнят,
- откуда-то из темноты я подумал: будет и в самом деле
- настоящей удачей, если хотя бы одно или два
- из этих великолепных воспоминаний
- останутся украшением души
- в её нескончаемых странствиях.
Читатель
- Другие хвалятся написанными страницами;
- я же горжусь теми, которые я прочитал.
- Я никогда не стану филологом,
- не изучу всех тонкостей склонений и наклонений,
- трудного изменения букв,
- отвердевания «д» в «т»,
- взаимозамены «г» и «к»,
- но зато всю свою жизнь я исповедовал
- страстную любовь к языку.
- Мои ночи полны Вергилием;
- знать и вновь забывать латынь —
- мой настоящий удел, потому что забвение —
- это одна из форм памяти, её тёмный подвал,
- другая тайная сторона медали.
- Когда в моих глазах померкли
- призрачные любимые образы,
- лица и страницы,
- я взялся изучать язык железа,
- которым пользовались мои предки, чтобы воспеть
- свои клинки и одиночество, —
- и сегодня, семь столетий спустя,
- твой голос приходит ко мне
- от пределов Ультима Туле, Снорри Стурулсон.
- В молодости, читая книгу, я подчинял себя строгой дисциплине,
- чтобы найти строгое знание;
- в мои годы вся эта затея выглядит авантюрой,
- граничащей с ночью.
- Я не перестану расшифровывать древние языки Севера,
- не погружу ненасытные руки в золото Сигурда;
- задача, которую я поставил перед собой, безгранична,
- и она пребудет со мной до конца,
- не менее таинственная, чем Вселенная,
- и чем выполняющий её ученик.
Границы
- У Верлена есть строка, которую я не вспомню снова.
- Поблизости есть улица, запретная для моих ног,
- есть зеркало, взглянувшее на меня в последний раз,
- есть дверь, которую я закрыл до конца света.
- Среди книг моей библиотеки (я смотрю на них сейчас)
- есть одна, которую я уже никогда не открою.
- Этим летом мне исполнится пятьдесят.
- Смерть изнашивает меня непрестанно.
Живущий под угрозой
- Это любовь. Мне надо спрятаться или бежать.
- Стены её тюрьмы растут, как в ужасном сне. Маска
- красоты переменилась, но как всегда осталась единственной. Какую
- службу мне теперь окажут эти талисманы: учёные занятия, широкая
- эрудиция, знание тех слов, которыми суровый Север воспел
- свои моря и стяги, спокойная дружба, галереи
- Библиотеки, обыденные вещи, привычки, юношеская любовь
- моей матери, воинственные тени мёртвых, безвременье ночи
- и запах сна?
- Быть с тобой или не быть с тобой – вот мера моего времени.
- Кувшин уже захлёбывается источником, человек уже поднимается
- на звук птичьего голоса, все те, кто смотрел сквозь окна,
- уже ослепли,
- но тьма не принесла умиротворения.
- Я знаю, это – любовь: мучительная тоска и облегчение оттого, что
- я слышу твой голос, ожидание и память, ужас жить дальше.
- Это любовь с её мифами, с её мелкой и бесполезной магией.
- Вот угол, за который я не отваживаюсь заходить.
- Ко мне приближаются вооружённые орды.
- (Это место жительства ирреально, и она его не замечает.)
- Имя женщины выдаёт меня.
- Женщина болит во всём моём теле.
Сесар Вальехо
Никто уже не живёт…
В доме никто уже не живёт, – говоришь ты, – все ушли. Гостиная, спальня, дворик обезлюдели. Никого уже нет; ведь все разъехались.
А я говорю тебе: если кто-то уходит, то кто-то и остается. Место, по которому прошёл человек, уже не одиноко. По-человечески одиноки лишь те места, где не проходил ни один человек. Новые дома мертвее старых, потому что их стены сложены из камня и железа, но не из людей. Дом появляется на свет не когда его завершают строить, но когда его начинают заселять. И живёт он единственно людьми, как и могила. Отсюда это непреодолимое сходство между домом и могилой. Но из них двоих один только дом питается смертью человека. Поэтому он – стоит, тогда как могила – распростёрлась.
В реальности все ушли из дома; однако в действительности все остались. И остаётся не память о них, но они сами. И даже не так, что они остаются в доме, но скорее так, что они по-прежнему пребывают в нём и через него. Действия и поступки покидают дом на поезде, на самолёте или на лошади, пешком или ползком. То, что по-прежнему пребывает в доме – это действующий орган, субъект герундия и обстоятельств. Ушли шаги; ушли поцелуи, прощения, преступления. То, что по-прежнему пребывает в доме – это ступни, губы, глаза, сердце. Отрицания и подтверждения, добро и зло рассеялись. То, что по-прежнему пребывает в доме – это субъект действия.
Желание утихло…
Желание утихло, хвост по ветру. Обрублена жизнь, внезапно и беспричинно. Моя собственная кровь разбрызгивает меня по женскому контуру и растекается по городу, разглядывая то, что так неожиданно прекратилось.
– Что случилось с этим сыном мужчины? – восклицает город, и ребёнок плачет от страха в одном из залов Лувра перед портретом другого ребёнка.
– Что случилось с этим сыном женщины? – восклицает город, и прямо на ладони одной из статуй времён Людовиков вырастает пучок травы.
Желание утихло на высоте поднятой руки. И я скрываюсь внутри самого себя, исподтишка подглядывая, спущусь ли я вниз или останусь мародёрствовать наверху.
Я буду говорить о надежде
Я страдаю от этой боли не как Сесар Вальехо. Сейчас мне больно не как художнику, не как человеку и даже не как простому живому существу. Я страдаю от этой боли не как католик, не как магометанин и не как атеист. Сегодня я просто страдаю. И если бы меня звали не Сесар Вальехо, я страдал бы от этой же самой боли. Если бы я не был художником, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был человеком или даже живым существом, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был католиком, атеистом или магометанином, я всё равно страдал бы от неё. Сегодня я страдаю вплоть до самых глубин. Сегодня я просто страдаю.
Сейчас мне больно без объяснений. Моя боль так глубока, что у неё уже нет ни причины, ни недостатка в причинах. И что служило бы её причиной? Где найдётся что-нибудь настолько важное, что оно могло бы оказаться её причиной? Ничто не служит её причиной; ничто не могло бы оказаться её причиной. Но каким образом эта боль зародилась сама по себе? Моя боль порождена ветром юга и ветром севера, как бесполые яйца, которые некоторые редкие птицы сносят от ветра. Если бы умерла моя невеста, моя боль осталась бы той же самой. Если бы, в конце концов, вся жизнь пошла по-другому, моя боль осталась бы той же самой. Сегодня я страдаю вплоть до самых вершин. Сегодня я просто страдаю.
Я смотрю на боль голодающего и вижу, что его голод настолько сильно разнится с моим страданием, что если я уморю себя голодом, на моей могиле всегда вырастет хотя бы пучок травы. Так же обстоят дела и с влюблённым. Сколь животворна его кровь, чего не скажешь о моей, не имеющей источника и не находящей себе никакого употребления!
Ещё вчера я верил в то, что все вещи мира с необходимостью делятся на родителей и детей. Но моя нынешняя боль не относится ни к тем, ни к другим. Для заката ей не хватает спины, а для рассвета её грудь слишком велика; если её поместить в темноту, она не даст света, и если её вынести на свет, она не отбросит тени. Я страдаю сегодня, потому что страдаю. Сегодня я просто страдаю.
Перевод с испанского А. Щетникова
Из испанской поэзии
Хуан Рамон Хименес
Зимняя песня
- Поют. Поют.
- Где поют поющие птицы?
- Дождь прошёл. Но на ветках
- всё ещё нет листвы. Поют. Поют
- птицы. В какой стороне
- поют поющие птицы?
- Клетки мои пусты.
- Пуст птичий рынок. Но – поют.
- А долина так далека. Никого…
- Я не знаю, где поют
- птицы – поют, поют! —
- поют поющие птицы.
Нищие
- Хотя бы то, что птичка
- на лету прощебетала!..
- – И розы аромат,
- хранимый нежным взглядом!..
- – И блеск небес,
- что высох со слезинкой!..
«Несут золотые стрелы…»
- Несут золотые стрелы
- погибель лету. И воздух
- прозрачной болью наполнен,
- и кровь напоена ядом.
- Всё – свет, и цветы, и крылья, —
- уже готово к отлёту.
- И сердце уходит в море.
- О, сколько печали рядом!
- Холодная дрожь и слёзы.
- – Куда вы идёте? – Где вы? —
- У всякого всякий спросит.
- Ответ никому не ведом…
«Поэзия, рассветная…»
- Поэзия; рассветная
- роса; ночное
- дитя; прохладная и чистая
- истина последних звёзд
- над хрупкой истиною
- первого цветка!
- Роса, поэзия;
- рассветное падение небес на землю!
Утро в саду
- Спящий младенец!
- А в это время птицы поют,
- качаются ветки
- и улыбается огромное солнце.
- В тени золотой
- – столетие или мгновенье? —
- спящий младенец
- – вне всякой мысли
- о мгновенном и вечном! —
- А в это время птицы поют,
- качаются ветки
- и улыбается огромное солнце.
Актуальность
- Безмерное сердце
- в глубине каждодневного солнца
- – дерево, пламенеющее на ветру —
- единый плод лазурного неба!
- Возвеличим – истину настоящего!
Любовь
- Было сердце моё —
- как лиловая туча
- в закатном огне;
- перекрученное, фиолетовое от боли,
- пронзённое светом, пламенем, золотом!
Идеальное море
- Маяк —
- как голос ребёнка, что хотел бы
- быть Богом; для нас почти незримый.
- – Какая даль! —
- И кажется,
- что он зажжён не для таящих гибель
- морей, но для зловещей бесконечности.
Творение
- Изо дня в день, мои крылья
- – землекопы, рудокопы:
- тяжела кирка твоя, свет! —
- погребают меня в белой бумаге…
- – Восхожденье моё! – ну а отдых
- в закатном грядущем!
- …Чистым бессмертным жаром
- взлечу над угольным солнцем,
- преображённый!
Из ирландской поэзии
Сэмюэл Беккет
Cascando
1
«Превысив отчаянье…»
- превысив отчаянье
- слово
- падения
- чем выкидыш хуже бесплодия
- ты ушла и время отяжелело
- впору щипцами орудовать
- тянуть из нутра постельного
- жилы прошлой любви
- глазницы в которых вроде твоих глаза
- сейчас или никогда что лучше
- черная пустошь забрызгала лица
- говорящие
- разве девять дней погубят любовь
- а девять месяцев
- а девять жизней
2
«Повторяю…»
- повторяю
- не научишь не научусь
- повторяю есть последнее
- из последнего
- последняя мольба
- последняя любовь
- знание незнание притворство
- последнее из последних слов
- меня не любишь любим не буду
- тебя не люблю любить не буду
- в сердце опять опресноки слов
- любовь любовь дряблая
- истолчешь сыворотку
- слов
- испуганных
- нелюбовью
- любовью но не к тебе
- любовью но не твоей
- знанием незнанием притворством
- я и все что полюбят тебя
- если полюбят
3
«Если не полюбят…»
- если не полюбят
- «мой путь в текучих песках»
- мой путь в текучих песках
- возле горбатой дюны
- летний дождь исхлестал мою жизнь
- нахлынувшую и отступившую
- к началу концу ли
- покой в растаявшей дымке
- когда не обиваю
- эти длинные скользкие пороги
- проживаю жизнь отмерянную двери
- на ключ и настежь
- «что бы я делал без этого мира безликого»
- что бы я делал без этого мира безликого
- где я длюсь мгновение где мгновение
- в пустоту выплескивает неведение бытия
- без этой пучины
- где тело и тень вместе идут на дно
- что бы я делал без тишины для шепота гибельной
- одышка ли безумие вызволить возлюбить
- без неба парящего
- над свинцовой пылью
- что бы я делал что делал вчера
- в мертвом луче наблюдал двойника
- он как я идущий несомый
- в пространства скорченные
- среди безгласия голосов
- наполняющих мой кокон
Из польской поэзии
Ежи Групиньский
Антифона
- С утра я
- Уверовал снова
- В наш стих
- Помолись же и ты
- И уверуй в меня
- Вновь как в Слово
Апостроф
- Крыло
- Укрой меня убереги
- Свинцовой буквы тяжесть
- Дай подняться
Свет
Софии и Яну Серединским
- Утром
- Приподниму осторожно
- Крылья-ресницы
- Может быть не погибну
- Светом сраженный
- Может быть вправду
- Удастся поднять
- Этими крыльями
- Мир освященный
- Сияньем
Стихи из памяти
- О прошлой нежности
- Стихами белыми
- Шаги твои звучали
- Но их не слышали
- Ни ты ни снег
- Что засыпал следы
К читателю
- Именно так
- оживет эта крона
- Деревом мертвым стоять
- стиху моему
- Покуда
- листьев его не коснется
- твой голос
- твое дыханье
Письмо на подоконнике
- …а еще напишу тебе: Встал на рассвете
- Но не смог отыскать ничего
- Интересного – все уже видел
- Это зеркало это кресло
- И рука не тянулась потрогать
- Ни тарелки ни старых вещей
- Проживающих здесь —
- Ничего
- Только шторки крахмал
- Да оплавленный лампой зрачок
- И лежит костенея
- За окном помертвевший пейзаж
Перо
- Перо усталость и бумага
- и ничего не скажет мне
- оконной рамы пустота
- стучит печатная машинка
- суетится
- И только щедрая земля
- насытившись телами новых
- мертвых
- мне отвечает жирным срезом
- дымящимся и
- липнущим к лопате
Плод
- Поверь – все дерево трясется
- Когда голодными губами
- Впиваешься в набухший соком плод
Разговор со стеной
- Перо и папирус
- Не этот ли скрип
- тебя разбудил
- мой древесный
- жучок?
Нелюбимая
- Это мои косы
- Но их не помнят
- Твои руки
- Их бы обрезать
- Под самый корень
- Но нет
- Не заметишь даже
- Разве что ненадолго
- Стихнет боль в затылке
- Сброшу все одежды
- Что скажут
- Эта грудь и упругость бедер
- Но молчат притихли
- Возьмите
- Тепло рук
- Озябшие вещицы
- Или не умею —
- Лишь отдерну пальцы
- Стынут снова
- Тускнеют
- Только струйка
- Промолвит терпеливо
- Мое тело
- Теплым
- И тяжелым словом
- Мне прошепчет
- Про каждый сантиметр
- Слышу и знаю
- И понимаю
- Опуская веки
- Пред отраженьем
- Боже мой
- Взглядом случайным врастаю
- В плоскость зеркальной тверди
- В стеклянные капли
- Впрочем все это я знаю
- И стараюсь поведать
- Но когда искушаясь
- Сяду под люстру
- К зеркалу чтоб начертать
- Имя твое помадой
- Взвизгнет стеклянное пекло
- И я останусь на той стороне
- С красным соцветием вен
- На распятой руке
- И рваным шрамом на горле
- Снова – одна
Заклятье
- словно заклятье
- твержу я:
- Твой запах
- кружит мне голову
- вшитым под кожу
- черным цветком
- бузины!
Из аргентинской прозы
Мануэль Рохас
Заказаны, но не пойдут…
Переводы заказаны, но не пойдут. А почему? Ответы бывали разные. Чаще всего вообще ответов не было. Иногда работу оплачивали («Мужчина с розой» – рассказ известного аргентинского писателя Мануэля Рохаса), иногда предлагали за те же деньги перевести другие рассказы: изменялся состав сборника (Эвора Тамайо «Листок из свадебного альбома», «Капитан ждёт»). И если можно предположить, что сборник рассказов латиноамериканских писателей, куда входил рассказ Рохаса, не увидел свет из-за того, что издательство уже испытывало трудности с деньгами – было начало 90-х, то история с переводами кубинской писательницы Эворы Тамайо, была совсем иной Ну кто знал у нас как следует современную кубинскую литературу? А тут ещё следовало знать «кто есть кто» из писателей, кто за Фиделя, а кто в душе не очень. Поэтому, естественно, состав сборника сделали на Кубе, да и сами тексты тоже прислали: книжки и перепечатки. Делало сборник издательство «Художественная литература» (Москва). Раскидали работу по переводчикам. Мне досталась тоненькая книжечка «чёрного юмора» Эворы Тамайо. В ней были собраны довольно страшные и занимательные вещи, но перевести требовалось только два рассказа, да и те не самые «чёрные». Однако, очень скоро мне сообщили, что Эворы Тамайо в сборнике не будет (хотя работа была сделана и сдана), как и многих других писателей Состав перешерстили. Имена были теперь совсем другие. Должно быть на Кубе что-то тогда произошло.
Теперь я жалею, что не перевела хотя бы для себя (времена меняются!) остальные рассказы из тоненькой книжечки, которая куда-то запропастилась. А вот куда запропастилась сама Эвора, не знаю. Хотелось бы узнать.
Нина Снеткова
Мужчина с розой
Несколько лет назад под вечер в Осорно приехали монахи-капуцины: они собирались наставлять в истинной вере местных жителей.
Монахов было шестеро, все – настоящие мужчины, бородатые, крепкие лица энергичные, жесты вольные.
Бродячая жизнь наложила свою печать на этих вечных странников, и они ничуть не походили на монахов других орденов.
Тела шестерых бородачей закалились в постоянном соприкосновении в дикой природой юга во время долгих переходов через сельву, под яростными порывами ветра и проливными дождями, а лица утратили торжественную неподвижность, свойственную тем, кто проводит свои дни в тепленьком уединенном уголке уютного монастырского дворика.
Случай свел их в Вальдивии, куда они приехали кто откуда: из резерваций Анголы, из Ла-Империала, из Темуко, и уже все вместе они продолжили путь до Осорно, где целую неделю должны были исполнять свои миссионерские обязанности, а потом снова разъехаться по дорогам сельвы, неся слово евангельской проповеди.
Было их шестеро, все – настоящие мужчины, все бородатые.
Особенно привлекал внимание отец Эспиноса, ветеран миссионерской деятельности на юге, сорокапятилетний мужчина, высокий, крепкий, с виду деятельный, добрый и деликатный.
Был он из тех монахов, которые очаровывают некоторых женщин и нравятся всем мужчинам.
Самая обычная голова под шапкой таких черных волос, что по временам они даже отливают синевой, как перья у дроздов. Матовое смуглое лицо, скрытое пышной бородой, и капуцинские усы. Широковатый нос, яркий, свежий рот, черные блестящие глаза. Под одеждой угадывалось легкое мускулистое тело.
Жизнь отца Эспиносы была увлекательна, как жизнь всякого человека действия, как жизнь конкистадора, главаря разбойников или партизана. И от каждого из них было что-то у отца Эспиносы в его манере держаться, и ему в самый раз подошли бы воинские доспехи первого, плащ и конь чистых кровей второго, защитное обмундирование и автоматическое оружие третьего. Но хоть он и походил на всех троих и, казалось, в определенных условиях мог бы стать любым из них, был он совсем иным и резко от них отличался. Он был человеком чистой души, понимающим других людей, чутким, и вера его была пламенной и деятельной, а дух, чуждый всему низменному, был исполнен религиозного рвения.
Пятнадцать лет разъезжал он по местам, где жили индейцы-арауканы. Он наставлял их в вере, а они души в нем не чаяли. И спрашивал он и отвечал им всегда с улыбкой. Словно бы всегда говорил с такими же чистыми душами, как он сам.
Таков был отец Эспиноса, монах-миссионер, настоящий бородатый мужчина.
На другой день все уже знали о приезде миссионеров, и разнородная толпа, постигающая основы катехизиса, заполнила первый двор монастыря, в котором должна была проводиться миссионерская неделя.
Сельскохозяйственные и фабричные рабочие, индейцы, бродяги, сплавщики леса – все сходились сюда в поисках евангельской проповеди миссионеров, в надежде на нее. Бедно одетые, в большинстве своем босые или же в грубых охотах[1], кое-кто в одних рубахах да штанах, грязных и рваных от долгой носки, с отупевшими от алкоголя и невежества лицами; вся неопределенная фауна, выбравшаяся из соседних лесов и городских трущоб.
Миссионеры привыкли к своей аудитории и не оставались в неведении того, что многие из этих несчастных приходили сюда не столько обрести истину, сколько в надежде на их щедрость; но священнослужители за время своего миссионерского служения привыкли уже раздавать еду и одежду голодным и оборванным.
Весь день напролет трудились капуцины. Под сенью деревьев по углам двора сгрудились люди, отвечавшие как умели или как их учили, на простодушных вопросы катехизиса.
Где пребывает Господь?
На небесах, на земле и повсюду – отвечали они хором, с безнадежной монотонностью.
Отец Эспиноса, который лучше других владел местным наречием, наставлял в вере индейцев: ужасная задача, способная довести до изнеможения любого здоровенного мужчину, ведь индейцу не только трудно было воспринять суть наставлений, ему мешало еще и незнание испанского языка.
Но, тем не менее, все шло своим чередом, и к концу третьего дня, когда занятия с причастниками закончились, монахи приступили к исповеди. Группа людей, твердивших основы христианской доктрины, заметно поубавилась, многим ведь уже раздали одежду и еду, но народ все прибывал и прибывал.
В девять утра жаркого ясного дня началось шествие кающихся – они нитью тянулись от двора к исповедальням, неторопливо и в молчании.
Солнце клонилось к закату, и большая часть верующих разошлась; отец Эспиноса в свободную минуту гулял по двору. Он уже возвращался к своему месту, когда какой-то мужчина остановил его, обратившись с просьбой.
– Я хотел бы исповедаться, отец мой, у вас.
– Именно у меня? – спросил монах.
– Да, у вас.
– Почему же у меня?
– Не знаю. Может быть, потому что вы старше остальных миссионеров и потому, возможно, самый добросердечный.
Отец Эспиноса улыбнулся.
– Хорошо, сын мой. Если ты этого хочешь и так думаешь, то пусть так оно и будет. Пошли.
Он велел мужчине идти вперед, а сам пошел следом, разглядывая его.
До этого времени отец Эспиноса его не примечал. Мужчина был высок ростом, стройный, движения его были какими-то нервными, лицо смуглое, черная острая бородка, глаза тоже черные, горящие; изысканно очерченный нос и тонкие губы. Говорил он правильно и одет был чисто. На ногах у него были охоты, как и у других, но сами ноги казались ухоженными.
Когда они подошли к исповедальне, мужчина опустился на колени перед отцом Эспиносой и сказал:
– Я попросил вас меня исповедовать, потому что уверен, что вы человек больших познаний и очень рассудительный. Я не отягощен смертными грехами, и совесть моя относительно чиста. Но сердце мое и разум хранят ужасную тайну, и это чудовищный груз. Мне нужно, чтобы мне помогли от него освободиться. Поверьте тому, в чем я вам сейчас признаюсь, и очень прошу вас, пожалуйста, не смейтесь надо мной. Я уже много раз пытался исповедаться другим миссионерам, но они, с первых же моих слов, отталкивали меня, сочтя безумным, и насмехались надо мной. Я очень из-за этого страдал. Теперь последняя попытка. Если и теперь будет все так же, то я смогу убедиться, что спасения мне нет, и мой ад останется со мной.
Мужчина говорил нервно, но убежденно. Редко случалось отцу Эспиносе слушать такие речи. Большинство из тех, кто исповедовался в миссиях, были примитивными созданиями, грубыми, без искры божьей, и сообщали они ему самые заурядные грехи, многим присущие, грехи плотские, а не духовные.
Он ответил мужчине, придерживаясь его же стиля речи.
– Скажи мне то, что тебе нужно сказать, и я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Доверься мне как брату.
Мужчина немного помедлил, прежде чем начать свою исповедь, казалось, он боялся выдать великую тайну, которую, по его словам, хранил в сердце.
– Говори.
Мужчина побледнел и посмотрел пристально на отца Эспиносу. В полутьме его черные глаза сверкали как у заключенного или безумца. Наконец он склонил голову и, стиснув зубы, проговорил:
– Я практикуюсь в черной магии и знаю ее тайны.
Услышав такие необычайные речи, отец Эспиноса жестом выразил свое изумление, глядя на мужчину с любопытством и страхом; но мужчина уже поднял голову и пристально глядел монаху в лицо, желая знать, какое впечатление произвели его слова. Изумление миссионера длилось всего несколько секунд. Он сразу же успокоился. Не в первый раз приходилось ему слышать о том же самом или о чем-нибудь подобном. В то время равнины вокруг Осорно кишмя кишели ведьмами, знахарями и колдунами.
– Сын мой, – ответил он, – нет ничего удивительного, что священники, услышав от вас то, что вы только что сказали, принимали вас за безумного и отказывались слушать далее. Наша религия категорические осуждает подобные занятия и подобные верования. Как священник, я обязан вам сказать, что это тяжкий грех, но как человек говорю вам, что все это – глупости и обман. Никакой черной магии не существует, и нет человека, который мог бы что-либо совершить, что шло бы вразрез с законами природы и Божьей волей. Многие люди исповедовались мне в том же, но на поверку, когда их просили проявить свои оккультные знания, оказывались грубыми и невежественными обманщиками. Только повредившийся в уме или вовсе дурак какой может верить подобному вранью.
Говорил он резко, и этой речи было бы вполне достаточно, чтобы иной человек отступился от своих намерений; но к великому удивлению отца Эспиносы, его речь только вдохновила мужчину, он поднялся с колен и убежденно воскликнул:
– Так ведь я только и прошу вас разрешить мне показать то, в чем я исповедуюсь. Я вам покажу, вы саму убедитесь, и я обрету спасение.
И добавил:
– Если я предложу сделать опыт, вы согласитесь, отец мой?
– Знаю, что только время потеряю, к сожалению, но все равно – я согласен.
– Очень хорошо, – сказал мужчина. – Что бы вы хотели, чтобы я сделал?
– Сын мой, я же не знаю твоих магических возможностей. Сам предлагай.
Несколько мгновений мужчина размышлял. Потом сказал:
– Попросите меня принести вам что-нибудь, что находится далеко отсюда, так далеко, что за день или за два невозможно добраться туда и вернуться обратно.
Свежие губы отца Эспиносы тронула недоверчивая улыбка.
– Дай-ка подумаю, – ответил он, – и да простит мне Господь этот грех, эту дурость, на которую я иду.
Монах долго молчал, обдумывая, что бы ему предложить принести. Не так-то легко было придумать. Сперва он мысленно перенесся в Сантьяго, в то помещение, из которого он сейчас попросит что-нибудь взять и принести сюда, потом он стал выбирать этот предмет. Самые разные вещи приходили ему на память, возникали в воображении, но для этого случая все они не подходили. Некоторые – повсюду встречались, другие казались ему какими-то детскими, иные – слишком личными, а необходимо было выбрать одну вещь, одну-единственную, которая была приемлема. Он припомнил и внимательно осмотрел свой далекий монастырь, прошелся по его дворикам, по кельям, по коридорам и по саду, но не обнаружил ничего подходящего. Потом принялся вспоминать знакомые места в Сантьяго. Что бы попросить? И когда он, уже изрядно утомившись, готов был решиться на какую-нибудь из всплывших в его памяти вещей, в его памяти вдруг всплыла, расцвела, словно цветок – но она и в самом деле была цветком! – свежая, чистая, дивного красного цвета роза из сада монахинь-кларисток.
Как раз совсем недавно он увидел в одном из уголков этого сада куст, покрытый розами удивительного красного цвета. Нигде не видел он таких или подобных им роз, и трудно было предположить, что таки росли и здесь, в Осорно. Но ведь мужчина утверждал, что принесет любую вещь, которую он попросит, не покидая этих мест. Тогда все равно, что просить. Он ведь, в конце концов, не принесет ничего.
– Знаешь, – сказал наконец отец Эспиноса, – в саду у монахинь-кларисток в Сантьяго, возле той стены, что выходит на Ала-меду, растет розовый куст, розы на нем очень красивого гранатового цвета. Только один такой куст там и растет. Мне хотелось бы, чтобы ты принес розу с этого куста.
Предполагаемый волшебник ничего не спросил ни о тех местах, где растет роза, ни о расстоянии до них, только спросил:
– А когда я залезу на стену, мне легко будет сорвать эту розу?
– Совсем легко. Протянешь руку, и роза уже у тебя.
– Очень хорошо. Теперь скажите, есть ли здесь, в монастыре, комната с одной дверью?
– Здесь много таких комнат.
– Отведите меня в такую комнату.
Отец Эспиноса поднялся с места. Улыбнулся. Приключение превращалось в странную и забавную игру, чем-то напоминавшую игры его детства. Выйдя вместе с мужчиной, он повел его во второй двор, где находились кельи монахов. Привел в свою комнату. Не слишком просторная, с толстыми стенами, с одним окном, одной дверью. Окно забрано толстой кованой решеткой и на двери – крепкий замок. В комнате стояли кровать и большой стол, были там и два образа, распятье, одежда и разные предметы обихода.
– Входи.
Мужчина вошел. Держался он непринужденно, свободно и казался человеком, вполне в себе уверенным.
– Подходит тебе эта комната?
– Подходит.
– Скажешь, что надо сделать.
– Прежде всего, который час?
– Половина четвертого.
Подумав мгновенье, мужчина сказал:
– Вы меня попросили принести розу из сада монахинь-кларисток в Сантьяго, и я вам ее принесу через час. Для этого мне надо остаться здесь одному, а вы уйдете, запрете дверь на ключ, и ключ возьмете с собой. Возвращайтесь точно через час. В половине пятого вы откроете дверь, и я вручу вам то, что вы попросили.
Отец Эспиноса молча кивнул головой. В нем нарастало беспокойство. Игра становилась все более увлекательной, таинственной, а уверенность, с какой говорил и действовал этот мужчина, придавали ему четно пугающее и внушающее уважение.
Прежде чем выйти, отец Эспиноса внимательно оглядел все вокруг. Если дверь заперта на ключ, выйти из комнаты невозможно. А хотя бы и удалось мужчине выйти, что бы он стал потом делать? Нельзя сотворить искусственным путем розу, форма и цвет которой тебе не ведомы, и ты никогда эту розу не видел. И с другой стороны, весь этот час он будет кружить вокруг своей кельи. Обман был невозможен.
Мужчина стоял у двери и, улыбаясь, ждал, когда монах уйдет.
Отец Эспиноса вышел, вынул ключ из замочной скважины, убедился, что дверь крепко заперта и, спрятав ключ в карман, стал спокойно прохаживаться.
Обошел двор раз, другой, третий. Минуты ползли медленно; никогда еще не уползали так медленно шестьдесят минут одного часа. Сначала отец Эспиноса был спокоен. Ничего не произойдет. Когда пройдет назначенное мужчиной время, он откроет двери и найдет его таким же, каким и оставил. Не будет в его руке ни той розы, что он просил, ни чего бы то ни было похожего на нее. Мужчина постарается оправдаться, придумать какой-нибудь ерундовый предлог, и тогда он продолжит свою краткую проповедь и тем всему будет положен конец. Но пока отец Эспиноса прогуливался, он спросил себя: «А что он там делает?»
Вопрос его ужаснул. Ведь что-то этот мужчина делал, пытался делать. Но что? Беспокойство, охватившее его, усилилось. А если мужчина обманул, если у него были совсем другие намерения? Прервав прогулку, отец Эспиноса попытался что-то уяснить, припоминая этого мужчину и то, что он говорил. А вдруг он безумный? Сверкающие, горящие глаза этого человека, кто его знает, в себе он или нет, тем более, как судить о его намерениях…
Отец Эспиноса медленно пересек двор и пошел по коридору, где находилась его келья. Несколько раз прошелся мимо запертой двери. Что может там делать этот мужчина? Проходя вновь мимо двери, он остановился. Ничего не было слышно, ни голосов, ни шагов, ни шума. Он подошел к двери и приложил ухо к замочной скважине. Полная тишина. Он снова принялся ходить по коридору, но мало-помалу его беспокойство, его испуг стали все усиливаться. Он уже не отходил далеко от двери, под конец – не более чем на пять-шесть шагов. И вот он замер перед дверью. Почувствовал, что не в силах отойти от нее ни на шаг. Необходимо было немедленно покончить с этим нервным перенапряжением. Раз человек там, за дверью, не говорил, не стонал, не двигался – значит, он ничего и не делал, а раз он ничего не делал все это время, то он ничего и не добудет. Отец Эспиноса решил открыть дверь, не дожидаясь условленного срока. Он застанет этого мужчину врасплох, и это будет эго полной победой. Поглядел на часы: до половины пятого оставалось еще двадцать пять минут. Прежде чем открыть, он снова приложил ухо к замочной скважине: ни звука. Нашел в кармане ключ и, вложив его в замочную скважину, неслышно повернул. Дверь беззвучно подалась.
Отец Эспиноса заглянул внутрь комнаты и увидел, что мужчина не сидел и не стоял: он лежал, распростершись на столе, недвижимый, ногами к дверям.
Эта неожиданная его поза изумила отца Эспиносу. Что мог делать этот мужчина, находясь в таком положении? Отец Эспиноса шагнул в комнату, с любопытством и ужасом глядя на распростертое на столе тело. Безусловно, его присутствие не было замечено; может быть, человек спал, может быть, он был мертв… Отец Эспиноса шагнул еще, и тут-то увидел такое, от чего застыл, как и лежавшее на столе тело. Человек был без головы.
Отец Эспиноса побледнел, почувствовал стеснение в груди, весь покрылся холодной испариной и все смотрел, смотрел, ничего не понимая. Он превозмог себя и подошел к верхней части тела этого существа. Посмотрел не пол, ища там исчезнувшую голову, но на полу ничего не было, не было даже пятнышка крови. Он подошел к обрубленной шее. Человек был обезглавлен без усилия, ничто не было разорвано, очень тонкая работа. Виднелись сосуды и мускулы, трепещущие, красные; белые чистые кости; пульсировала кровь, горячая и красная, она не выливалась, удерживаемая неведомой силой.
Отец Эспиноса выпрямился. Окинул быстрым взглядом все вокруг, искал хоть какого-нибудь следа, какого-нибудь признака, который помог бы угадать, что здесь произошло. Но все в комнате оставалось на тех же местах, что и в тот момент, когда он ушел; повсюду порядок, ничто не разрыто, ничто не испачкано кровью.
Он поглядел на часы. До половины пятого оставалось всего десять минут. Пора было уходить. Но прежде чем уйти, он решил, что надо обязательно оставить какое-нибудь свидетельство о том, что он здесь побывал. Но что? Тут его осенило: порывшись в одежде, он вытащил большую бритву с черной ручкой и, проходя мимо тела по дороге к дверям, глубоко вонзил ее в подошву лежащего на столе человека.