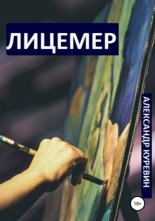Души военные порывы Зарин Сергей

Нет.
От этих страхов по мере прохождения службы постепенно избавляешься. Точнее, они сами оставляют тебя. Точнее… я вообще не знаю, как сказать точнее. Просто, когда вывёртывается минутка для послебоевого анализа, в какой-то момент с изумлением констатируешь, что страха-то и не было. Вот всё было: и адреналина ведро, и слабость в ногах и поплывший взгляд. Но страха как такового не было. Не было того животного чувства «бежать и забиться». Не было слабости. Ведь страх – это и есть слабость, а солдату она никак не нужна. Сильному солдату. И как только осознаешь себя сильным солдатом, то сразу идешь в свой первый Осознанный бой. А после этого – еще бой, и еще, и еще. И страх уходит.
Нет, маленький ужас остается с тобой навсегда – без него не выжить – но вот большого страха уже нет.
Но есть другой страх – невидимый. Новичкам на фронте он даже неведом, ибо они о нём даже не догадываются. Потому что он наоборот, приходит с опытом. Приходит, когда ты знаешь, на что способна шальная пуля. Когда ты видишь (и часто видишь) как разламывает тело товарища брошенная граната. Когда ты помнишь всех тех, кто ушел в пустяковую вылазку и до сих пор в ней находится. Пятый десяток лет как уже. Вот этот страх убивает больше всего.
Потому что те, первые страхи, они всегда включаются при первом выстреле. И практически через пару минут – выключаются.
Но вот этот страх давит даже тогда, когда и выстрелов-то рядом нет. И от того становится ещё страшнее.
***
Как-то мы ползли к занятому немцами хутору. Полтора часа. Ползком. Нас было около сорока бойцов, мы ползли в лучах закатного солнца, и мы знали, что немец о нас не знал. И вот тут-то этот самый страх и имеет обыкновение появляться: а вдруг он всё-таки знает? А вдруг он уже наводит оружие и, посмеиваясь над глупым Иваном, сощуривает свой вражий глаз напротив прорези прицела? Причем, как вы думаете, на кого он наводит? Конечно, на тебя! И только на тебя! Вокруг шуршат гимнастерками еще пятнадцать задниц, но выцеливает враг именно твою! И друзья врага этого тоже хотят убить только одного бойца в нашей группе! И все они обязательно выстрелят. Вот-вот!
Первая очередь будет именно твоей. Именно тебя пропорет пятимиллиметровая болванка, причем обязательно наискосок, задев все кости, какие только есть в теле! Пара из пуль обязательно раздолбает позвоночник (там самый нерв!), ещё одна проломит лопатку, а самая коварная всенепременно вонзится в копчик! Мягкие ткани – бог с ними, на мягкие ткани никто не обращает внимания – они никогда не болят в бою, а только лишь в санчасти воют ноем.
Но солдат состоит из костей. Точнее, из скелета. Еще точнее – из хребта. Каков хребет – таков и воин. Солдат и воспринимает всё вокруг своим хребтом – там нервы надёжнее. Защищённее и оттого – чище. И именно удара по костям солдат боится больше всего. Оторвет ползадницы – сможешь бежать, как Пегас, подпрыгивая и дико ржа. Оторвет полноги – всё. Ползёшь и скулишь. Нет, в горячке ты сможешь бегать даже на переломанных ногах, но то на переломанных – даже разбитые надвое кости вовсю стараются помочь организму с могучим хребтом вынести себя за пределы беды.
Но если кость раздроблена в кашу – солдат умирает. Даже если он выживет потом – он всё равно – не солдат.
Поэтому воображение мощно и красочно рисует все эти картины на тему раневых каналов. Потому что меня уже ранили однажды, и я знаю, что поначалу, когда было ещё опасно паниковать, боль и тревога отступают на задний план. Я и не боялся тогда. А вот пото-ом, когда все более-менее отлегло, израненный организм начал слезливо жаловаться мозгу о том, как его обижали: как злая пуля раздвигала такое прекрасное молодое мясце. Как, не церемонясь, оцарапала белоснежный глянец сахарной косточки и как, издеваясь, попросту сломала её, как брызнул из косточки сок, как он потёк по тому ужасному следу, что оставила жестокая тупая пуля. Дура! Организм ничего не забыл из того момента, пока шёл процесс ранения. Он всё запомнил, все ощущения, все звуки, всю обиду. Всё записал. Каждый момент, каждую наносекунду. И при первой же возможности он всенепременно делился этими записями с разумом, приукрашая сочно-кровавые подробности.
И поэтому в мозгу мощно и красочно расцветает паранойя. В самом плохом смысле этого слова, потому что хорошая паранойя присутствует у хорошего солдата всегда, а у плохого её просто нет. Потому что без неё он, как правило… мертв.
А плохая паранойя – это младшая сестра паники. Она всегда готовит почву для всей своей родни: паники, ужасу, страху и прочее.
Вот ползёшь и, реально, враг мерещится за каждым кустом. Хотя более здравая часть мозга всё это активно отрицает, тем не менее, глаза начинают не менее активно врать. Врать про ту полуквадратную каску с хохолком из колосков, что уставилась на тебя сквозь куст; про тот ствол авиапушки (и неважно, как она здесь оказалась) которая водит жалом именно по той цепи, в которой ты ползешь; про вспышку выстрела из окна ближайшей избы, пославший тебе разрывной подарок смерти. И хотя уже потом глаз становится разоблачен в своей лжи (то были пень-каска, дрын-пушка да блик-вспышка последнего луча солнца в стекле) тот страх уже успел оставить свои следы в твоём организме. А иной раз, чего уж таить, и вне его.
Шёпот. В эти страшные минуты ты никак не можешь понять, почему твой сосед не может звучать потише, ведь нас же услышат! Он же почти орёт! Хотя другой половиной осознаешь, что у твоего друга едва раскрываются губы и воздуха он проталкивает сквозь связки совсем чуть-чуть. И те самые связки у него сводит, как при крике, и ты это точно знаешь. У самого потому что так.
Движение. Именно в этот момент ты и превращаешься в суперсущество, которое всё слышит, всё видит и всё знает наперед. Моё ухо в тот момент может уловить даже стрёкот кузнечика, прощающегося с угасающим солнцем на другом конце деревни. Да и вообще, моё ухо охотнее реагирует именно на стрекочущие звуки. И на лязгающие. И – громыхающие тоже. При этом, сам ты таких звуков производить ну очень не хочешь. Вообще не хочешь никаких звуков. Поэтому твои локти едва-едва приподнимаются над землей, плывут в плотном воздухе, с трудом преодолевая стальную силу пружинящей травы, и с невероятной тяжестью укладываются на опрелую землю. Хрустящую и чавкающую, разумеется. Потом та же песня с коленями.
Пули. Впереди нас возник забор. Мы подползли уже к самому дому, на который нацеливались изначально, когда откуда-то из деревни ударила очередь. Со временем ты всегда сможешь определить, откуда лупят, и по кому. Это вначале, когда ты ещё желторотый новобранец, тебе кажется, что лупят всегда рядом и всегда по тебе. Но с опытом начинаешь различать нюансы: если раздаются только хлопки, значит, стреляют точно не по тебе. Если наравне с хлопками ты слышишь щелчки пуль об землю, камни иль кусты, знай: очередь легла близко, но всё равно не ты их цель. Ну а если ты сперва услышал щелчок…
Мне иногда доводилось слышать хлёст плётки в своей «деревне». Потому что, хотя я и жил в небольшом городе, деревни рядом с ним, естественно, были. Как и пастухи в них.
У нас были пастухи, но те носили с собой кнуты. Тяжёлые и дальнобойные. Их щелчок был похож как раз на выстрел. Громкий и децибельный. Даже на большом расстоянии. Ну а плетка, как мне казалось, это несколько другое. Кнут, но только очень маленький. Несерьёзная штуковина, думал я тогда.
Только на войне я проникся к плётке со всем возможным уважением. Точнее, к её щелчкам. Это действительно страшное оружие. По-настоящему страшное. Даже когда оно не направлено прямо на тебя. Тем-то оно и страшно.
«Щщщщах»! – при этом звуке рождается чувство, что твоё тело расслоили на сто три тончайших пелёнки, причем уже обильно смоченных – вот какие ощущения вызывает этот звук, раздающийся в одном локте от твоей головы.
На войне пули редко визжат, как в фильмах. Когда они визжат это, порой, звучит даже красиво. Может, поэтому они в фильмах-то и визжат. В реальной жизни дождь из свинца обычно хлещет…
Когда пули защёлкали по плетню, мы едва не стали есть землю – таково было желание закопаться поглубже. Всего одна очередь, не знаем, зачем выпущенная и по кому, но она прилетела к нам и заставила нас пережить просто первобытный ужас. Легко бояться, когда всё вокруг взрывается, летит в разные стороны, дымится и вгрызается в землю перед тобой, все орут и матерятся, но идут в бой. Это легко.
И совсем другое дело, когда тишь, спокойствие, чирикают сверчки, мяукают кошечки, где-то даже поют девушки и играет гармонь, и вдруг – очередь! Внезапный (ну да, именно «внезапный») ужас выхолаживает буквально всё внутри. Ты вдруг понимаешь, что ты – всего лишь текстура, как в компьютерной игре: сверху какие-то нелепые пятна, внутри – сплошная пустота. И ледяная. Ты не чувствуешь ни легких, ни сердца, ни одной жилы внутри.
И мы лежим. Вокруг такая же тишина, как и раньше, снова запели насекомыши, и даже где-то недалеко бабий голос окликнул какого-нибудь Степашку. Но мы всё равно не двигаемся. Потому что не можем. Ибо нам – страшно…
Ту деревню мы взяли тихо и практически без боя. Так как набоялись уже вдоволь и настолько, что от одного только хлопка каждый был готов экстренно похудеть на полкило-килограмм, то реагировали мы на угрожающие нам цели на полторы секунды быстрее этих самых целей… Как будто в великое наступление сходили…
А очередь ту выпустил фриц по кошаку, который его донимал весь день, а к вечеру пригрелся на горячем чугунке, что на плетне болтался.
Ох и взбесил же он нас…
ПёсСтрах
– Есть Госстрах, а у нас – пёсстрах был! – смеется рассказчик. Мы с ним только что в Карпатский полк прибыли, что номер носил 922 и дивизию имел, естественно, 92-ю. Но называли его именно «Карпатским». А прибыли мы с рассказчиком из полка, который тоже имел свое неофициальное имя: «Ростовский». После него такого имени не присуждали никому.
На войне собак съедают. Это я понял по первым трем или семи собакам, которых мы сожрали с дикой и довольно частой голодухи. Бродячих, либо только что лишившихся дома псов попросту подманивали, и те, доверяясь людям, призванных защищать свой дом (как и сами псы когда-то) подходили к нам слишком близко.
Но этого пса никто есть не собирался.
Отчего-то та полковая псина первое время не рассматривалась вечно голодными желудками в качестве достойного гуляша к какому-нибудь блюду из пырея. Да и во второе время не рассматривался тоже.
Он появился в расположении второй роты из ниоткуда. И это не красивый словесный оборот, а сухая констатация факта – ни дневальные, ни иные бойцы, находящиеся в тот момент в роте не видели, откуда появился этот собак. Но когда на бруствере окопа возник он, причем, прямо над головой Требченко, то этот момент никто из свидетелей не забыл.
Пес имел, преждевсего, болезненную худобу, обшарпанные до ребер бока, мутный левый глаз и поистине звериную даже для своего животного мира физиономию: поломанные клыки, разорванная пасть и изломанные уши, торчащие горизонтально к земле. Одним словом, если смотреть ему прямо в фас (то бишь, в нос) то пес напоминал своим видом скорее китайского боевого дракона, нежели кубанское сторожевое животное. Растрепанные вокруг морды патлы в виде окаменевших сосулек шерсти довершали этот образ.
– Господи, что за страх божий! – выдохнул Требченко, когда обернулся на звук «телепортировавшегося» дракона. – Ты откуда, чудище? Не жри меня!!!!
Требченко неистово перекрестился и отодвинулся подальше от стенки, над которой гордо возвышался урод-пес. Но пес на завозившегося бойца даже не обратил внимания. Он, не отрываясь, смотрел на другого рядового по фамилии Пахомов. Помимо этих двоих на окопном пятачке, временно превращенного в курилку, дислоцировалось еще четверо бойцов, которые, кстати, были солидарны с Требченко насчет внешнего вида гостя.
– Действительно страшный! Прям как ты, Кокс!
– Прям чёрт из преисподней! То есть ты, Киста!
– Ну и страх он страшный…
– Бижок, – раздался тихий голос восхищения.
– Чего? – переспросил кто-то.
– «Бижок». По-литовски – страх. Пёс этот – истинный бижок. «Бижок божий» довольно забавно звучало от моего деда… Вот и запомнил.
– Бижок, так Бижок. Почти как «Дружок». Ну, стало быть, так и наречем. Эй, ты… кучерявый, – крикнул Пахомов, обращаясь ко псу. – Отныне будешь зваться Бижком.
Пес внимательно прокрутил шею вокруг своей оси чуть ли не на пол-оборота, глаз не сводя с Пахомова.
Неофициальное шефство над собакой Пахомов на себя и взял, хотя не он-то эту долю и выбрал. Просто пес признал его за хозяина с первых минут знакомства и всячески это доказывал своим нестандартным для дворняги поведением. Несмотря на явные признаки сильного недоедания, еду из чужих рук брать наотрез отказывался, где попало не болтался и вообще, постоянно старался находиться в поле зрения Пахома. Само собой, с пахомовских рук Бижок и кормился. Как король какой.
Однако не это явилось присвоением Бижку титула «Ваше Величество».
Наш полк уже давно находился на довольно выгодной позиции, контролируя два направления потенциальной атаки противника на город Д-нск. Кроме того, он был неплохо защищен от неожиданных атак в лоб или с левого фланга самой природой – складки местности да кусты всякие не располагали к такому маневру без значительного преобладания в воздушных силах. Сил в таком количестве у врага не имелось, тем не менее, санаторно-курортным режим нашей службы никак не являлся. Противник ни на день не оставлял попыток отравить наше существование какими-нибудь вылазками диверсионных групп либо нередкими, мелкими, но неудобными артналетами. Причем, налеты всегда были внезапными, что делало их зачастую очень успешными. От авиации мы были прикрыты неприступным противовоздушным куполом радаров, зениток, да своей авиацией. А вот артиллерию врага наши ангелы-хранители часто «промаргивали», так как ПВО противника тоже особыми изъянами не страдала, отчего наша авиаразведка являлась слепой на один глаз.
Результатом такой вражьей деятельности являлось написание штабом пяти-семи похоронок в неделю. И отправка десятка-полутора раненных в тыл. Силы, конечно, тут же пополнялись, но это служило слабым утешением для тех, кто на этом стратегическом плацдарме жил, будь он не ладен. Все эти вылазки, атаки, налеты должна была пресекать/предупреждать полковая разведка (наземная, разумеется) и, к чести сказать, справлялась она с этим довольно неплохо. Иначе еженедельный счет шел бы на десятки погибших, если не на сотни.
Полк вот уже больше двух месяцев являлся чем-то вроде военной базы, с которой проводилось большое количество спецопераций различного характера. С наших позиций было даже организовано одно локальное наступление, успех в котором позволил нам дышать чуть свободнее, а самой «базе» нарастить темп и укрепить оборону в виде соседних полков. Неудивительно, что такое положение дел противника никак не устраивало, а в противниках у нас теперь сидел довольно злобный генерал Бринберг – жесткий и циничный по своей манере полководец. Отношение побед/поражений – 9/1. Довольно высокий показатель, ориентируясь на который нам следовало готовиться к скорой развязке.
И именно в этот момент на наших позициях появился пёсик Бижок.
На второй день после своего явления народу он, по обыкновению, находился на передовых позициях второй роты, что выдавались на сто двадцать два метра вперед от основных позиций. Пёс выдавался тоже. Рядом с Пахомовым, разумеется. Бижок неотрывно смотрел в сторону противника, чем вызывал любопытные взгляды не только своего шефа, но также других присутствовавших.
– Чё это он вылупился? – не выдержав, спросил Литвин.
– Фиг его знает. Сам видишь – пес с прибабахом… Видать, контузило его крепко. Снарядом там каким. Или бомбой.
– Ага. Водяной! До сих пор мыться не хочет – воды ж боится, аж визжит! Наверняка из-за этого. Не, ну и страшный же он чёрт!! – Литвин еще раз зыркнул на «чёрта» и смачно сплюнул. Пес, на самом деле, никогда не визжал. Но мыться действительно не хотел.
– Не, ну-у…
– Тихо!
Бижок внезапно подорвался на все четыре лапы, неотрывно следя за какой-то точкой по ту сторону горизонта.
– вВУуууу! вВУуууу!!! – неожиданно завыл он, по-смешному закидывая голову на спину при каждом вое. Бойцы неосознанно положили руки на оружие и с силой сдавили цевья и рукоятки, не отводя взора от активировавшегося пса.
Неудивительно, что всей солдатне, закаленной в боях и прошедшей три огня, восемь вод, правда, ни одной трубы, стало не по себе. Все выпучили глаза на вытянутую в небо собаку по двум причинам: во-первых, это был самый первый раз, когда пес по своей воле подал голос. А во-вторых, этот голос был действительно жутким.
– Воздууух!!! – внезапно заорал Пахомов, услышав знакомое фырчание высоко над головой. Несмотря на распространенное мнение о том, что данная команда, по идее, должна подаваться лишь в случае авианалета, в наших реалиях это являлось наивным заблуждением: команда означала только одно – смерть с небес. И было глубоко пофиг, каким именно способом та смерть доставлялась.
Все заученно раскатились по щелям, дико ворочая глазными яблоками по ясному небу. Понятно, что лучше бы те яблочки прикрыть, дабы их земелькой не засыпало, но в первые секунды опытному солдату важнее было определить, откуда летит, чтобы сподручнее решить, куда лечь. И желательно, чтобы не навсегда.
Два снаряда прочертили призрачные нити в воздухе, а затем раздались два запоздалых взрыва.
– вВУуууу! вВУуууу! вВУуууу! – ревела сирена биологического происхождения. По звуку, один только пес не покинул своего поста. Три снаряда пролетели уже неслышно, но по их разрывам определили, что они упали в глубоком расположении полка.
Пес провыл еще раз шесть, и столько же снарядов легло на нашей территории. А на седьмой снаряд Бижок злобно сматерился, резво сиганул в окоп и – дальше, под накат.
Седьмой, как и последующие пять снарядов, ухнули на передовых позициях второй роты…
В результате обстрела, который проморгала разведка, погибло неожиданно много – семь человек, но все жертвы были в «тылу». Вторая рота потерь не понесла, так как все заблаговременно сидели по окопам. Даже раненых не было. Остальные тоже «перезимовали» неплохо.
Второе совпадение случилось на следующий же день, точнее утро. Знакомое «вВУуууу»! зазвучало в предрассветной мгле и сразу же – тот самый рявк, после которого накануне Бижок спрятался в окоп. Все снаряды снова упали на наши передовые позиции. И снова – без потерь.
Быстрые на придумывание всяких предрассудков и сотворение мгновенных суеверий солдатские умы незамедлительно приписали Бижку дар ясновидения, хотя было много тех, кто имел головы посветлее. Те, не отрицая главную роль собаки в предупреждении артналетов, объясняли его феномен столь же феноменальным слухом. Хотя, стоит заметить, что между нашим полком и вражескими позициями пролегала гряда холмов, которая не давала звуковой волне от пушечных выстрелов достичь людских и не людских ушей. Да и звук первых залпов врага прилетал на наши позиции лишь тогда, когда на них уже ложились снаряды залпа третьего. Ни один суперпёс не смог бы услышать, как грохочут бабахи в двух десятках километрах от нас. Но просветленные упорно гнули свою линию. На фоне всех этих научных и околонаучных теорий уважение ко псу все больше росло.
Пёс же привычно поднимал заднюю лапу на всё это.
Разведка проморгала и тот памятный обстрел, после которого была выжжена треть территории полка, но потерь практически не случилось. К тому моменту уже все в полку знали про мегадворнягу, что разбавило темно-зеленую солдатскую жизнь яркими спорами и обсуждениями. Но и те, кто верил в способности, и те, кто не верил ему, каждую минуту держали острое ухо в сторону второй роты. И все уже на второй день знали, что если оттуда доносилось непрерывное «ууууууууу», то значит, очередь прятаться «тылам». Если «УууУуу» такое, волнистое, то снаряды упадут ближе к передовой. Ну а если ты стоишь на посту, и не услышал воя, но вокруг все забегали-заныряли, не сомневайся: летит к тебе.
Но в этот раз пес изменил порядок оповещения. В тот день в воздухе висела сплошная облачность, и пес привычно смотрел куда-то под нее, не сводя глаз с горизонта. Потом – привстал, а все вокруг присели.
Сперва он заходил по брустверу вперед-назад, опустив голову и утробно рыча. Потом – и от этого невольно вздрогнули абсолютно все, кто это видел – Бижок резко и высоко подпрыгнул, развернулся мордой в нашу сторону, упал на широко расставленные лапы и начал бодать воздух. То есть, буквально клал свою грязную бороду на землю, а потом резким движением вскидывал морду как можно выше. И при этом выл, но выл настолько жутко, тонко и противно, что лично у меня заныли даже те зубы, которых еще не было.
– Ракеты!!! – визгливо заорал кто-то в окопах, хотя ничего такого в воздухе слышно не было. И, тем не менее, кричавшему сразу поверили: Бижок выл совершенно иначе, чем при обычном обстреле обычной артиллерией. Кроме того, это жутко дергающееся вверх-вниз лицо зверя-дракона не оставляло никаких сомнений в догадке бойца – так взлетают ракеты! Даже вздымаемая бородой пыль указывала на дымный след снаряда при пуске.
Ух, как тут все забегали-и! Ты не представляешь! Доводилось хоть раз бывать под ракетами? Вот и мне – нет! Потому до сих пор и живой.
Шансов выжить – ноль! Боеприпасы те, если впрямую тебя не уничтожают, то попросту выхлапывают из тебя всю требуху. А если и это не помогает, то они же забирают у тебя воздух. Дополнительно разогревая его градусов так до шестисот. Одним словом, паника для всех была вполне оправдана.
Тылы спешно вылетали за пределы полка еще дальше, еще тылее. Нам же, ясно – каюк. Бежать-то некуда, ракеты явно уже летят. Если только…
Первой побежала первая же рота. Схватив все, что представляло для солдата хоть какую-то ценность (помимо обязательного оружия) и было по размерам не более коробки патронов, солдаты понеслись… в атаку. То есть, в сторону вероятного противника, навстречу летящим ракетам! Через полсекунды смысл сумасшествия сослуживцев дошел до остальных.
Впереди всех мчался сам «чёрт». Откуда у него появилась такая скорость, не мог понять никто – лапы-то у него переломаны. И, тем не менее, солдатня старалась от него не отставать, нутром понимая, что как только Бижок бежать прекратит – в том месте и надо ложиться. Но Бижок бежать не прекращал. И мы неслись, на едином вдохе, долгих сто секунд.
Сзади разочарованно спел хор реактивных снарядов, вонзаясь в уже опустевшую землю. Их бессильную злобу можно было понять: они проделали весь свой долгий путь в надежде собрать богатую жатву совершенно зазря. Огненный вал пошел от первой линии окопов дальше внутрь, подбирая нерасторопных или просто понадеявшихся на, до сих пор не подводившие, окопы и блиндажи. Ворвавшись в нашу «административную» часть, вал смог собрать добычу посочнее: грузовики, легкие БТРы, орудия и немногочисленные сооружения. Но этого тоже было очень мало для такой огневой мощи. Ракеты рыдали.
Нас догнал лишь горячий ветер да легких былинок рой, когда мы остановились. Воздух качнуло обратно, а мы заозирались. Остановился и Бижок. Однако обычно презрительно-флегматичный пес, сейчас неистово истерил в сторону врага. Что, еще что-то летит что ли??
– К бою-уу!!!
– Первая рота – к бою!
– Вторая рота – к бою!
– Третья рота – к бою! – очередью разнеслись команды до сих пор живых командиров подразделений.
Народ заученно плюхнулся пузом в стерню, однако по-прежнему растерянно крутил касками по сторонам. Куда к бою-то? В чистом поле? Это при такой диспозиции воевать? Да перебьют же, как мышат!
Хотя поле не совсем было чистое: в полусотне метров впереди виднелся земляной вал с полметра в высоту и метров в семьсот по протяженности, да несколько одиноких кустов. Однако это все равно – то еще укрытие. На пару гранатометов баррикадка-то…
Поэтому неудивительно, что раздались дополнительные команды врыться в землю у тех, кто был экипирован, согласно Уставу, и не забыл о нем в секунду паники. Да и то сказать – многие уже начали это делать и без команды.
Пес длинными очередями лая выгавкивал из-за бруствера врага, командиры суетились между подчиненными, расставляя дозорных и проверяя в наличии имеющееся оружие.
Едва первый дозорный с биноклем в руках подкрался к Бижку, тот замолк. Но единственный глаз еще больше сощурил, безошибочно указывая направление солдату, в котором тому требовалось смотреть. И тот высмотрел:
– Полтора десятка грузовиков пехоты! Несколько «хаммов1»! На двести восемьдесят три! Приближаются быстро! «Коробок» не видать! До контакта – две минуты!
Грузовики – это хорошо! Грузовики – это слава богу! Идут по грунту относительно быстро, но тяжело, курсового вооружения не имеют и броня у них – тьфу! А главное, все пиндосы сидят по кузовам, компактно и беспомощно и скорой встречи с нами, живыми, ну никак не ожидают! А то, что нет «коробок», то есть, более толстокожих механизмов, так это и вовсе замечательно! Хотя и объяснимо.
Замысел американцев был ясен и вполне логичен: захватить плацдарм практически без сопротивления. Потому и была сделана такая высокая ставка. Использовать реактивную артиллерию было целесообразно именно в таких операциях, когда требовалось размолотить какую-нибудь крепость и затем молниеносно ее захватить. Как правило, после выстрела вся реактивная техника уничтожалась ответным ударом – редко, когда был иной исход. Поэтому ракетчиков всегда берегли что «наши», что «не наши», ибо это – козырь беспредельного могущества, но, к сожалению, одноразовый…
А молниеносность достигалась именно такими легкобронированными соединениями. Причем, тот факт, что ехали не колонной по дороге, за которой постоянно следили, а перли напрямую через степь, говорил о том, что Бринберг был настроен весьма и весьма серьезно в стремлении не просто выбить нас с позиций, а вообще уничтожить всех до одного.
Не вышло.
Две минуты до контакта – это очень много, каждый солдат это знает. За те сто двадцать секунд и помыться можно успеть и в чистое переодеться. Однако помирать мы сегодня совершенно не собирались. Как же: выпрыгнуть из самого ада (правда, во главе с его главным «чертом») и тупо загинуть под колесами какого-то «мак-трака»??? Ну уж не-еет!
Первыми же двумя залпами из восьми «труб»2 были выбиты пять грузовиков. Еще две машины были полностью уничтожены. И всего один промах. Однако тоже не бесполезный. Снаряд улетел за последнюю линию машин и взорвался прямо в лицо сидевшим против хода движения бойцам. И те запаниковали. То есть, не то, чтобы запаниковали, просто они решили, что, так как наземных русских впереди быть не может, значит их атакуют с воздуха! Поэтому снующие солдаты даже не смотрели в сторону нашей линии обороны, а больше зыркали в тучи.
И поэтому, уже получается, во вторые секунды боя они понесли еще более ужасные потери от нашего стрелкового оружия, чем от гранатометов – наши стреляли ожидаемо метко, мстя американцам за вселённый недавно в сердца и души первобытный ужас, с которым некоторые из нас до сих пор не сладили. И уже противной стороне пришлось принимать бой в чистом поле. По крайней мере, через три минуты на том поле уже никто не шевелился, и из-за грузовиков, которые превратились в сомнительные баррикады, американцы больше не высовывались.
Но огрызались. Потому что понимали, что не огрызаться нельзя, несмотря на то, что наши баррикады были куда лучше их жестяных машинок. Но амеры не только огрызались, они ещё и грязно ругались, оскорбляя нас в частности и всю страну вообще. И это они делали явно не от ужаса, который, по идее, должен был бы их не отпускать так рано. Они делали это явно осознанно, на что-то надеясь и уповая. И, спустя дюжину минут, причину их надменной воинственности пояснил нам наш наблюдатель.
А наблюдатель сообщил, что к нам приближается бронетехника: позади вражеских цепей появились «лавки3»… Бронетранспортеры с высокой скоростью, неприятной проходимостью и очень мерзким вооружением. В принципе, закономерно – не могло же нам так долго везти! Первая волна пехоты врага, что на грузовиках, должна была сковать боем силы тех, кто каким-то чудом выжил после ракетного удара. Вторая волна, состоящая из «лавок» со своими «теплаками4», должна была дочистить всех остальных. Ну а третья, наверняка во главе с «абрашками5», должна была окончательно закрепиться на местности. Но нам и против второй-то волны не выстоять, несмотря на сэкономленные заряды для гранатометов. Просто расстреляют издали, и всё.
Но, несмотря на численное и техническое преимущество, стадо четырехосных машин неожиданно замешкалось: сказалась увиденная ими картина разгрома бригады грузовиков, которую они увидеть никак не ожидали. Но все равно, это нам было временным перемирием, мало что решавшим. Скоро они поймут, что впереди у них серьезного противника нет, и «лавки» пойдут в последнюю для нас атаку.
Пес флегматично молчал и был убийственно спокоен.
А потом наблюдатель сообщил, что к нам приближается бронетехника. Тяжелые и неповоротливые, однако смертельно быстрые танки…
Но сообщено это было уже более радостным голосом – техника была нашей. Та, которую удалось эвакуировать из-под такого обстрела. И она тоже ехала мстить.
Атаку мы в итоге отбили, ожидаемых «абрамсов» так и не появилось, и не последнюю роль здесь сыграли подоспевшие подкрепления соседей. Хотя и не сказать, чтобы мощные подкрепления. Однако блиц-крига у юэс-генерала уже не получилось, а значит, он проиграл. Танки на войну не явились, моральный дух американской армии в этом регионе упал на тридцать два пункта, Бринберг, наверное, кого-то избил в штабе.
Стоит ли упоминать, что после такой нежданной победы авторитет пса сравнялся с авторитетом комполка? На восстановленных позициях второй роты появилась еще одна сирена, но уже электрическая. Ее задачей было оповещать тылы об угрозе, так как не все могли слышать самого Бижка.
Еще довольно долгое время наш полк был под прикрытием сторожевого пса. Но всему приходит конец, а на войне этот конец, порой, прилетает просто мгновенно. Я тогда ушел со своим отделением на спецзадание по сопровождению груза глубоко в тыл, а вот вернуться мне уже не довелось, так как некуда было возвращаться. Немногочисленные сведения говорили о том, что полк был выжжен подчистую, причем враг бесновался почти весь световой день, нанося удар за ударом артиллерией и авиацией. Много тротила положил он, много «железных птиц» отдал в жертву, но своего таки добился. Полк был уничтожен полностью – спаслось лишь несколько бедолаг, которые каким-то чудом выжили в этом чистилище.
– Вот так вот, солдатики, – закончил свою историю Карпатский. – Много позднее я узнал и судьбу Бижка – его к тому времени знал едва ли не весь фронт. Он умер на посту. Слыла легенда, что, когда ракеты уже летели к земле, он присел на задние лапы, поднял передние к небу и пронзительно завыл… нет, не завыл, а запел… Запел свою последнюю Песнь. Тогда все поняли, что пришла пора умирать – Бижка к тому времени вообще понимали с полузвука. И, говорят, тогда встали все. И смотрели в небо, которое сегодня дарило им избавление. Никто не побежал, не спрятался, не скрылся, а только каждый крепче сжимал в руках свое оружие, чтобы с ним войти в чертоги с валькириями, предназначенных только настоящим воинам. Каждый. Никто не шевельнулся – ни командиры, ни солдаты, ни повара, ни шофера, ни смутьяны, ни даже трусы. Нельзя было трусить. И всех их вместе смело огромным валом… Вместе. Именно вместе… Да… Намного позднее я узнал судьбу Бижка – его к тому времени знал едва ли не весь фронт. Кроме самого его имени.
Фронт теперь знал этого пса под именем Божок…
Бойкие бои
– Помнится, я рассказывал тебе о страхе. Думаю, теперь будет уместно рассказать о бое.
Бой для солдата каждый раз разный. И для каждого солдата один и тот же бой – разный. Для одного он – непреодолимое препятствие, для другого – кара небесная, для третьего – возможность отомстить. Для меня он был испытанием. Всегда. Без исключений. Ну, или работой…
Было ли это маленькое столкновение или полномасштабная мясорубка с целью прорыва на огромной территории – неважно. Начало любого боя всегда одинаково – ступор и молитва. И страх. Самый страшный бой – тот, что перед боем. Бой сам с собой, бой за самого себя. От исхода того сражения зависит, в какую сторону ты побежишь после сигнала к атаке.
Я сам всегда выигрывал этот бой. Но, поверь, цена каждой победы была весьма высока! И я не буду вспоминать те случаи, когда я непозволительно долго оставался в окопе вместо рывка навстречу смерти. Смерть ждала меня и в том самом окопе, только с тем отличием, что ее принесут мне свои же, специально обученные люди.
Однако если ты уже побежал на ватных ногах вперед, навстречу врагу, то сковывающий тебя ужас отступает. Ты уже победил, он уже проиграл. Он уже не нужен, поэтому бежать вперед всё легче и легче. А ужас, так как он всегда тяжелый и липкий, неизменно отстает. Хотя все равно страшно, и ты каждую секунду ожидаешь схватить своими потрохами разъяренное железо. И тявкающий позади ужас постоянно напоминает тебе об этом. Тем не менее, ты уже не во власти его. Поэтому в бою бояться легче.
Вокруг тебя бегут такие же, которые боятся, но бегут. Бегут и трусы, которые сделали ставку в этой гонке и ждут лишь того момента, когда шарик остановится. На красном… или на черном. Трус отличается от меня тем, что он постоянно кормит тот ужас, который его стремится покинуть. И ужас соглашается составить компанию бедолаге еще на несколько минут. Трус почему-то считает, что страх – его единственная сильная сторона. Но это не так.
Солдат всегда знает, что самое болезненное место в его теле – живот. Поэтому ты никогда не увидишь атакующего бойца, постоянно прикрывающим свои голову или грудь. Солдат всегда прикрывает живот, и лишь в редких случаях, когда неподалеку вонзается разрывной снаряд, бегущий человек с ружьем на короткое время вскидывает руки, чтобы затем тут же вернуть их поближе к причиндалам. Потому что причиндалы важны не меньше.
– Литвин, что эт ты всю «стометровку» лопотал там на своем старолитовском?
– Не залопочешь тут… Эти НАТОвцы хреновы, по ходу только меня на поле и видели… суки. Каждый, блин, снаряд около меня бабахал! Если бы своим идолам не молился – точно б скопытился.
– Ога. Очень нужен ты своим друзьям из…
– Это не мои друзья!
– … мирного блока – не твои, так твоей исторической родины – чтобы на тебя каждый снаряд тратить, – закончил мысль говоривший.
– А почему на литовском-то? Есть же отличный русский мат – им почти все пользуются. Ни разу не подводил! – вступает в разговор другой выживший.
– …от русского мата мне еще страшнее…
– Лан, тогда готовь новые псалмы – начинается второй этап эстафеты.
Зачастую мне удавлось добежать до какого-нибудь укрытия прям посредине передовой передовым. В таком случае я, и еще несколько таких же прытких сбавляли темп. Укрытие – будь то воронка или наоборот – бруствер – совсем не давало ощущения безопасности, а скорее наоборот – позволяло ковыляющему страху, который ты оставил позади, догнать тебя. И снова – бой с самим собою:
«– Надо вылезти и бежать! Бежать, пока они не очухались! В движении – жизнь, остановка – смерть!! Станешь неподвижным – они раздолбают тебя в минуту!! Ты же знаешь!!! нНУУ-у???!
– Нельзя бежать. Нас видели, что мы сюда завернули. Выскочим – тут нам и каюк! Они ждут, ждут же! Ты же знаешь!!!
– Если не побежим – умрем!
– Если побежим – умрем!
– Если мы останемся, нам в любом случае – конец! Не от врагов, так от своих! Давай в ногу выстрелим, а? Скажем, ранены, мол? А?! Давай? На «авось»?
– Нельзя! С простреленной ногой мы точно подвижнее не станем – а кто его знает, как тот бой повернется? Кроме того, не одни мы здесь, потому втихую не получится. Да и позорно это – совсем ополоумел???».
Вот примерно в таком ключе и такой же последовательности ты сидишь и перебираешь варианты. И, судя по вытаращенным глазам, но хмурым взглядам своих сотоварищей понимаешь, что думают они о том же самом.
Каждый бой – это как очищение. Каждый бой – это как рождение. Каждый бой – это как поход к богу. В один бой нельзя войти дважды – каждый раз в этот бой будет входить разный человек: сперва в атаку шел один воин, а потом, на выходе получался другой. Я мало помню свои битвы – они сидят в моей памяти отрывками, но порой настолько яркими, что я не могу на них даже смотреть. Смотреть сквозь толщу десятилетий – а не могу. Но я всегда смогу сказать по ним о том, когда мне было страшно. Хотя практически никогда я не смогу сказать, где и когда мне было страшно. Потому что страшно было всегда. И всегда было нестрашно…
Потому как, в каждом бою я – выжил.
Думаю, что помнить свои бои можно только в том случае, если их у тебя было два. Ну – три. Но у меня их было много, и в них я потерял достаточное количество своих жизней и душ… А про такое дополнительных подробностей помнить как-то не хочется.
Укрытие уже через минуту не становится укрытием. Его уже видят все: друзья, враги, бог и дьявол. И все они кричат тебе, чтобы ты не отсиживался за ним, а бежал дальше. И ты, подобрав все свои сопли, снова бежишь. Бежишь, зная, что после следующего шага ты ткнешься носом в эту развороченную сырую землю. Ткнешься, активно удобряя будущие мирные поля потоками своей крови, хлынувшими из ноздрей. И скорее всего, в этот миг тебя посетит облегчение.
Вот так и бежишь до самых вражеских окопов. За облегчением.
***
Когда-то, не помню где, не помню с кем, мы заспорили о том, покидает ли нас тот жуткий ужас, который вселяется в нас перед самой атакой?
– Да! – говорил один беловолосый воин с пронзительно синими глазами, намекая на то, что страх на войне быстро убивает, а раз сам воин до сих пор жив, то он не боится. – Я всегда оставляю свой страх после первого шага атаки. Я ненавижу этих уродов (врагов) а потому, они не достойны моего страха!
– Нэт! – возражает ему другой боец, кучерявый и чернобровый, которому по происхождению крови запрещено даже высказываться о собственном страхе. – Когда ты добэгаешь до своэго послэднэго врага, ты болшэ нэ боишься. Но вот имэнно тогда ты ы понимаэшь, што нэ боишься. А до этого – боялся! И сылно боялся, ох как сылно. Так сылно – дышат нэ мог!
– Если в твоей душе – ужас, то что ты сможешь сделать-то? Позорно упасть? Зарыдать, как младенец и просить пощады? У кого? У них?! Никто тебе ее не даст, если цена жизни – смерть!
Прав тут Белый: про то, как жалели поверженных или сдающихся врагов я, если честно, читал только в книжках. Ну, или в кино смотрел. В жизни я такого никогда не видел. В плен мы солдат, конечно, брали, но только тогда, когда у тех хватало ума сперва хорошенько спрятаться, а только потом выйти к нам, когда всё (и все) успокоятся.
Но не в самом бою.
В бою поднятые кверху руки означают только одно: безоружный враг. Враг! Коварный, хитрый, смертельно опасный, мечтающий тебя убить любой ценой. Враг!!! И только потом уже идет слово «безоружный». Мы убивали их сразу и на месте, опасаясь выстрела исподтишка, зажатой под коленом гранаты или еще какой-нибудь подлости похуже. В условиях смертельной опасности люди проявляют чудеса изобретательности по убийству друг друга.
Убивали сразу. И я убивал. Всегда. Никаких сожалений не было тогда, никаких сожалений не испытываю и сейчас. Вот про таких и говорил Белый: если тебя скрутило от ужаса настолько, что ты запросил пощады, то ты, скорее всего, умрешь. Потому как всем плевать, кто ты: немощный старик, который и так одной ногой в могиле, или безусый юнец, первого поцелуя не познавший. Тебя застрелят. Сразу. Без раздумий. Нельзя ужасу позволять такого.
– Страх гонит тэбя на нэго! Толко страх, никто болшэ. Ни приказ, ни жэлание, ни нэнавист! Стра-ах! Сэрдцэ скоро взорвотса, глаза скоро взорвотса, рот скоро взорвотса, а ты бэжиш. Бежишь, потому что страх иного не позволит. Бежишь, потому что страшно тебе, как никогда в жизни. Живот крутит, ноги сводит, сопли текут, а ты – бежишь. Жалкий, противный, недостойный, живой… Бежишь, и почему-то не умираешь. Знаешь, как страшно умирать, Белый? Конечно, знаешь, потому что ты это видишь. Каждую секунду – видишь, каждый метр – видишь… Все вокруг тебя умирают – в лужи превращаются, в грязь! – а ты не умираешь. На твоих глазах превращаются. Кричат так, что сам… Ты слышишь их тогда, Белый? Я слышу. Я всегда слышу, и никогда больше слушать не хочу. Но знаю, что слушать буду их всегда, потому что страх делает из меня жуткого труса, который всё видит и всё слышит. А потом, когда ты уже понимаешь, что победил и выжил, вот тогда он от тебя и уходит. Как пружина уходит, как вода… Ну, которая в кольцо закрученная такая… в воронку. Тугая такая и тяжелая. Вот она уходит… И иногда тебе становится еще страшнее.
Прав тут Чёрный: никто никогда не помнил себя расслабленным в бою. Мышцы под гимнастеркой настолько ходуном ходят, что кости выворачивает. Горло каждую секунду пересыхает настолько, что кажется, будто сейчас щеки вместе с языком и гортанью рассыплются по твоим плечам в пепел.
И – барабан в небесах.
Твой единственный, персональный боевой барабан, который упорно толкает вперед. Твое сердце. Которое тоже должно вот-вот взорваться.
Восприятие в бою тоже становится, как у вампира, если верить довоенным фильмам: очень тонкое восприятие у тебя. Я помню, как в один момент стал даже определять по звуку, с какого направления летят в мою сторону пули и снаряды. Порой прятал голову в песок раньше, чем пролетал свинец, который должен был голову ту неаккуратно развалить. А может, и кланялся я просто так, потому как делал это чуть ли не каждый миг. От страха. А потом уже придумал себе красивый момент, где я слышу летящую в меня смерть. Честно – не знаю, не могу тебе сказать. Но вот кажется, будто действительно ты весь такой суперчеловек становишься не от страха, а от…
– Да мобилизован у тебя организм потому что! У тебя же – стресс! Бой – это стресс, а стресс и страх – это не одно и то же. Страх не может помочь, если длится долгое время, а вот стресс – может.
Так вразумлял меня местный полковой умник, который в первом же своем бою по-щучьи пополз назад, к окопам. И который уже через две минуты, с разбитым носом и заплывшим глазом, бежал вперед и умолял мамочку забрать его отсюда. А всего у него боев было два. И вот – он уже знаток!
Он занял сторону Белого, не понимая, что Белый спорит не из-за того, что он никогда не испытывает страха. Белый спорит из-за того, что он никогда не чувствует страха. А страх – это тот же враг: его обязательно нужно и чувствовать, и знать. В противном случае, он тебя когда-нибудь убьет… Злейшие враги всегда так делают. А испытывать можно лишь того, кого чувствуешь и стараешься познать.
Вот Белый и желает понять, прочувствовать и осознать этого врага через мысли и эмоции тех, кто реально пережил уже не одну с ним схватку. Белый действительно храбр и отважен. Он никогда не знал страха, и это правда.
Но еще он рассудителен и умен. Поэтому он понимает, что по-настоящему с самым, что ни на есть, страшным врагом, он никогда и не встречался. А это его как раз и пугает. Потому как он знает, что тот, кто не боится, очень быстро превращается в полезные для растений вещества и материалы. Быстро и глупо так превращается. Белый не хочет, чтобы было быстро и глупо. Белый хочет, чтобы эта участь постигла не менее храбрых врагов, что из костей и плоти.
Белый очень яростно спорит с Чёрным.
Белый очень внимательно слушает Чёрного.
***
Самое страшное в бою… самое страшное в бою – это, знаешь, не получить пулю в грудь. Не увидеть смерть своего лучшего друга, которого знаешь уже неделю. Не заметить вдруг перед собою технику противника, которой у него быть не должно.
Самое страшное в бою – это сделать первый шаг к атаке.
Знаете, сколько таких у солдата шагов?
Один.
А может, два? А может девять? Нет?
Нет. Все ответы могут быть, конечно, верными, но шаг в атаке у солдата только один. Потому что у солдата будет ровно столько этих шагов, сколько раз он лег на землю. И, соответственно, сколько раз он поднимался в атаку. Но всегда этот шаг – один.
Уронит ли он себя, испугавшись, или просто хоронясь – не важно. Важно, что каждый раз ему придется поднимать себя во весь рост, и кидать себя на несговорчивые пули. Но каждый раз, после вынужденного падения, солдат поднимается в новую атаку. И снова он будет вынужден делать этот чертов шаг, который в атаке всегда один.
Поэтому настоящие воины не хотят бояться: очень неохота потом снова поднимать в себе героя. Потому в атаку мы ходили только на ногах. Всю атаку. Ты можешь хоть как изгаляться, хоть руками себе, как мартышка, помогать, но тереть пузом поле боя ты не должен.
Несмотря на то, что все два, а то и три месяца в учебке тебя только и учат тому, как правильно полировать степь отполированной бляхой ремня, первым, что ты должен забыть, придя из учебки – так это именно данный «талант». Талант бухаться на землю в атаке.
Не в атаке, но при внезапном нападении, бухаться ты должен обязательно, но когда бежишь вперед, на чужие стволы – лучше не падай. Потому что, если тебя не убьют, то придется вставать. А этого не любит никто. Даже герои.
Воздух в атаке – плотный и тяжелый. В легкие он проталкивается трудно и неохотно. Поэтому его всегда не хватает. Ты добегаешь до первого рубежа обороны противника, а у тебя нет ни грамма живительного кислорода в клетках.
Видишь перед собой первого живого врага, и начинаешь двигаться медленно, как в самых кошмарных сновидениях детства: когда нужно бежать – тело не то, чтобы не слушается – его вообще нет. Как и во сне, в атаке ты со всей отчетливостью осознаешь, что ты – это всего лишь два глаза и бесполезный рот, встроенные в сразу древний и тяжелый пень дуба. Который – ни пошевелиться, ни – побегать.
– Серый, ты че, когда к ним в траншею прыгнул, колоть их своим ножиком начал?
– Дак, Серег… патроны у меня…
– Чего?
– Ну, кончились…
– А тогда почему ты того третьего, что целиться в тебя начал, от пуза срезал? Откуда патроны в магазине-то взялись? Ты ведь не перезаряжался, я видел.
– Да… не все патроны, значит, кончились, Серег.
– Дак, а чё ты первых двух-то тогда не застрелил сразу, а начал в них железкой ворочать, коль не все патроны у тебя кончились?
– Да не знаю я! Чё докопался-то? Не знаю! Я рад тогда радовался до полных штанов, что до хоть какого-то окопа в этом чертовом поле смерти, добежал, а ты… Я чё, считал, что ли, сколько у меня там «карандашиков» осталось?? А как увидел перед собой пуговички иностранные – сразу же штыком – в туда! Думаешь, я думал в этот момент что-то? Выкуси во всё хлебало свое свинячье. Чё, ты, что ли, много думаешь в такие секунды? Ты и в мирные не думаешь нихрена, как я вижу! Со вторым – та же песня: он прибежал, я – пырнул и провернул, как учили. Ну а третьего из автомата достал, потому как далеко он был, во-первых, а во-вторых – он же целился. Из карабина целился. А раз он целится, ну значит, и мне надо. Вот и прихлопнул его… не целясь.
Потом, подумав, боец, которого тоже зовут Серега, продолжает:
– Да и знаешь, чё, Серёг: оно-то и правильно, что не думаем мы в эти моменты. Там же рефлексы работают, да эти… как их… ну тот филин-то из двадцать первой еще заумные вещи говорил – кто они там у нас?
– Инстинкты?
– Инстинкты, во! Они вот работают тоже. Скорость там повышают, реакцию. Только я вот думаю, что все эти штуки психологические явно же не от головы работают… ну, от головы, конечно, но не от мыслей самих. Короче, все же сами знаете, что в схватке нехрен рассуждать, а нужно полосовать! Слева-направо, и снизу-вверх, как ни один из инструкторов не учит, а как учит нас тетка Война. Ну да вы сами это знаете. Коль до сих пор живыми ходите. И на своих ногах… Вот на инстинктах-то потому мы и работаем, что мыслей – никаких, а только память. И вот теперь смотри, Серег: впрыгнул я в окоп к фрицу, увидел я фрица в двух шагах пред собой… что я в этот момент вспомнил?
– «Штыком – коли! Прикладом – бей!»?
– Нет, это упражнение, конечно, вбито мне в подкорку, но нет. Кино я вспомнил.
– Какое?
– А любое кино. Кино, где война и немцы – любое возьми, там обязательно кто-то к фрицу в ямку спрыгнет, и того – прирежет. Вот и всё. Вот так и получается, что, пока войны нет – мы ходим-колхозим, на себе воду возим. И всё – на автомате. Даже мыслей-то никаких особо и нет в такие минуты. А как атака случается – тут уже бегаем и носимся, как наскипидаренные… и получается, что тоже – ни мысли, ни идеи в наших пустых головах в те моменты и нету. Всё выполняем либо по смекалке, которая даже до мелкой мысли не дотягивает, либо по чьей-то памяти, в которой нам говорят, что, даже если у тебя есть патроны, все равно, ближайшего врага надо именно колоть.
***
В бою солдат живет.
Только в бою он переживает всю гамму чувств и эмоций, которые многие из людей не проживают и за все года свои на этой Земле. И настолько плотно те эмоции солдат переживает, что впечатываются они в его израненную душу невытравливаемым рельефом. И такого человека с такой печатью на душе уже сложно будет чем-либо удивить в дальнейшем.
Я знаю это. Я знаю это, потому что я вернулся с войны. Я помню, как я радовался просто тому, что могу спокойно пройтись по потайной тропинке между двориками. Пройти, не вглядываясь в каждый хлыстик-стебелек на предмет растяжки или контактного уса.
Я всё равно вглядывался в эти стебельки. Но я уже видел их мирными. Они были красивыми и доброжелательными, а не подозрительными и кровожадными. Это были стебли мира, а не ворс войны. И этому я радовался. Простым шагам по дорожке мира. До сих пор так радуюсь.
Я помню, как, в свои двадцать восемь, я однажды посмотрел – всего три секунды посмотрел – на, заходящее за край леса, Солнце, и из глаз у меня вдруг брызнули слезы. А организм весь заходил ходуном. Я не знал истинной причины моему срыву, но я в тот же момент догадался, что за глубокое воспоминание вызвало во мне такую реакцию.
И я вспомнил, конечно же, этот момент из моей военной жизни. Тогда стояло точно такое же Солнце, и мы, в умиротворенном состоянии, приняли на себя… авианалет.
Прямо из Солнца в нас брызнули косматые его лучи с термитной начинкой, и сожгли весь наш передний край. Я вспомнил всех, кто просто ходил передо мной и горел. Молча. Горел молча. Весь.
Я видел, как от них отваливались угольки, как они сами, уже умерев, делали два-три шага мертвеца, а потом опадали жирным угольком на песок. Я слышал, как кричали те, кому смерть уже не грозила, но у кого было желание именно умереть – настолько сильна их боль. Я чувствовал запах горело…
Я до сих пор не ем запеченного на костре мяса… И тогда я вспомнил, почему. На войне – ел. Всю войну – ел. А после… а после боевые инстинкты моего живучего организма попросту запретили мне это делать. Будет новая война – будет тебе и новый шашлык.
Много эмоций я получил в тот красный вечер. Много чувств вызывает во мне тот закат. То был не бой, но всё равно – и страх, и укрытие, и атака – всё там было. И была жизнь.