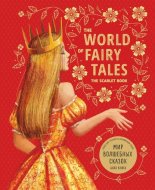Лицемер Куревин Александр

– Есть, – не раздумывая вызвался я. Не то, чтобы не боялся полуразложившихся мертвецов, а именно такие и представились в этот момент, просто считал себя обязанным видеть такие вещи для общего развития. Это не обывательский интерес, другой. Да и не интерес вовсе, скорее насилие над собой… Вот был у Дюма такой персонаж, им интерпретированная историческая личность – Генрих Наваррский. Храбрецом не был, но ради борьбы за власть требовалось воевать, и он шел на войну, отчаянно труся при этом, и вел за собой подданных. Примерно так же и я. Занятие живописью, которой увлекался с детства, подстегивало меня, если можно так выразиться, быть самому себе репортером, – стараться по возможности все видеть своими глазами, а не представлять по рассказам других.
Перепелкин сделал шаг вперед следом. Уверен, он и без меня бы вызвался. Серега – это такой стоик, который может преодолеть любые трудности, выполнить любую работу, сцепив зубы, без лишних слов. Худой, длинный, двужильный.
Конечно, от нас никак не мог отстать Бочков. Он рвался в лидеры, в сержанты. Сплотил вокруг себя такие же кислые рожи, человек пять, и понукал студентами, из которых, в основном, состоял наш взвод.
– Чего их стали после первого курса в армию грести? – задался как-то вопросом Перепелкин. Сам он окончил автодорожный техникум.
– Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят было раньше, теперь меньше стало. Следовательно, сначала отдай долг родине, потом доучивайся, если при этом не отдашь еще и здоровье, что, как мы знаем, случается…
Вместе с собой Бочков подтянул одну из кислых рож. Я видел, как сильно им обоим это надо!
– Четверых достаточно, – сказал мент в штатском. – Спасибо, сержант. Пошли, ребятки!
Все оказалось не так страшно. В смысле – трупы были не полуразложившиеся, а свежие. Но, все равно страшно. Очень. В кухне под накрытым столом на полу лежит молодая девушка, в комнате – еще одна. Кто бы ни ходил рядом, как бы ни шумел, не топал, они лежат, не шевелятся. Эксперты только что закончили работать и уступили девушек нам. Нельзя сказать, что это был тот случай, когда радуешься своей очереди.
– А что это с ними? – спросил Бочков. Если бы ему пришла сейчас фантазия спросить меня, как он выглядит, я бы ответил, что он бледный, как спирохета.
– Отравились, – ответил мент в клетчатой рубахе, приведший нас сюда. Видимо, из благодарности, что добровольно вызвались, ответил.
– Чем? – задал новый вопрос Бочков.
– Вскрытие покажет… Давайте, мужики, укладывайте их на носилки. Не бойтесь, они уже не кусаются.
Меня покоробил его черный юмор.
Мы с Серегой поставили носилки поближе к «своей» девушке, и стали осторожно переворачивать погибшую, чтобы уложить на них. Я старался на мертвую не смотреть, но, все-таки родинку на щеке не заметить не мог… Только тут дошло, кто эта девушка, что это за квартира! Точно! Дом напротив почты! Я не сразу узнал его, поскольку был здесь всего один раз, пробирался в сумерках, «огородами», а нынче мы двигались строем по большой дороге… Вероятно, я сам сделался бледнее Бочкова. Внимательный Серега заметил.
– Да, зрелище не для слабонервных, – решил он подбодрить меня, когда с выносом тел было покончено, – Бочков, кажется, чуть в обморок не грохнулся.
– Дело не в том, что увидел Бочков, Серега, – сказал я, – не в том, что увидели все. Главное, что увидел я…
Серега нахмурил брови, соображая. Конечно, единственный мой друг во взводе был в курсе всех приключений, он догадался:
– Это что, те самые Почтальонки?!
– Вот именно!
Мы молча шагали по дороге какое-то время, прижимая драгоценные посылки. Аппетит только пропал. Даже курить не хотелось.
– Выходит, они сами хлебнули своей бодяги? – сделал предположение Перепелкин.
– Выходит, – согласился я. И подумал: «Значит, Рома не успел с ними поговорить, предостеречь, выяснить, кто снабдил их отравой? Где он вообще мотается? Сидит в госпитале у своей Люции, что ли?»
Еще свербело в душе: быть может, если бы я сразу признался замполиту в том, что мне известен адрес шинка, тот немедленно отправился бы туда, и девушки не успели бы выпить, остались живы. На моей совести два трупа?! Успокоился довольно оригинальным способом – напомнив себе, что сам мог окочуриться раньше девушек вместе со Шляховым от их же, между прочим, бодяги! Пути господни неисповедимы.
Рубликов отвел нам час на обжираловку. В класс тут же пожаловали «старослужащие» из первого взвода – горняки с Донбасса. Они призывались весной, как положено, мы же – летним спец-набором. Когда рота выполняла команду: «Строиться на зарядку по форме номер два с голым торсом!» – становилось очевидным, что торсы, в основном, у рудокопов, а у наших студентов – скорее, мощи: выпирающие лопатки, ключицы, и позвоночники. Горняки держались с апломбом.
– Ну что, бойцы? Кто табачком угостит? – спросил предводитель горняков Эдик Гантауров по прозвищу «Гора». Я с ним свел знакомство еще в первый день пребывания в часть.
Дело было так. Нас, только что переодетых в новенькие «сопливые» «хэбэшки», подпоясанных ремнями из одуряюще воняющего химией кожзама, вели вверх по лестнице в расположение. Встречным потоком уверенной поступью спускались ладные хлопцы в черных погонах с золотыми буквами «СА», какие нам еще только предстояло подшить.
За трое суток на пересыльном, и столько же в дороге, я оброс щетиной, побриться еще не успел.
– Ни хрена себе, борода! – воскликнул амбал из встречного потока, пытаясь ущипнуть меня за щеку.
– Уйди, противный, – сказал я без выражения, хлопнув его по руке. – Я девушек люблю.
Он стал надуваться, но выдавить из себя так ничего и не смог, поток увлек его вниз. Что-то родил все же запоздало, но я уже не слышал. Дружки его загоготали, а их сержант прикрикнул:
– Гантауров, разговорчики! Отставить смех!
Тем же вечером Гантауров оттеснил меня к ленинской комнате и спросил:
– Ты там, на лестнице, что-то сказал, Борода?
Я мысленно поздравил себя с новым прозвищем, ощутив холодок в душе.
– Я пошутил, – ответил ему.
– Пошутил?
– Да. А ты разве нет?
Он не понял, что я, иными словами спросил, не гомик ли он часом, и предупредил:
– Ты так больше не шути.
– Ты тоже.
– Чего-о?!
К счастью для меня, нас прервали, объявив построение. Гантауров на какое-то время оставил меня в покое, но подошел в спортгородке. Разница в весовых категориях была не в мою пользу. К тому же, как я слышал, Гантауров занимался какой-то борьбой. То ли греко-римской, то ли вольной. По правде сказать, я в них не разбирался. Воля ваша, есть в этом что-то неприличное, когда мужики тискают друг друга в объятиях, пытаясь завалить на пол… Наверное, про такого, как я, сказал Федор Михайлович Достоевский: «Красота в глазах смотрящего». Вряд ли он пахана в остроге, где сидел, имел в виду… Если Гантаурова объединить с Бочковым и Кисиным, могло б получиться отделение спортсменов-неудачников. Конечно, я знал, что в драке побеждает характер, а не масса, но меряться письками не возникало ни малейшего желания.
Однако опасения мои оказались напрасны. Гантауров к этому времени уже кое-что узнал обо мне и настроен был вполне мирно:
– Борода, ты, говорят, институт окончил? Сколько же тебе лет?
Я прищурился на него из ямы, которую откапывал, и сказал:
– Двадцать три года, возраст Иисуса Христа.
На лице у Горы отразилось умственное напряжение:
– Ты что-то попутал, Борода! Иисусу Христу было тридцать три года!
– Но, двадцать три ему тоже когда-то было…
– Гы-гы! Ну, ты приколист!.. А мне сколько дашь?
Я хотел ответить, что количество годов ему прокурор отмеряет, да не хотелось портить наметившееся потепление в отношениях.
– Двадцать два? – спросил.
–Девятнадцать! – Он расправил плечи.
– Выглядишь старше, – признал я. Гора расплылся в улыбке. Я украдкой глянул на Серегу. Тот разделил мою скрытую насмешку над пацаном, который гордится тем, что выглядит как мужчина. «Учебная часть – это детский сад для детей с большим прибором», – вспомнилась расхожая шутка.
С тех пор мы с Гантауровым как бы подружились. Теперь, когда Гора со товарищи вошел в класс, я вдруг вспомнил, что в ту ночь, когда я выходил за пределы части, именно Гора дежурил на КПП, и с ним еще какой-то худосочный горняк, забившийся в угол, точно больной воробей. Вероятно, когда в родном Донбассе его друганы выдавали на гора по вагону угля, он – лишь маленькую тележку…
– Я табачком угощу! – резко поднялся я с места, удивив всех готовностью быть ошакаленным, – Пойдем, покурим, Эдик!
Гантауров как будто догадался, в чем мой интерес, и в курилке заговорил первым:
– Прокурорские пытали, как Шляхов в шинок ходил, – сказал он мне. – Но ты, Борода, не боись, тебя не сдали. Женька Атаманов сказал, все будем на Шляхова вешать, тому уже по барабану.
– Да, да… – согласился я, вздохнув.
– Только они, кажется, с наших ответов сделали вывод, что брешем со Стручком, – продолжил Гора. Я догадался, что «Стручок» это тот «воробей». Стало ясно, отчего следователь взялся не за нас с Кисой, а за кладовщика. Поговорив с дежурными по КПП, он сделал вывод, что те чего-то темнят, стало быть, в шинок Шляхов и не ходил, быть может… Следуя такой логике, следак должен искать, кто же Шляхова у нас напоил, а сам при этом не попробовал? Что это за трезвенник? И где этот «тамада» взял метанол, если на складе учебки яд не числится? В посылке прислали? «Мама, пришли мне, пожалуйста, метилового спирта. Сержанта извести хочу. Плохой»?..
Шутки шутками, а на другой день следователь действительно стал выяснять, кто мог иметь зуб на сержанта Шляхова. Поискал бы лучше того, кто не мог? Тот же Киса из-за морзянки. Конечно, мелко это… Или Суслик, которого Шляхов тренировал выполнять подъем-отбой за сорок пять секунд после отбоя чуть ли не каждый вечер, а прыти у того все не прибавлялось. Шляхов же относился к тому, что у кого-то из его бойцов что-то не получается как к личному оскорблению. И потихоньку распускал руки. У Суслика «фанера» – грудная клетка – уже вся синяя сделалась от его «прозвонов»…
Когда разбирали-собирали «конструктор Калашникова» – любимую игрушку в «детском саду для детей с большим прибором» – Суслик под взглядом Шляхова боялся перепутать порядок установки деталей и от этого, конечно же, путал. Шляхов пока молчал, но видно было – готов взорваться. Бочков не выдержал, вырвал у Суслика из рук деталь, воскликнув: «Да не эту! Вот эту надо сначала!» – и посмотрел на Шляхова, ожидая одобрения. Одобрение он получил от меня:
– Смотри-ка, у сержанта заместитель подрастает, – сказал я Сереге. Бочков зыркнул на меня глазами. Хуже то, что и Шляхов услышал.
– Это кто такой умный?
Повисла тишина. В традициях у сержантов было добиваться ответа.
–А ну, строиться!
Мы встали в шеренгу.
– Я спрашиваю, кто сказал?
– Я не хотел вас обидеть, товарищ сержант, – достаточно громко, спокойно проговорил я.
– Фамилия?
– Рядовой Смелков.
– Выйти из строя!
– Есть! – Я сделал два шага вперед, развернулся лицом к шеренге. Шляхов ел меня глазами.
– Придурок! Ты не хотел меня обидеть? Смотри, чтобы я тебя не обидел!
–Так точно!
– Что «так точно»?
– Я буду смотреть, чтобы вы меня не обидели, – пообещал я. За спиной у Шляхова послышалось хихиканье. Он схватил меня рукой за грудки:
–Ты чего, поприкалываться решил?!
Я взял его руку своей за запястье и предложил, не повышая голоса:
– Товарищ сержант, давайте не будем выходить за рамки уставных отношений?
Шляхов, кажется, готов был лопнуть от злости, но бить меня поостерегся. Вдруг стукану потом? Или, того хуже, дам сдачи при всем взводе? Прошипел:
– Встать в строй! – сбросив мою руку.
С тех пор мы были враги, Шляхов искал повода затюкать меня по уставу, но выходило слабо: спортивная подготовка у меня была не самая плохая, на плацу я не путал команды: «правое плечо вперед, шагом марш» и «левое плечо вперед, шагом марш», и морзянку, в отличие от Кисина, слышал хорошо. Никому не докажешь теперь, – размышлял я, – что той ночью мы практически помирились, Шляхов даже выпить предложил. Слава богу, что я этого не сделал! Когда следователь станет выяснять, с кем Шляхов был в контрах, он неизбежно доберется до меня, – думалось. – А когда узнает, что это я ходил в шинок, не зародится ли у него подозрение, что я же и отравил сержанта? И ведь отравил его-таки действительно я, принесенной собственноручно бодягой! Так, может, я и заказал ее Почтальонкам специально для Шляхова? А после их убрал? Ха-ха-ха!
Правда, казалось, следователь пока не знает про отравленных Почтальонок. Это понятно, ведь там работают гражданские менты, а у нас – военная прокуратура. Когда они еще обменяются информацией между собой? Я пока знал больше, чем компетентные органы – парадокс! Только делиться знанием почему-то не было желания, – поймал себя на мысли. И Рома куда-то пропал! Хоть бы с ним посоветоваться!..
Отсидев следующим утром в классе первое занятие, вышли, как обычно, подымить в курилке. Серега обратил внимание на странную суету перед штабом. Проверка, что ли какая нагрянула?
– За наши турники я теперь спокоен, – сказал ему. Мимо казармы прошествовал сам командир части полковник Картузов со свитой. По правую руку от него шел замполит, по левую – наш старлей Волосов.
– Смир-р-рно!!! – заорал Рубликов, но чины, явно чем-то взволнованные, почти не обратили внимания на нас, вытянувшихся в струнку.
– Вольно, – автоматически ответил начальник учебки, едва взглянув на сержанта.
– Вольно! – повторил команду Рубликов.
На некотором отдалении за свитой семенил фельдшер Климов, и Рубликов окликнул его. Климов притормозил, они с Рубликовым обменялись фразами, после чего фельдшер пошел за всеми к штабу, а Рубликов вернулся к нам с изменившимся, как у той графини, что бежала к пруду, лицом.
– Ни хрена себе! – изрек он. – Капитан-медик покончил с собой. Застрелился!
– Что-о? – показалось, будто меня ударило током. Разряд пошел от груди по всему телу. – Как?!!
Весь день мы занимались в классе, наверстывая упущенное, – первые недели в учебке, в основном, работали. Рубликов пищал свои точки-тире, а мы пели: «Э-ле-роо-ни-ки… Баа-ки-те-кут…» Какие у них баки текут, и что за «элероники»? – мы, вроде бы, в учебке связи, а не в летной школе. Видимо, считалось, чем нелепее напев, тем лучше запоминается.
Казалось, что голова моя пуста и набита ватой. Никаких мыслей не было. Никто не мог понять, что же случилось где-то там, за пределами части, с военным врачом капитаном Горящевым? Подробности о его гибели просачивались помаленьку в течение дня. Нашли Рому за железнодорожной насыпью. Застрелился он из самодельного малокалиберного револьвера. В его квартире обнаружили дневник, где он писал о своей возвышенной любви к некой медсестре из гарнизонного госпиталя.
В душе нарастала… обида на Рому. Как же он мог застрелиться, не посоветовавшись со мной? А еще друг называется!
На вечерней поверке меня шокировало выступление командира части. Картузов кричал, что от него никто не дождется теплых слов о капитане медицинской службы, покончившим с собой. Об этом слабаке, наложившем на себя руки из-за бабы! Об этом слюнтяе, который так подвел часть!!!
От такого неслыханного попрания норм морали со стороны полковника я пришел в себя. Вата из головы исчезла, в ней зашевелились разрозненные, скорбные мысли.
Выходит, Рома получил отказ от Люции на свое предложение?.. Почему пистолет самодельный? Врач не может иметь личного оружия? Или до сейфа, где оно хранится, просто так не добраться?..
С одиннадцати ночи меня поставили охранять радиостанцию. График составлял Бочков, назначенный вместо Шляхова. Быстрая карьера! Командовать нами боксер, правда, пока не пытался, – понимал, что пошлем куда подальше. После отбоя, в ожидании заступления на дежурство, я даже не пробовал уснуть. Понимал, все равно не получится. Все думал. Неужели Рома так сильно запал на свою Люцию? На старого девственника он похож не был. Сам говорил, с Волосовым все злачные места обошли. Почтальонок знал… Неужели его настолько подкосил ее отказ? Чужая душа – потемки. Каков срок моего знакомства с Ромой? Без году неделя. Только непонятно с этим револьвером. Где Рома его хранил? Вероятно, дома. Не с собой же таскал! У нас не война, слава богу, не разгул бандитизма. А если дома, то вопрос. Вот человек решил свести счеты с жизнью. Ну, достал бы пушку и выстрелил в себя, не выходя из квартиры. Зачем ему куда-то уходить? Брести за какую-то железнодорожную насыпь, где его нашли? Может, он прогуляться вышел, а в дороге стало невмоготу жить? Тогда он, выходит, заранее знал, что станет, и прихватил «пушку»? Фигня какая-то… Впрочем, кто может точно знать, что чувствует, о чем думает отчаявшийся человек?..
Пролежав без сна, я отправился охранять радиостанцию. Передо мной на посту стоял Кисин. Я обошел «зилок», проверил, все ли колеса на месте. Спросил Кисина, не проспал ли он еще какой-нибудь труп на мою голову? Киса пожелал мне типун на язык и утопал в казарму. Я залюбовался звездами – чисто планетарий!
Вдруг раздался непонятный звук, неясная тень мелькнула за кунг. Кто в индейцев играет? Решили меня попугать, что ли? Серьезного злоумышленника на территории части, огороженной забором, ждать не приходилось. Разве что другой взвод удумал разукомплектовать нашу машину связи…
– Эй, выходи! – прикрикнул я, поправляя штык-нож на ремне, единственное свое оружие, – Я тебя видел! Сделав шаг, вдруг почувствовал, за спиной кто-то есть, но обернуться не успел. Сверху на голову чьи-то руки резко надели какой-то мешок, сильно пахнущий мышами, натянули его до пояса. Невидимые враги сбили меня с ног и предоставили возможность изведать, что чувствует футбольный мячик, находясь в игре. Пинали молча со всех сторон, не разбирая, куда. Я изо всех сил старался действительно сделаться круглым, как мяч, поджав колени к подбородку, прикрывая голову локтями, напрягал мышцы. Но, по голове все-таки попали раз, другой… Я попытался перехватить чью-то ногу, почувствовал шнуровку, – пинавший был обут в берцы. Еще удар и все! Я отключился.
Очнулся от того, что лицо царапала грубая мешковина, которую стаскивали с моей головы. Я глотнул свежего воздуха.
– Олег! Ты живой? – услышал голос Перепелкина. Точно, он же должен меня сменить.
– Вроде бы, – ответил я.
– Фу! Я уж подумал, тебя тоже…
– Что «тоже»?
– Не знаю! Отравили, застрелили….
В этот момент я подумал, что Серега прав. Шляхова, девочек, именно отравили, а Рому застрелили, потому что он поехал к девочкам разбираться. Чем не версия? Правда, никто не знал, кроме меня, что он поехал к ним… Или кто-то знал?
Я резко встал на ноги, однако мотнуло в сторону, Серега еле поймал.
– Тихо, тихо, – прошептал он, придерживая меня под локоть. – Пойдем-ка, дойдем до больнички. Сможешь?
– Я еще не то смогу! – пообещал я с угрозой в адрес неведомых злодеев. Впрочем, не такие уж они неведомые. Кто у нас не марширует на плацу, имеет возможность ходить в берцах? Например, кладовщик Али-Баба. Задушу козла его же шнурком, – решил я, – вот только оклемаюсь маленько!
Климов, единственный в данный момент хозяин лазарета, помнил, как недавно я привел к нему побитого бойца. Теперь самого привели. Фельдшер усмехнулся, тщательно скрывая сочувствие. «Допрыгался!» – вот что означала его усмешка.
– Чего смотришь? – наехал на него неожиданно Серега. – Видишь, человек на ногах еле стоит? Койку давай!
Климов растерялся. Единственное, до чего додумался, проводив жертву избиения до кушетки, это принести таблетку анальгина.
– А спирта нет? – спросил я его.
– Самому мало, – нашелся он. И предложил:
– Если стучать не собираешься, сам придумай, с чем лег. Я в журнале должен буду записать.
Серега, не спросив меня, привел Рубликова. Я сморщился при виде сержанта, с укором глянув на друга.
– Смелков, ты чего? Кто тебя? – испуганно залепетал Рубликов, присев на табурет рядом со мной. Все-таки я был солдатом его взвода.
– Ничего, товарищ сержант. Об колесо запнулся.
– Хочешь молчать? Молодец. Но, мне-то скажи!
– Оно вам надо, товарищ сержант? – Тонко улыбнулся я. Рубликов оценил. Спал наш сержант, видно, хорошо, судя по розовым щекам и отсутствию синяков под глазами, и вряд ли хотел, чтобы его сон сделался менее крепким от того, что станет больше знать…
– Ну, поправляйся, – Рубликов поднялся с табурета. – Перепелкин, давай на пост.
На огонек к Климову заглянул Поваренок. Видать, спиртяжки халявного захотелось. Печальный опыт Шляхова ничему его не научил. Я, не отойдя еще от полученной взбучки, не спал и прислушивался, о чем они говорили за дверью Роминого кабинета. Интересовало, мог ли в принципе кто-то подслушать наш последний с Ромой разговор? Нет, звукоизоляция в Ромином кабинете была хорошая. Я слышал только неясное гудение, слов было не разобрать.
Всю ночь в лазарете, в углу, дрались и пищали крысы, и матерился один хохол, – крысы затеяли свару под его кроватью. Мне тоже не спалось, разговорились с ним. Хохол спросил, буду ли я закладывать своих обидчиков? Я ответил, при всем желании не получится. «Темная» – старое, проверенное средство.
Хохол поведал, что сам он служит при госпитале, в хозвзводе, а здесь оказался случайно. Привозил кое-что для медпункта, да скрутило живот. Пока в сортире сидел, госпитальная «буханка» укатила. Завтра намерен вернуться восвояси.
У них в хозвзводе один боец, было, застучал деда, тот нос ему сломал. Деда в дисбат сдали, остальные старички притихли. Всем молодым легче жить стало, но стукача все равно позором заклеймили, неблагодарные.
Житуха у больных в госпитале, по словам хохла, выходила просто сказочная. Четырехразовое питание – не в неделю, в день – и еще тихий час. Задержаться там легко. Только скажи, что поработать не против, и оставят. Под началом майора Гоменского как бы второй хозвзвод держат – из пациентов. А какая у Гоменского медсестричка работает! Люсей звать.
Фамилию «Гоменский» я слышал от Ромы. Наверное, «Люся» – это Люция, – пришла догадка. Сразу появился дополнительный интерес к разговору.
– Расскажи про медсестричку, – попросил своего собеседника. – Хоть вспомню, какие они, женщины…
– О-о-о! Гарна дивчина! Высокая, стройная. Тут, – он приложил ладони с растопыренными пальцами к груди, – возьмешь в руку, маешь вещь! Думаешь, видя ее: такая пава, и не моя!..
– За ней, наверное, все отделение увивается?
– Ну, все-не все. Она, как ни как, начальница им! Уколы делает, за режимом следит. Но местная мафия подбивает клинья.
– Поубивал бы! – воскликнул я.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся хохол. – Сначала с местной разберись, – подколол он меня не зло.
После разговора с ним у меня стало крепнуть убеждение, что требуется срываться в госпиталь. Али-Баба первым просек, что я остался без защитника, – Ромы больше нет. Просекут и другие. В ближайшее время меня ждет в учебке веселая жизнь. Но дело не только в этом. Очень хотелось познакомиться поближе с Люцией. Гарна она дивчина, или нет, волновало в последнюю очередь. Мог ли Рома, правда, из-за нее? Кто вообще пустил эту версию? Я предположил, Волосов. Он ведь был товарищем холостяка-Ромы, поверенным в делах амурных. Знал, что Рома влюбился. Эх, Рома-Ромэо! Все-таки имена даются не зря. Я – Олег, значит, должен быть вещим. Надо разобраться с этой историей!
С утра меня пришел навестить Серега. Мой неожиданный вопрос: имеются ли у него какие-нибудь хронические болезни? – заставил Перепелкина задуматься.
– Надо придумать, Серега. Хотя бы воспаление хитрости. Я узнал, где находится рай на земле Читинской, но здоровому человеку туда попасть проблематично. Иное дело – хитрому.
Я рассказал Сереге про госпиталь и предложил, не смотря на то, что на улице лето, навострить лыжи. Это лучше, чем коньки отбросить. Ведь сейчас, после смерти Ромы, на меня ополчится вся мафия, и выбор у Сереги будет не богатый: либо вступаться за меня, либо делать вид, будто не знакомы. Что выберет Серега – очевидно, только, оно ему надо?..
Перепелкин не сильно испугался перспективы на пару с другом увидеть воочию кузькину мать, о которой прежде только слышал, но идея рвануть из учебки ему понравилась. Принялся выдумывать себе какую-нибудь хворь.
Уходя от преследования, мы должны были разделиться, – вдвоем точно не вышло бы. Я видел, как отношение Климова ко мне меняется прямо на глазах. Я же теперь не кореш его шефа, а обычный «дух», он же – фельдшер, член мафиозного клуба по должности! Но, меня-то Климов в госпиталь отправит, я полагал, чтобы не застучал кого-нибудь ненароком. Серега же, мы с ним договорились, переберется туда чуть позже.
– Что написать тебе в направлении? – спросил меня Климов.– Придумал уже?
– Напиши, что у меня насморк и голова болит с левой стороны. – Я прикрыл ладонью левый глаз. – Гайморит.
– Гайморит?
– Да. Чему ты удивляешься? Лучше пусть у меня будет гайморит, чем у вас из-за меня – геморрой. Мне главное, отсюда уехать, а там сам на рентген попрошусь, что-нибудь придумаю…
Я сидел-посиживал на лавочке в ожидании утренней лошади – «буханки» из госпиталя, как вдруг нарисовался Бочков, – проходил мимо. Лицо мое оставалось чистым, все синяки, ушибы, ссадины – под гимнастеркой, да несколько шишек на голове под пилоткой не видны. Заклятый друг заподозрил во мне симулянта.
– Косишь? – Он подмигнул. Я покачал головой:
–Косить не пробовал. Копать – другое дело. Могу поделиться азами: не давай, чтобы копали под тебя, и сам не рой яму другому.
Бочков проницательно усмехнулся:
– В госпиталь решил свалить?
– Знаешь, Бочков, если бы я хотел косить, свалить, – вообще в армию не пошел бы. Имел такую возможность. Ты бы на моем месте так и поступил…
Бочков не поверил и ушел, а я от нечего делать ударился в воспоминания: как явился домой, держа в одной руке пахнущий свежей типографской краской диплом о высшем образовании, в другой – бутылку шампанского. Отец, сидевший в гостиной с очередным номером «Рабочего», кивнул: «Угу», – мол, увидел, что я принес, и продолжил гнуть свое:
– Ты по-прежнему уверен, что хочешь служить в армии?
– Больше хочу посмотреть, как другие служат.
– В гостях у дяди Васи не насмотрелся еще?
– Хочется изнутри поглядеть…
Куда мы только с отцом не летали на рыбалку к дяде Васе, пока тот служил сначала на Дальнем Востоке, потом – в Сибири, и так далее, потихоньку приближаясь к столице, с благословения некоторых людей, которым еще, помимо родственников, дядя Вася организовывал отдых на природе. В итоге я понял, что в жизни важно не просто грамотно делать дело, как, например, старший лейтенант Волосов, но еще найти своего конька, на которого суметь вовремя сесть… И наслушался я в свое время, как солдатских баек у костерка в стороне от начальства, так и разговоров самого «начальства». Отец в то время был военным корреспондентом, а дядька, как и теперь, служил в военной прокуратуре. Им было о чем поговорить.
– Шампанское – это хорошо. Не скоро ты его еще попробуешь, – сказал упрямцу папа, отмечая его диплом. И оказался прав, ни разу не налили. Хотя, известие о том, что нас, после трех суток пути, приняла учебка связи, сразу же вызвало желание самим принять по этому случаю. Единственным человеком за все время, который хотел угостить, оказался сержант Шляхов. Сожаления о том, что отказался, у меня не будет никогда, наоборот, впору богу свечку поставить, спрятав подальше комсомольский билет!
Следом за Бочковым возле больнички объявился Алимбаев. Он высоко поднял брови при виде меня, отдыхающего на скамейке. «А ты что здесь делаешь?» – говорил его взгляд. Вслух он, однако, не сказал ничего, только хмыкнул, и ушел.
Через некоторое время я заметил рыжего Поваренка. Кстати, он был обут в берцы. Может, это его я пытался поймать за ногу, а вовсе не Али-Бабу? Хорошо бы взгреть их обоих, чтобы не ошибиться!
Стало понятно одно: отъезд мне запросто могут сорвать. Я увидел, как Али-Баба и Поваренок разговаривают с Климовым. Разумеется, Климов сделает то, что велит мафия. А я мыслями был уже в госпитале! Нет, так легко расставаться со своими планами не хотелось. Пришлось срочно прятаться в кусты. Успокаивал себя тем, что есть люди, которые чуть что, сразу в кусты, я же – лишь в крайнем случае…
Стал ждать «буханку». Если она не приедет сегодня, – думал я, – план по переселению в медучреждение можно будет считать сорванным, и готовиться к бою. Второго шанса мне просто так не дадут. Почувствовал волнение: придет буханка, или нет? Поймал себя на том, что грызу ноготь. Вот еще!
К счастью, она приехала! Я одним из первых прошмыгнул из своего укрытия в машину. Это я очень правильно сделал! Страждущих в это утро собралось больше, чем мог вместить автомобиль. Мне же до завтра ждать было не с руки.
В последний момент, когда «уазик» тронулся с места, я обернулся, посмотрел в окно и встретился взглядом с Климовым. «Упустили!» – казалось, прочитал я в его глазах. Мысленно показал ему неприличный жест.
Попасть в госпиталь было полдела. Главное – закрепиться в нем. Редчайший случай, когда мерзкое насекомое – клеща – можно привести в качестве положительного примера.
Проехав в ворота, «буханка» подкатила к единственному на территории высокому зданию – главного корпуса, судя по всему. В приемном покое доктор-сопровождающий сдал нас даме средних лет с сохранившейся фигурой. Очки в тонкой оправе придавали ей загадочный вид. Прибывших на осмотр она вызывала по одному. С чем приехали ребятки из других взводов, я не интересовался, чтобы не заболело то же самое. Хватало собственной головной боли, не считая отбитых костей.
Когда настала моя очередь, произнес свою легенду, про насморк и левую половину головы. Гайморит у меня правда был, только давно. Симптомы, однако, помнил.
Тетя оказалась технически вооруженной, достала инструменты отоларинголога и в шесть секунд определила, что никакого гайморита у меня нет. Положим, я и сам это знал, однако стало обидно, что так быстро раскусили. Почувствовал, что судьба моя висит на волоске. Сейчас докторша позовет: «Следующий!» – и все. Назад, в учебку, где меня никто не ждет! Точнее – ждут, но не так, чтобы это вызывало ответное желание скорой встречи.
– А мне бы еще к майору Гоменскому, – пролепетал я.
– А что у тебя? – спросила дама.
– У меня это… ребра болят при дыхании.
– Майор Гоменский, вообще-то, начальник кожно-венерологического отделения, – просветила меня докторша. Я, пожалуй, заржал бы, если бы не серьезность положения, в которое попал. Следовало заранее узнать, где работает заветный майор Гоменский, которому нужна дармовая рабочая сила.
Дверь приоткрылась, неведомый мужчина в белом халате, надетом поверх формы, как у всех здесь, спросил:
– Марь Иванна, вы скоро отстреляетесь?
– Это ты мне скажи, Палыч, скоро ли я отстреляюсь? Тебе очередь видна.
– Ясно, – сказал «Палыч», оценив толпу наших связистов. Дверь закрылась, я почувствовал, что соломинка, за которую схватился утопающий курсант Смелков, вот-вот обломится.
– Мария Ивановна, – робко позвал я.
– Откуда ты знаешь, как меня зовут? – удивилась она. Отвечая на вопрос Палыча, обо мне, видно, забыла совсем.
– Там, в направлении, только про насморк написано, – напомнил ей. – На слух я не жаловался.
Она улыбнулась.
– Может, тогда вы меня посмотрите?
– Хорошо. Раз на слух не жаловался, раздевайся.
Я снял «хэбэшку», Марь Иванна глянула на мои плечи, грудь, ребра – все синие – и по-мальчишески присвистнула, чем сразу завоевала мою симпатию.
– Ты в часть не хочешь возвращаться? – догадалась она. – Тебе, может, к хирургу надо?
– Не хочу возвращаться, – честно подтвердил я. – Мне к хирургу не надо, но, если вернусь, кому-то действительно может понадобиться… Мне бы к майору Гоменскому. Слышал, ему работники нужны.
Мария Ивановна задумалась. Судьба моя опять висела на волоске…
– Хорошо, – сказала она. Взяла какой-то бланк, набросала на нем несколько строк, и передала мне.
– Выйдешь из корпуса, пойдешь направо, последний корпус, у забора, почти в углу.
– Спасибо! – поблагодарил я добрую женщину. Хотелось сказать ей, подобно щуке, пойманной Емелей: «Может, и я вам как-нибудь пригожусь!», – да поскромничал. Узнай она, кто мой дядя, сама пришпорила бы воображение, и предлагать не пришлось.
Конечно, отец отмазал бы меня от армии и без дяди Васи. На призывном он сказал:
– Надоест расширять сознание, напиши, я тебя вытащу оттуда.
Отец категорически не хотел понимать, почему я, после успеха своей первой персональной выставки, вознамерился полтора года месить грязь сапогами.
– Из глины тоже можно что-то вылепить, – сказал я ему тогда.
– Да ты не глину месить будешь, а… – отец посмотрел на мать, присутствующую при разговоре, и не стал продолжать.
– Кроме всего прочего, папа, как я стал бы в глаза друганам смотреть, когда они из армии вернутся?
– Так ты из солидарности с ними?
– Нет, – вынужден был признать я. – Из солидарности с ними я поступал в институт.
–Ты сам выбрал технический ВУЗ, а не художественную академию.
– Сам, сам…