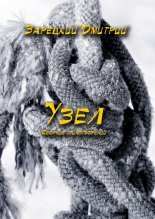Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры Мосери Джон

Когда танец отрепетирован в зале и исполняется с живым оркестром, дирижеру приходится следить за невероятно сложной серией движений, чтобы понять, правильный ли темп он дает для демонстрации танцоров в максимально выгодном свете. Некоторые великие танцоры несколько опережают ритм, в то время как другие опаздывают. Танец с опережением обычно демонстрирует аудитории отсутствие синхронности с оркестром. Танец точно в такт создает ощущение мощи, а танец с некоторым опозданием — ощущение невесомости.
Вацлав Нижинский (слева) и Морис Равель играют «Дафниса и Хлою» в 1912 году
Во время дирижирования балета у маэстро есть огромное преимущество по сравнению с ситуацией, когда он дирижирует оперу: его глаза находятся на уровне сцены, и он смотрит прямо на то, что дает самую важную информацию, — на ноги танцора. В опере голоса певцов, их дыхание и поддерживающий аппарат находятся в полутора метрах над нашими головами — если солисты стоят на плоской сцене. Чем ближе певец приближается к ее краю, тем выше приходится задирать голову, чтобы увидеть его рот.
Балетмейстер будет настаивать на определенных жестко заданных темпах для кордебалета, который часто движется синхронно. Однако для соло или па-де-де задача окажется невероятно сложной. Многие балетные труппы едва ли могут позволить себе живую музыку, и поэтому репетиций с оркестром у них обычно прискорбно мало, даже в случае с самой сложной музыкой и хореографией. На большинстве репетиций труппа танцует либо под фортепиано — и мастерство пианиста играет огромную роль в подготовке к оркестровой работе, — либо под запись. Дирижер, начинающий работу с живым оркестром, должен найти способ сымитировать темпы в записи. Порой это выматывающее, опустошающее занятие, похожее на аккомпанирование фильму в попытке воссоздать точный темп саундтрека. Если дирижер не присутствует в зале во время создания балета (что непрактично, потому что на сочинение и заучивание движений уходит много часов репетиций), то имеет дело со свершившимся фактом.
Великолепные танцоры балета — люди одновременно героические и ранимые. Им легко причинить вред, если взять неподходящий темп. Любой, кому хватает смелости дирижировать балет, — тоже герой, причем в еще большей степени, потому что на самом деле маэстро крайне мало понимают в создании великой иллюзии победы над гравитацией через движения и точно синхронизированный звук. Мало кто в аудитории имеет представление о том, как это невероятно сложно, и, когда результат оказывается хорош, всё восхищение, любовь и, что тут говорить, преклонение достаются танцорам. Дирижер всегда выглядит неловко и неэлегантно, когда выходит на сцену в конце представления в окружении физически красивых и атлетичных артистов. Обычно он делает поклон, обливаясь потом, и указывает на оркестровую яму, где музыканты уже пакуют инструменты или просто направляются к выходу.
С учетом вышесказанного вы можете спросить, что происходит, когда маэстро делает ошибку. Хотя в искусстве дирижера много неопределенности, ошибка — та, которую признает настоящей ошибкой любой, выступающий под началом дирижера, — случается, когда маэстро показывает неверное число долей в такте либо дает сигнал певцу или инструменталисту вступить не в том месте. В обеих ситуациях оркестр должен делать выбор: следовать за лидером или сопротивляться. Это решение принимается за долю секунды — причем принимается музыкантами, действующими как единое целое. В противном случае наступает музыкальный хаос, и всем приходится решать, как двигаться дальше. В большинстве случаев это удается.
Если дирижер допускает ошибку, она остается несмываемым пятном на его совести. Она непростительна, потому что важнейшая часть его работы — правильно отбивать такт — оказывается невыполненной. Маэстро оказался недостоин своих музыкантов и создал ту самую неуверенность, от которой должен был их избавить.
Сэр Адриан Боулт (1889–1983) остановился посередине мировой премьеры Симфонии № 2 Майкла Типпетта в 1958 году, которая транслировалась на ВВС: он неправильно показал такт через несколько минут после начала первой части. Моментом позже все услышали голос дирижера: «Только моя ошибка, дамы и господа». Мало у кого из дирижеров хватит мужества на такую честность. Тосканини потерялся во время прямой трансляции «Вакханалии» из «Тангейзера» на ВВС 4 апреля 1954 года, и выступление Симфонического оркестра NBC стало разваливаться у него на глазах. После концерта он ушел со сцены и больше уже не возвращался на подиум.
С другой стороны, когда артист делает ошибку, задача дирижера — как можно скорее выправить курс корабля. Чаще всего это происходит с оперными певцами. У них больше одновременных задач, чем у любого другого: они должны заучивать роли, запоминать позиции на сцене, играть в костюмах, а их тела — это инструменты, потому они всё время сознают свое физическое состояние, готовясь воспарить над оркестром и потрясти нас мастерством и артистизмом. Дирижеры заучивают серию движений ладонями и руками, чтобы предупреждать певцов и проводить их через моменты, когда могут возникнуть трудности с запоминанием их партии. Но если происходит неожиданная ошибка, всё внимание дирижера обращается на артиста, попавшего в трудную ситуацию. Это удивительно интимные моменты, которые приносят массу удовлетворения. Не произнося ни слова, находясь далеко от сцены, маэстро воздействует на ситуацию и уверенно возвращает артиста в строй.
Но порой дирижеру бывают нужны сверхчеловеческие силы, чтобы свести всех вместе, — и ни один курс дирижирования не подготовит вас к таким моментам. Они возникают безо всякого предупреждения и ставят выступление под угрозу. В 1973 году, когда я дирижировал «Святую с Бликер-стрит» Джанкарло Менотти в национальном парке сценических искусств «Вулф-Трэп» — а это была моя первая опера, — произошла именно такая вещь. Ближе к концу первого акта группа певцов и музыкантов вступает с гимном за кулисами, а потом медленно выходит на сцену, где в этот момент поют солисты. Дирижер показывает знак группе, глядя на телеэкран, а ассистент дирижера передает ей ритм. Выйдя на сцену, музыканты переводят внимание на дирижера в оркестровой яме.
В тот вечер, когда в зале к тому же присутствовал композитор, ассистент дирижера не увидел моего сигнала, потому что перед экраном стоял артист миманса. Запаниковав, он вступил с ансамблем и певцами на такт позже. Конечно, он не мог слышать, что происходило на сцене, поскольку инструменты и певцы под его началом были очень громкими.
Когда процессия оказалась на сцене и я это услышал, то понял, что появившаяся группа отстает на такт и что мы не сможем продолжать до конца акта, если две главные силы — ансамбль с хором на сцене и солисты с оркестром — будут оставаться в разных местах. Мне следовало действовать быстро и учесть все возможности. Я продолжал дирижировать, а какая-то часть мозга «перематывала» остаток акта вперед, чтобы взвесить варианты. Оказалось, что вариантов нет; представление могло спасти только что-то неожиданное.
Я повернулся к женщине-концертмейстеру и сказал: «Надо добавить такт». — «Что?» — спросила она. Тогда я повторил громче: «Надо добавить такт!» Затем я повернулся к деревянным и медным духовым, которые сидели справа от меня, и, продолжая показывать ритм струнным (они были слева), мощным жестом вытянул правую руку, как это делают регулировщики движения. Рука двигалась, как будто я останавливал фуру. Так я задержал духовые на четыре доли, пока струнные и ансамбль на сцене продолжали играть. Потом я повернулся к струнным и повторил этот жест: деревянные и медные духовые, которые теперь были синхронизированы со сценой, продолжали играть, а струнные остановились на четыре доли. За двенадцать секунд все оказались в одном месте, и так мы закончили первый акт. Я вышел измученным и словно в тумане, переоделся в сухую рубашку и приготовился спуститься в яму ко второму акту. Это было моим настоящим профессиональным дебютом. Так я стал дирижером.
Если сравнивать публику с менеджерами, друзьями, коллегами и близкими, она кажется искреннее всех. Она не скрывает своих истинных чувств, и не только в конце выступления. Так же, как оркестр и солисты, публика — наш партнер. Удовлетворить ее — конечная цель работы, которую мы делаем со всеми выступающими музыкантами. Мы, дирижеры, становимся проводниками от источника — музыки — к людям, которые, как мы надеемся, примут и поймут произведение, а в идеале станут участниками исполнения. Одно дело, когда непонятый или непринятый композитор говорит о своей музыке: «Мое время еще придет». Этот подход совершенно не работает в случае дирижера. Мы или добиваемся своих целей прямо сейчас, или терпим неудачу. Мы переводчики, а не авторы. Но между работой переводчика, скажем, «Одиссеи» и дирижера Девятой симфонии Бетховена есть разница: желающим прочесть «Одиссею» доступно много переводов, а Девятая симфония существует, только когда ее исполняют (о записях мы поговорим отдельно).
Дирижер чувствует аудиторию еще до того, как выходит на сцену или спускается в оркестровую яму. Энергия в помещении — рассеянность, концентрация, сонливость, нетрезвость, предвкушение или отсутствие всяких эмоций — ощущается из-за кулис. Есть причины, если это, конечно, подходящее слово, почему зрители испытывают возбуждение перед выступлением. Когда должно произойти нечто особенное и долгожданное, публика об этом знает, и все присутствующие подпитываются предвкушением. Интересно, что порой само выступление как будто имеет второстепенное значение — становится просто подкреплением для коллективной энергии, которая появляется раньше, чем зазвучит музыка, сохраняется во время выступления и остается в умах и сердцах после него — а порой даже увеличивается в последующие годы. Все, кто посетил прощальные концерты Марии Каллас с тенором Джузеппе Ди Стефано, прекрасно знают, что я имею в виду.
К 1974 году Каллас была уже почти не Каллас, ее диапазон уменьшился, вибрато в верхнем регистре превратилось в дрожание, а звук стал мутным и закрытым. Но время от времени что-то прорывалось: вспышка пламени в ее глазах, трогательный жест, безупречная фраза, — и пробуждались воспоминания о временах, когда она была великой (а ее зрители — молодыми). Уважение, печаль, ощущение смертности, любопытство и желание остановить неизбежное подпитывали эмоции публики во время выступлений и каждый вечер поддерживали Каллас на плаву. Порой казалось, что публика отдает ей все свои силы, чтобы она могла продолжать, и, вероятно, так оно и происходило.
Дирижеры обычно не получают такого жаркого преклонения. Фанаты порой бывают у только что открытого молодого и страстного дарования. Мало кто хочет обзавестись фан-клубом, однако это можно организовать с помощью маркетинга и пиара. В классической музыке очень мало суперзвезд, и из-за ее «серьезной» природы фан-клубы дирижеров кажутся несколько неуместными. В целом считается, что наша жизнь не соприкасается с обыденной реальностью.
Хотя Тосканини понимал, что такое имидж и маркетинг, тщательно следил за своей внешностью («Он выглядел как фарфоровая кукла», — сказала о нем однажды моя тетя Роуз) и появлялся на телеэкранах, он открыто насмехался над Стоковским (называя его «il Pagliaccio» — «клоун») за то, что тот удешевляет образ дирижера, снимаясь в кино. Тосканини явно считал, что телевидение и радио отвечают хорошему вкусу, а кино — нет.
Караян всегда репетировал в черной водолазке. Приподнятые гелем серебристые волосы придавали ему вид человека, стоящего лицом к ветру. Родни Гринберг, который был режиссером прямой трансляции Девятой симфонии Бетховена из Белинской филармонии 1 января 1978 года, написал: «Из мероприятия с Караяном мне запомнился тот факт, что по расписанию он уже стоял на подиуме за час до начала трансляции, и режиссер по свету устанавливал лампы под нужными углами, чтобы как можно точнее и выгоднее осветить его лицо. Мне неизвестен ни один другой дирижер, который лично заказывал бы такой ритуал»[31].
Сегодня, когда отделы маркетинга разрослись, миллионы долларов оркестровых бюджетов и усилия маркетологов направлены на подогревание интереса публики к дирижерам американских симфонических оркестров. Раньше его разжигали звукозаписывающие компании и личные пиар-менеджеры. Многих дирижеров открывают, когда им еще нет тридцати, и если они попадают в эту машину, то видят свои лица на обложках журналов, оказываются в кресле рядом с ведущим вечернего ток-шоу и дают интервью в немузыкальных журналах. The New York Times спрашивала на обложке воскресного приложения о Майкле Тилсоне-Томасе: «Новый Бернстайн?» Майклу также пришлось отвечать на вопросы обычно хорошо информированного Дика Каветта о «Бостонском филармоническом» и «Нью-Йоркском симфоническом» (имелись в виду Бостонский симфонический и Нью-Йоркский филармонический оркестры), а также на вопросы о музыке Гайдна, фамилию которого Каветт произнес неправильно. Если бы ведущий сделал такие ошибки, разговаривая с популярным спортсменом, его шоу, возможно, закрыли бы на следующее утро. Майкл выдержал раннюю славу, возникшую благодаря его несомненному таланту и успехам, и завороженное отношение публики на него не повлияло. Иные не могут пережить такие вещи без ущерба, и, поскольку, как я уже говорил, карьера дирижера продолжается всю жизнь, опасности ранней славы похожи на те, что грозят детям-актерам.
Поклонники, равно как и оркестры, могут быть верными или непостоянными. Вкусы меняются, а мода порой становится жестокой судьей. Как же дирижеру в этой буре непостоянных вкусов и жажды нового исполнять неизменный репертуар с редкими вкраплениями премьер, при том что наше искусство всегда было чуждо дискриминации по возрасту, а во многих случаях возраст воспринимается как синоним опыта и мудрости? Кого мы хотим увидеть в роли дирижера «Фальстафа»: молодого выскочку или кого-то, кто ближе по возрасту к Верди, когда тот сочинил оперу (это случилось, когда ему было семьдесят девять)? Великий британский актер Энтони Хопкинс замечал, что, играя короля Лира на сцене, чувствовал себя слишком молодым. «Ирония здесь заключается в том, что, когда ты достаточно стар, чтобы играть эти роли, ты уже слишком стар!»[32]
Опыт прекрасного выступления делает зрителей равными партнерами исполнителей. Когда аудитория становится единым целым, она, подобно оркестру, приобретает силу племени. Если эта объединенная сила враждебна к вам, порой бывает очень страшно. В 1964 году зрители на представлении «Бала-маскарада» Верди в Парме были настроены настолько недружелюбно, что об этом сообщил журнал Time, — в частности, потому, что американский баритон Корнелл Макнил подошел к краю сцены и прокричал разбушевавшейся толпе: «Enough, you cretins!»[33]
В апреле 1985 года я приехал в Милан, чтобы дирижировать четырьмя представлениями «Турандот». На половине пути состав исполнителей должен был серьезно поменяться: вместо звезд планировались менее известные артисты. Однако всё перевернулось, когда мы узнали, что на третий спектакль должны прийти принц Чарльз и принцесса Диана, причем не как частные лица, а как принц и принцесса Уэльские: это был первый официальный визит представителей британской монархии в «Ла Скала».
Звезды решили петь на первом представлении, а потом на третьем — хотя это не планировалось — и пропустить второе, чтобы отдохнули голоса. В «Ла Скала», конечно же, хотели произвести на принца и принцессу наилучшее впечатление, потому согласились на новый план. Но встала проблема найти кого-то — всё равно кого — для второго представления. Артисты, с которыми заключили договор на третий и четвертый спектакли, не согласились отказаться от третьего и выступить во втором, восприняв это как унижение. Однако они разрешили «Ла Скала» заплатить им за пропущенный третий вечер и собирались выступить в четвертый и последний раз.
Меня позвали на прослушивание сопрано для второго выступления. Она пела устрашающе трудную арию, которую я упоминал выше, и получалось не очень хорошо. Но Чезаре Мацонис, опытный и практичный художественный руководитель «Ла Скала», решил, что другой возможности нет. Он заверил, что зрители не будут протестовать, потому что он «позаботится о клаке».
Традиция иметь клаку восходит ко временам Римской империи, хотя само слово пришло из французского и подражает звуку аплодисментов: «Клак!» Клака — это группа людей, которым дают бесплатные билеты (а иногда платят деньги), чтобы они аплодировали артисту. Порой они освистывают выступление, если им не заплатили или если их перекупил конкурирующий артист. В «Ла Скала» поддерживали хорошие отношения с лидером клаки, и в тот вечер немало денег перешло из одного кармана в другой, чтобы вечер обошелся без скандала.
Когда я прибыл в театр перед вторым представлением, то обнаружил в camerino (гримерке дирижера) огромный букет цветов. Роскошный подарок сопровождался запиской, в которой говорилось: «Желаю вам отлично выступить. К сожалению, я буду за границей. Искренне ваш, Чезаре Мацонис».
Актер Зеро Мостел рассказал, что, когда он сидел без работы, продюсер Дэвид Меррик платил ему и другим безработным актерам, чтобы они смеялись и аплодировали на представлении «Свахи», создавая таким образом хорошее настроение у публики и способствуя долгой жизни спектакля. Нынешним телезрителям подсказывают, когда нужно смеяться, с помощью закадрового смеха. Людям нравится веселиться, а артистам нравится, когда им аплодируют. Средство работает. Но этично ли оно? Несколько лет назад Лос-Анджелесский филармонический оркестр решил не раздавать бесплатные билеты, что делалось для заполнения зала и создания иллюзии успеха. В результате заплатившие зрители сидели между пустых мест, и это так разрушительно повлияло на настрой оркестра, аудитории и всей организации, что совет директоров восстановил практику раздачи билетов — особенно когда на концерте ожидались важные критики.
Нужно ли устанавливать для классической музыки более высокие стандарты, чем для ситкомов или телевизионных игр? Казалось бы, ответ должен быть положительным, вот только зал, заполненный до отказа благодаря зрителям с бесплатными билетами, позволяет сохранять художественное видение организации — которая, по крайней мере в Америке, является частным предприятием. Также это означает, что прекрасный оркестр услышат люди, у которых может не быть другого шанса. У исполнителей классической музыки отношение к успеху у публики шизофреническое. С одной стороны, его считают занижением стандартов. С другой стороны, если молодые и заинтересованные зрители набиваются в залы, особенно когда исполняется трудная современная музыка, оркестры любят это подчеркивать. Противоречивое отношение к публике (кто они, люди в креслах, — зрители или фанаты?) переносится и на оценку дирижеров и репертуара, который те соглашаются исполнять. Однако не менее важно, что реакцией аудитории можно манипулировать с помощью факторов, не относящихся к собственно исполнению музыки.
Дирижер одного европейского оркестра недавно рассказал, что президент государственного комитета по искусству пообещал выделять его оркестру по миллиону евро в год в течение пяти лет, если оркестр сосредоточится на современных произведениях региональных композиторов. Под «современными» президент комитета, тоже композитор, подразумевал атональные произведения. Дирижер ответил, что если сделает это, то потеряет зрителей, на что чиновник ответил: «Ну и хорошо, ведь тогда потребность в государственной поддержке будет оправдана».
Легендарный румынский дирижер и преподаватель Серджу Челибидаке (1912–1996) отказывался выпускать записи своих выступлений, потому что без участия аудитории у него не было надежды передать трансцендентальность, которой требует и заслуживает музыка. Он считал запись просто фиксацией нот. Только после его смерти были выпущены диски с живыми выступлениями, но без участия сообщества зрителей его манера кажется странно преувеличенной, а техника не впечатляет. Однако те, кто побывал на его концертах, запомнили это на всю жизнь.
Когда публика встает на сторону артистов, получается то, что называют «прекрасное исполнение». Все элементы ритуала оказываются в гармонии, и за всё время представления не может возникнуть ни единой неверной ноты. В первые годы с Йельским симфоническим оркестром — абсолютно добровольным ансамблем студентов, большинство из которых не специализировались на музыке, — я знал, что ни один из оркестрантов не смог бы выйти на сцену университетского концертного зала и верно сыграть свою партию в Симфонии № 3 Малера. Но в окружении коллег, которые так же боролись со своими партиями и вкладывались в каждую извлекаемую ноту, а равно и в ноты остальных, благодаря коллективной силе воли двух тысяч трехсот однокашников в зрительном зале они прекрасно передали всеобъемлющий гений и намерения Малера, словно спортсмены, получившие энергию от фанатов.
В контексте живого выступления нет такой вещи, как ошибка. Все выступают и держатся вместе. Да, кто-то может пропустить ноту, кашлянуть или внезапно пискнуть инструментом. Но двери аудитории закрыты и опечатаны сознанием племени. Создана новая вселенная, и никто не может помешать титанической силе оркестра, особенно если к нему присоединились слушатели.
Это первобытное празднество, на которое мы надеемся: мы представляем великое произведение невидимого искусства — музыку, и дирижер действует как громоотвод для энергии, переходящей от тех, кто производит звуки, к тем, кто их слушает. Публика — важнейший элемент. Без нее музыка становится инертной, а с ней реализует смысл своего существования.
«Не представляю, как человек способен отрезать себе голову», — говорит Ко-Ко, главный палач в опере Гилберта и Салливана «Микадо». «Можно попытаться», — утверждает всегда услужливый Пу-Ба. Этот эпизод неизбежно приходит на ум художнику, когда он размышляет о критиках и исследует свои отношения с ними. Мой бывший менеджер однажды посоветовал: «Никогда не пытайтесь переплюнуть критика. Точно окажетесь оплеванным». И всё же, поскольку наша репутация настолько зависит от напечатанных отзывов, а отзывы сильно влияют на повторные предложения работы, на ожидания публики и даже на наше собственное отношение к своему делу, я хочу поговорить об этом щепетильном вопросе.
Если коротко, то хорошие рецензии улучшают вам настроение, а плохие портят его. Рецензии — это прежде всего эмоциональные реакции, выраженные в умных терминах с целью создать ощущение объективности и заслужить авторитет благодаря подразумеваемому превосходству. Что бы мы ни говорили о музыке, эффект, который она производит, неизбежно воздействует на эмоции. Критики — это профессиональные представители аудитории, которые любят музыку, умеют хорошо писать, не платят за билеты и получают деньги за тексты о музыке и об ее исполнении. Они живут за наш счет так же, как мы живем за счет музыки, написанной другими людьми.
Столько артистов уже выступало против критиков — с тех самых пор, как люди начали писать об этом эфемерном предмете, исполнении музыки, — что практически нельзя противопоставить их мнению что-либо конкретное. Возможно, важнее будет обсудить, почему дирижера так расстраивает плохой отзыв на его работу и почему хороший отзыв порой кажется бесцеремонным.
«Людям нужна авторитетная фигура, которая указывала бы им, как оценивать вещи, но они выбирают ее не на основе фактов или результатов. Просто она кажется авторитетной или знакомой». Это цитата из фильма «Игра на понижение» 2015 года, которая в какой-то мере отвечает на вопрос, почему у нас есть критики и комментаторы — в политике, спорте и искусстве.
Дирижер, в конце концов, тоже критик. Мы делаем все те вещи, для которых у критиков нет времени или расположения. Мы подолгу изучаем абсолютно каждое произведение. Многие из нас читают всё, что только можно, о композиторе, его эпохе и условиях, в которых он сочинял музыку. Всю жизнь мы осваиваем приемы анализа, которые открывают нам устройство и разные уровни информации, скрытые в конструкции музыки и украшающие ее внешние проявления. Потом мы репетируем с живыми людьми, побуждая их показать себя с лучшей стороны, находим баланс между историей и ощущением современности, а еще принимаем важнейшие решения — решения, которых ожидает от нас композитор, чтобы мы могли представить живое воплощение его намерений. Каждый композитор понимает: сама идея создания музыки подразумевает ее неизбежную интерпретацию.
Когда человек, не проделавший всю вышеупомянутую работу, оценивает наше «критическое издание» музыки в форме живого выступления — иными словами, наше исполнение, — это, честно говоря, раздражает. Если критики пишут что-то негативное — «слишком быстро», «слишком медленно», «слишком свободно», «слишком жестко», — это, конечно, кажется нам настоящей агрессией, ведь разве они разбираются в материале лучше нашего? Как отдельные представители аудитории они не менее важны для нас, чем все остальные. Однако у них есть то, чего нет у остальных, — высокая трибуна, с которой громко звучит любое мнение. Когда дирижер начинает учиться, ему не рассказывают, что — если он не обделен способностями и возможностями выступать — его станет судить незнакомец, который в целом знает значительно меньше и чьи слова прочтет гораздо больше людей, чем придет на выступление.
После исполнения «Аиды» в «Голливудской чаше» критик Los Angeles Times написал разгромную рецензию. Газета получила много писем от несогласных читателей, и редакторы решили, что нужно опубликовать хотя бы одно. Но при этом они хотели соблюсти баланс и показать еще и письмо, где поддерживалось бы мнение критика. Такого не нашлось, и тогда они опубликовали отклик женщины, которая радовалась, что не посетила концерт, — с учетом прочитанного в газете.
Когда внештатный критик The New York Times рецензировал несколько записей Эриха Вольфганга Корнгольда, он проигнорировал мою запись «Симфонической серенады» и использовал другую. Не важно, было ли это исполнение лучше нашего или нет, но, очевидно, критик не знал, что выбранный им дирижер записал коду второй части («Скерцо») вдвое медленнее, чем указал композитор. Однако это была музыкальная шутка («scherzo», в конце концов, и значит «шутка» в переводе с итальянского), а следовательно, дирижер совершил серьезную ошибку. И критик на нее не указал.
В той же рецензии он заявил, что «очаровательная» мелодия в первой части была украдена из «Танца часов» из «Джоконды» Понкьелли. На самом деле, за исключением двух интервалов из одиннадцати в первой фразе, мелодия в произведении Корнгольда не имеет абсолютно ничего общего с мелодией Понкьелли. Те же два интервала использовались, например, в «Балладе о Мэкки-ноже» и «Джонни из Сурабаи» Курта Вайля, а также в народной музыке и в бесчисленных произведениях начиная с эпохи Возрождения.
Ошибки критика остались незамеченными, потому что мало кто из читателей знал произведение Корнгольда (если вообще хоть кто-то знал), а редактор точно не имел о нем представления. Рецензия была написана в авторитетном тоне и хорошим языком. Ни один читатель не мог бы поспорить с ней, не имея нот или, в случае с якобы украденной мелодией, не обладая способностью отличить большую секунду от малой терции. Вот почему мы так возбуждаемся, когда нас судит и отвергает плохо подготовленный критик. Ведь апелляционного суда для таких случаев не существует.
Репутация дирижера строится из нескольких вещей, и общая картина, складывающаяся из рецензий, — ее важный компонент. Когда-то существовали тысячи газет со штатными музыкальными критиками, которые делали репортажи о выступлениях и оценивали их. Эти люди были отлично подкованы в музыкальной теории и в журналистике. За прошедшие полвека их число очень сильно сократилось, а те, кто остались, приобрели больше власти в качестве арбитров, хотя их начитанность и интерес уменьшились. Еще совсем недавно, во время моего дебюта в опере в 1983 году, мы получили семь рецензий в ежедневных лондонских газетах и семь — в воскресных.
Некоторые критики всегда считались более важными, чем остальные. Эдуард Ганслик из Вены был, вероятно, самым авторитетным музыкальным критиком во второй половине XIX века — настолько, что Вагнер использовал Ганслика в качестве прототипа для персонажа в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», подчеркнув его высокомерный антивагнеровский консерватизм. Композитор превратил своего главного критика в шута, в объект презрительного смеха, который звучит даже сегодня — сто с лишним лет спустя после того, как были опубликованы леденящие кровь рецензии.
После Ганслика критиком в Neue Freie Presse стал Юлиус Корнгольд. Это поставило его гениального сына Эриха в щекотливое положение. Сначала Юлиуса обвиняли в том, что он тайком пишет музыку за своего ребенка. Корнгольд-старший ответил, что если бы мог писать такую музыку, то не стал бы музыкальным критиком. Это усугубило незавидное положение его сына: тех, кто исполнял его музыку, обвиняли в заискивании перед Юлиусом, а те, кто не исполнял, испытывали на себе гнев Корнгольда-критика, что тоже вредило репутации Эриха как композитора. Конечно же, это максимально иронический пример отношений артиста и профессионального критика.
Вагнер ответил на плохие рецензии самым замечательным образом, но другие музыканты редко вступают в потасовку. Бернстайн сделал это лишь однажды, но потом пожалел, потому что таким образом он всё равно подкрепил авторитет критика. Пол Генри Ланг был главным музыкальным обозревателем в New York Herald Tribune с 1954 по 1964 год, — это десятилетие пришлось на время, когда Бернстайн работал музыкальным руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра. Как и Гарольд Шонберг в Times, Ланг относился к работам Бернстайна резко негативно.
В 1958 году Ланг написал рецензию на выступление Марии Каллас в Метрополитен-опере, которая очень разозлила Бернстайна, лично присутствовавшего на представлении. Ланг отметил, что Каллас пела с занижением, тогда как, по свидетельству Бернстайна, она, как и большинство великих певцов, чуть завышала. Публика редко жалуется на завышение, зато легко улавливает занижение и отвергает такое исполнение как неудовлетворительное. Бернстайн указал, что музыкальный критик, который не слышит разницы между занижением и завышением, вероятно, недостаточно подготовлен, чтобы оценивать музыку в целом, ведь она в принципе представляет собой серию нот, которые идут вверх или вниз. В результате репутация Ланга серьезно пострадала, но его не уволили.
Перед музыкальным критиком ежедневной газеты стоит сложнейшая, практически невыполнимая задача. Может ли он по-настоящему оценить выступление, если не знаком с музыкой заранее и в подробностях, не понимает ее, не анализировал ее — и идет на концерт без предварительной подготовки? А у какого журналиста есть на это время — особенно в условиях сжатых сроков?
Однажды я спросил у музыкального критика в Берлине, что он думает о своей функции. Он ответил: «Докладывать о происходящем». На деле же критик скорее описывает, что хотел бы наблюдать: что он любит и в каком виде он это любит. Так что музыкальная критика в каком-то смысле разновидность автобиографии.
Рецензия в The New York Times за 13 мая 2006 года — хороший пример этого явления. Дирижер Юн Стургордс дебютировал с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, и газета опубликовала подчеркнуто положительный отзыв о его работе, особенно отметив интерпретацию Второй симфонии Сибелиуса: «Мистер Стургордс подчеркнул прерывистость и дисгармоничные обороты в музыке, а также острые осколки диссонансов, которые Сибелиус вкладывает в обманчиво звучный гармонический язык». Другими словами, критик похвалил выступление, поскольку в нем подчеркнули модернистские и прогрессивные элементы, а не естественный и органический процесс, благодаря которому Сибелиус создал свою самую успешную и популярную симфонию.
Прерывистость была обозначена в качестве эстетического критерия в манифесте авангарда, созданном в начале XX века. В нем утверждается, что, как только публика принимает новую форму искусства, эта форма утрачивает ценность. Когда популярных композиторов вроде Сибелиуса, Брамса или Чайковского объявляют революционерами, их музыка становится приемлемой и уместной в общей концепции нескончаемого провокационного авангарда; эта идея и сейчас остается актуальной для большинства «серьезных» музыкальных критиков. Именно так они хотят слышать музыку XX века — подчеркивая ее дисгармоничные, диссонирующие элементы, и, возможно, таково и ваше желание. Нужно ли считать Сибелиуса продолжателем Чайковского — в чем его часто обвиняли, когда я был еще мальчиком, — или же он протомодернист, который изобразил отчуждение в быстро меняющемся XX столетии? Дирижер может подчеркнуть или то, или другое, или сразу обе эти стороны.
Порой критик указывает на ошибки своих известных коллег из прошлого. Но в целом, если нужно процитировать чужие выводы, как правило, их берут у людей с похожими взглядами и получают предположительно объективный и авторитетный способ подтвердить собственную точку зрения и собственные выводы. Всем, кто оценивает эти выводы, приходится крайне сложно, потому что сегодня их предлагает очень мало авторов. Кроме того, у всех этих авторов, кажется, одинаковый подход, выведенный из политических и эстетических споров о том, как характеризовать классическую музыку в XX веке. Мы редко читаем, если вообще читаем, мнение критиков, оставшихся в меньшинстве, но представляющих немалую часть — возможно, большинство — слушателей, которых интересует классическая музыка. Такого никогда не случилось бы с редакционными статьями о политике, спорте или о других, более осязаемых, формах искусства.
Картины постоянно оцениваются и переоцениваются. То, что когда-то называли китчем, внезапно воспринимается как нечто великое. Абсолютно неизвестные художники получают признание в ретроспективе, а публика (и критики) приходят к интересным и нетрадиционным выводам. Музыка не может подвергнуться такому здоровому переосмыслению, если ее не играть. Симфонию не повесишь на стену. Выступления исчезают через полсекунды после завершения. Кто будет спорить с опубликованным отзывом о работе, которая только что растворилась в воздухе?
Любой дирижер, который выступает в пользу музыки, вышедшей из моды, как это сделал Пауль Хиндемит с добарочными композиторами, преподавая в Йеле (в 1940–1953 годах), или как это делает Риккардо Мути с итальянской симфонической музыкой начала XX века, будучи музыкальным руководителем Чикагского симфонического оркестра, должен заручиться чьим-либо покровительством, поскольку публика сторонится новых и неизвестных вещей, а администрации концертных залов надо продавать билеты. Критиков тоже нужно просвещать, и порой личное участие дирижера может запустить переоценку того или иного композитора. Когда Мути узнал, что The New York Times будет освещать один из его концертов в Чикаго, он лично пригласил главного музыкального критика Энтони Томмасини пройти за кулисы и обсудить композитора Джузеппе Мартуччи (1856–1909), чью музыку он только что исполнил. Убедительный дирижер может очаровать и просветить сочувствующего и заинтересованного критика, так что и Мартуччи, и Мути получили теплый прием на страницах этой авторитетнейшей американской газеты 2 октября 2016 года. (Статья вышла под заголовком «Риккардо Мути не скрывает страсти к недооцененным итальянским композиторам».)
Я тоже однажды написал объяснение с целью подготовить публику и критику к тому, что разнообразные отклонения в интерпретации нотного текста сознательны и основываются как на исследованиях, так и на интуитивных находках. В 1985 году в Английской национальной опере восстанавливали «Риголетто» в постановке Джонатана Миллера, и я воспользовался свежим критическим изданием нот Верди, подготовленным Мартином Чусидом и выпущенным издательством Чикагского университета совместно со знаменитым итальянским музыкальным издательством Casa Ricordi.
Как и большинство любителей музыки, я вырос на «Риголетто». Конечно же, я слышал то, что мы называем «традиционными» представлениями, но стоит сказать, что известные традиции сложились в эпоху звукозаписи. Получается, наши ожидания основаны на интерпретациях, которые появились в 1930-х годах, а не в 1851-м, когда Верди сочинил оперу. В новом издании всё выглядело так, как в известном мне «Риголетто», за исключением обозначений темпа по метроному. Во многих местах музыка была помечена как более медленная или более быстрая, чем всё, что я слышал раньше.
Чусид объяснил, что такие пометки сделал Верди, — масса документов подтверждает, что Верди буквально настаивал на их важности, — и предположил мне попробовать их использовать. Я боялся, потому что я возвращался в Лондон, где уже не раз выступал с успехом у публики и критиков. Это не была новая постановка с сопутствующими фанфарами со стороны прессы, и в день первого представления симпозиума не планировалось. Более того, единственное, что отличало этот сезон от предыдущих, — только что вышедшая партитура, которую я вез с собой в самолете.
Из этой партитуры следовали вещи, изменившие восприятие Верди для некоторых людей. Числа, описывающие темп, выстроены на архитектурный манер. Темп, завершающий первый акт, совпадает с темпом, открывающим второй акт, — словно с намерением вернуться к истории на том месте, где она закончилась. Он не встречается нигде более, кроме этого объединяющего момента. Также в партитуре есть повторяющийся темп в шестьдесят три удара в минуту, в котором начинается первый акт первой сцены — а потом первый акт второй сцены. Этот же темп возвращается в важных структурных точках, показывая, что опера похожа на здание, возведенное Верди из блоков времени. Однако это не традиционные темпы, привычные для меня и всей остальной публики.
Я прибыл в Лондон с карманным метрономом и большую часть репетиционного периода говорил вещи вроде: «Прекрасно. Но, знаете, Верди предлагал делать это гораздо медленнее». Английские певцы шли мне навстречу и проявляли интерес. В каждом отдельном случае они обнаруживали, что их роли легче петь в темпах, предложенных Верди, и медленно, но верно восстановили задуманное композитором.
Когда я попросил включить примечание дирижера в программку Английской национальной оперы, музыкальный руководитель Марк Элдер в итоге понял, что это будет интересно публике и критикам.
Лондонские критики, подготовленные напечатанным объяснением, признали первое представление «Риголетто» успешным, а также подчеркнули важное открытие, которое должно было привести к дальнейшим исследованиям и новым откровениям. Однако продолжение истории во многом говорит об эфемерной природе живого выступления. На следующий год спектакль дирижировал другой маэстро. В положительной рецензии одной из лондонских газет его темпы назвали «домосерийскими». Когда я привез Верди на летний оперный фестиваль в Мачерате, в местной газете вышла статья с крайне показательным заголовком: «„Риголетто“ в Мачерате. Но куда делся Верди?»
Наше исполнение «Риголетто» звучало не так, как в записи у критика. Не помог делу и тот факт, что многие критики считают изменения темпа законным правом дирижера на интерпретацию и не обсуждают их в контексте необходимости «делать что написано». Если в произведении меняются ритмический рисунок или ноты, обычно это вызывает всеобщее осуждение, но пренебрежение к конкретным указаниям темпа, как ни странно, считается абсолютно нормальным. Более того, упоминание метронома считается чем-то немузыкальным, даже когда это важнейший элемент в конструкции произведения.
Открытка с пожеланиями удачи от артиста Английской национальной оперы, подаренная мне перед лондонской премьерой «Риголетто», в критическом издании 11 января 1985 года
Мы, дирижеры, как я пытался показать выше, имеем возможность подчеркнуть лишь определенные аспекты в произведении. Как только мы поняли, что именно хотим продемонстрировать, другие решения прочих дирижеров обычно вызывают критику с нашей стороны. Если я полагаю, что Верди построил конструкцию «Травиаты» — и в целом, и в отдельных моментах — на одной теме, которая впервые появляется в прелюдии и спускается на шесть нот, постепенно становясь тише (диминуэндо), а потом Риккардо Мути добавляет гигантское крещендо, когда тема появляется в середине второго акта, это ставит меня в тупик. Тот же момент в прелюдии у Георга Шолти звучит сначала в крещендо, а потом в диминуэндо, хотя Верди ясно указывает, что это щемящее, сладостное движение к тишине, и я качаю головой в недоумении. Как может такой великий дирижер так невероятно «ошибаться»? Почему он игнорирует ясные указания композитора? Очевидно, что важные — более того, главные — для меня вещи не имели такого значения ни для моих коллег, ни для критиков, которые нашли в их интерпретациях массу поводов для восхищения.
Хотя порой соблазнительно видеть в критиках врагов, это и неверно, и неполезно. Однако если местный критик ставит себе задачу постоянно нападать на музыкального руководителя местного симфонического оркестра или оперной труппы, этой организации становится всё труднее и труднее функционировать. Одни критики в не самых больших городах порой действуют как болельщики оркестров и трупп, в то время как другие стараются показать, что обладают знаниями мирового уровня, ненавидят тот факт, что не живут в крупном городе, и ставят под вопрос репутацию любого дирижера, который соглашается у них выступать: «Если вы так хороши, тогда что вы делаете здесь?» Когда я прочел, что «Сила судьбы» Верди в моем исполнении в Глазго крайне разочаровала критика, в то время как та же опера была моим лондонским дебютом несколько лет назад и получила четырнадцать в высшей степени положительных отзывов, мне словно плеснули в лицо холодной водой. Но, как говорится, если веришь хорошим отзывам, надо верить и плохим.
В тех странах, где государственная поддержка искусств — обычное явление, а СМИ реализуют политику гласности, музыкальная критика порой может быть оружием в политической борьбе. В Турине, где я оказался первым (и на момент, когда я пишу эти строки, последним) американцем на посту музыкального руководителя оперного театра, я часто мог определить политическое кредо издания по тому, как описывались мои выступления. Коммунистическая газета La Repubblica никогда не была обо мне высокого мнения, в то время как для христианско-демократической La Stampa я всегда выступал великолепно, — ну, вы понимаете, о чем речь. («Одна хорошая, одна плохая и одна посередине, — так мой ассистент Марчелло Сиротти охарактеризовал рецензии в газетах на нашу „Мадам Баттерфляй“. — Выбирайте какую хотите!»)
В самом начале карьеры я дирижировал новой постановкой оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в оперном театре Санта-Фе. Критик из Альбукерке решил, что он слышал самое медленное исполнение этой вещи, с каким сталкивался в своей жизни. В то же время критик из Сан-Франциско счел его самым быстрым в своей жизни, а через месяц, когда вышел новый номер Opera News, выяснилось, что «безупречные темпы Джона Мосери пошли на пользу постановке». Конечно, каждый критик был прав.
Трудно определить, почему некоторые блестящие дирижеры становятся мишенями для критиков, а другие — их любимцами. Почему Зубина Мету сочли «дирижером-джетсеттером», а Валерия Гергиева — «миссионером», который путешествует по всему миру, бескорыстно разнося музыку повсюду? Мета однажды сказал, что любит летать, потому что в самолете никогда не звонит телефон и можно изучать партитуры в тишине. Это вполне разумное утверждение почему-то преследовало его до последних дней в качестве музыкального руководителя Нью-Йоркского филармонического оркестра и по какой-то причине обеспечило ему клеймо несерьезного дирижера. Возможно, это было связано с его успехом в Лос-Анджелесе («городе мишуры») до приезда в Нью-Йорк и с его замечанием о том, что Лос-Анджелесский филармонический оркестр лучше Нью-Йоркского, которое он сделал, будучи приглашенным дирижером. В любом случае, авторитетные критики Восточного побережья решили, что Зубин — поверхностный музыкант, склонный к дешевым эффектам. В то же время они оценили Гергиева как глубокомысленного патриарха искусства. В некрологе Курта Мазура в The New York Times Маргалит Фокс написала, что Мета стал причиной «упадка в художественном плане», постигшего Нью-Йоркский филармонический оркестр, и «воспринимался как источник показного блеска, пришедшего на смену глубокому музыкальному смыслу». И всё же в Милане в 2016 году Мету высоко оценили за «вдохновенное и глубокое» исполнение «Кавалера розы» Штрауса.
Порой дирижер получает только положительные отзывы. Это иногда случается в конце длинной карьеры, но бывает и с самого начала, как в случае с Густаво Дудамелем. Исключительно положительные отношения с Томмасини, возможно, определили тот факт, что выступления Джеймса Ливайна всегда оцениваются по особой шкале. Ливайн получал исключительно прекрасные упоминания в Times, даже когда не дирижировал, например после выступления струнного квартета из оркестрантов Метрополитен-оперы 15 декабря 2015 года. Тот же критик придерживался противоположного мнения о поздних работах Лорина Маазеля, который вроде бы только и делал, что ошибался, пока был музыкальным руководителем Нью-Йоркского филармонического.
Мне кажется, это значит, что в выступлениях Ливайна естественно проявляется ощущение направления вкупе с наивысшим стандартом технической точности, и, очевидно, именно такую музыку любит Томмасини. Маазель же растягивает темпы и «вставляет себя» в произведение, что раздражает критика. Но что бы ни писали о двух этих людях, они — величайшие дирижеры своей эпохи.
В плохой рецензии есть элемент публичного унижения. Двадцать четыре часа вы чувствуете себя так, словно стоите у позорного столба, а все прохожие осуждающе цокают языком. «Неоднозначную» рецензию Мартина Бернхаймера после моего профессионального дебюта с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, как выяснилось позже, повесили на доску объявлений в нотной библиотеке Йельского университета — на всеобщее обозрение. Через несколько лет я беседовал о Бернхаймере с Майклом Тилсоном-Томасом, и он сказал, что читал эту рецензию. «Мне прислала ее мама», — сообщил он. Нет абсолютно никакого способа скрыться от плохой рецензии. Дуглас Адамс верно заметил в романе «Автостопом по галактике»: «Ничто не движется со скоростью, превышающей скорость света, кроме плохих новостей, которые подчиняются особым законам».
Критики способны подорвать нашу уверенность. Это можно наблюдать на примере композиторов, которые, получив уничижительные рецензии, прекращали сочинять. Так вышло с Сэмюэлом Барбером после массовой взбучки, которую он получил за «Антония и Клеопатру» в 1966 году, с Коулом Портером после того, как он написал «Аладдина» для телевидения в 1958-м, и с Леонардом Бернстайном после «Тихого места» в 1983-м. Дирижер так же раним, и отсутствие уверенности — вирус, который всегда тайно бродит у него в крови. Как однажды сказал Тилсон-Томас: «Никто не знает, как ты плох, лучше, чем ты сам».
Прямо перед моим дебютом в Метрополитен-опере в 1976 году ее оркестр угрожал забастовкой. Это означало, что я готовил оперу и дирижировал на открытой генеральной репетиции, не зная, стану ли выступать по-настоящему. После мне сообщили, что ведущий WQX — авторитетной классической радиостанции Нью-Йорка — был на репетиции и сказал в эфире, что не знает дирижера, но считает, что «родилась звезда».
Театр решил проблемы с профсоюзом, и спустя два вечера я дебютировал. Моя семья сидела в зрительном зале. Для внука четырех иммигрантов, один из которых дирижировал оркестрами в отелях и преподавал игру на скрипке, было огромной честью выступать в Метрополитен-опере.
Первая рецензия появилась в New York Post на следующий день. Я не стал ее читать, но позвонил своему менеджеру и спросил, положительная ли она. «Нет», — ответил он. Тем вечером на фуршете я был воплощенным хладнокровием, отвечая на вопрос, как всё прошло: «Хорошо, но, насколько я знаю, [критика New York Post] Гарриет Джонсон это волнует». — «Да, — ответили мне, — а каков заголовок!» Я улыбнулся, мы с женой посмотрели друг на друга и проговорили одними губами: «Заголовок!»
Первое представление «Фиделио» в Метрополитен-опере в Нью-Йорке 2 января 1976 года — мой дебют в этом театре. Слева направо: Джон Макерди, Джудит Блеген, я, Гвинет Джонс, Джесс Томас, Дональд Макинтайр и Джеймс Моррис
Родители никогда не рассказывали мне, как они, их соседи и друзья, а также мои учителя чувствовали себя в этот момент моей жизни: восторженная публика, любезность Гвинет Джонс и тенора Джесса Томаса, поддержка великого немецкого режиссера Отто Шенка («Я ставил „Фиделио“ с Бернстайном и Бёмом, но совсем по ним не скучаю!») — и всё это описывалось как провал. В рецензии говорилось, что представление было прекрасным, несмотря на дирижера (если вы прочли всё, написанное выше, то знаете, что это просто невозможно). Другие рецензии оказались положительными, и по крайней мере одна — вдумчивой. Лишь годы спустя я набрался мужества и прочел рецензию в New York Post. Каким же был заголовок? «Бетховен выжил, несмотря на Мосери».
Необходимость спуститься в оркестровую яму театра, в который я ходил со дня его открытия в 1966 году, и знать, что многие в аудитории были «осведомлены» о моей негодности, давила на меня. В том сезоне мне предстояло провести еще десять спектаклей. Все билеты были проданы, и каждое представление завершалось овацией. Иногда овация начиналась в середине второго акта, после увертюры «Леонора» № 3, которая была вставлена в спектакль. Благодаря этому я, конечно, снова чувствовал себя компетентным. Но каждый раз, сняв фрак и переодевшись, я знал, что через несколько дней придется начать сначала с тем же сосущим ощущением ужаса.
Гарриет Джонсон полагала, что у нее есть обо мне инсайдерская информация. Ее источники решили, что я был любовником Леонарда Бернстайна и именно поэтому дирижировал «Фиделио» в «Метрополитен». Веря в это, она исполнилась решимости наказать меня и всех, кто был замешан в отвратительном секрете. В те дни, если в рецензии что-то говорилось о моих волосах, я знал, что у меня проблемы. Она называла меня «Адонисом с тициановскими волосами». И если Бетховен выжил, несмотря на Мосери, то стоит сказать, что Мосери выжил, несмотря на Джонсон, но едва-едва.
Джонсон написала неправду не только об этом, но критики, как я уже говорил, обычно судят исполнение с точки зрения ожиданий, которыми, как и публикой, можно манипулировать. Уникальные черты в том, что они на самом деле слышат в противоположность ожиданиям, могут восприниматься как откровение, любопытный факт или некомпетентность. Оценка интерпретации сильно зависит от моды, как и всё остальное. Оратория «Мессия» в версии сэра Томаса Бичема с оркестровкой Юджина Гуссенса, гигантской хоровой мощью и оперными солистами показалась бы сегодняшним критикам неприемлемой. И наверное, сейчас было бы трудно получить хорошие рецензии для сильно сокращенной «Медеи» Керубини, с которой Каллас и Бернстайн выступили в 1953 году.
Ясность, отсутствие эмоциональности, сила интеллекта и способность дирижировать сложную современную музыку — даже если произведение появилось еще до концепции «современного» — были критериями для оценки дирижеров в конце XX века, но сохраняются и теперь. Игорь Стравинский лучше всего показал, что представляет собой такая интерпретация музыки и ее функций, когда в 1960 году заявил, что его балет «Весна священная», написанный в 1913 году, не является описательной симфонической поэмой. В послевоенный период в Западной Европе и в американских университетах хорошей считалась музыка ни о чем. Ценилась просто музыка, что создавало неудобства для стареющего Стравинского, который всегда хотел быть впереди авангарда, а вдруг оказался композитором, чья слава основывалась на работе с конкретным названием и сценарием, повествующим о поведении доисторического племени, умыкании жен и ритуальном танце обреченной на смерть девственницы в форме коронации богини весны.
Стравинский решил эту проблему, заявив, что его произведение не то, чем оно является на самом деле. Он настаивал на негибкости в исполнении, которая делала вещь почти механически отстраненной, и этим подтверждал ее непреходящую ценность. Так в 1960 году «Весна священная» сделалась одновременно значимым музыкальным эквивалентом нерепрезентативного искусства и ранним предшественником современной музыки. Неудивительно, что критики, поверившие в такую концепцию исполнения, также поддерживали дирижеров, которые пошли по этому пути в интерпретации даже более старых произведений. Отдельные отщепенцы предположили, что исполнение барочной и ранней романтической музыки без вибрато, которое так расхваливали во второй половине XX века, было скорее применением того же эстетического принципа к прошлому, в результате чего даже крайне описательные вещи типа «Времен года» Вивальди звучали отстраненно и стерильно. Благодаря такому подходу идеальным интерпретатором «Весны священной» стал Пьер Булез, представитель плеяды молодых послевоенных музыкантов, вдохновленных теми же ненарративными — может быть, даже некинематографическими? — интерпретациями, которые предложили Эса-Пекка Салонен и Дэвид Робертсон (оба — последователи Булеза).
Непрограммная интерпретация музыки, написанной до XX века, достигла иронической кульминации, когда ее применили к самому протокинематографическому композитору всех времен — Рихарду Вагнеру, которого критики при жизни обвиняли в том, что он сочиняет скорее пейзажи, чем музыку. Когда два внука Вагнера, Виланд и Вольфганг, вновь открыли Байройтский фестиваль в начале 1950-х годов, они отказались от концепции оформления сцены, которую Вагнер создал для своих опер. Нарисованного леса не стало. И что еще важнее, постановку Вагнера и специфические движения, совпадавшие с его музыкой, тоже в целом упразднили, от чего оперы стали менее конкретными в плане времени и физической синхронизации.
Декорации Макса Брукнера для первого акта Валькирии (Байройтский фестиваль, 1896 год)
Декорации Вольфганга Вагнера для первого акта «Валькирии» (Байройтский фестиваль, 1960 год). Весенние цвета и ясень в центре сохранились, но мир парит в пространстве, а круг, представляющий магическое кольцо, символически разбит на два полукруга
Всё это было откровением в 1950-е и 1960-е годы, однако представляло неизменную проблему для молодых братьев Вагнеров (но не для публики). Многие дирижеры, которые работали или учились с первыми интерпретаторами этих партитур, всё еще исполняли вагнеровскую музыку в крайне эмоциональном и живописном ключе. Даже когда изображения на сцене оказались более обобщенными, они всё равно оставались эпичными, драматичными и настолько красивыми, что захватывало дух. Но когда Виланд решил попросить Пьера Булеза дирижировать в Байройте, он выяснил, что нашел идеального соратника. В самом деле, Булез завершил процесс, который можно назвать «декинематографизацией» Вагнера, и это встретило общее — хотя и не единодушное — признание критиков.
Музыка и ее исполнение менялись всегда. Мы держимся за одни вещи и отбрасываем другие. Критики в итоге поддерживают или отвергают эти преобразования. В случае с отказом от нарратива в нарративной музыке случившаяся перемена стала одной из важнейших в истории исполнительского искусства. Если делать из Вагнера вечного революционера с шокирующими визуализациями и ставить «Кольцо нибелунга», исключив из него человеческую любовь и любовь к природе, — примерно так, как сделал Стравинский с новым подходом к «Весне священной», — то это может навредить и композитору, и его музыке.
Именно по этой фундаментальной причине нам трудно принимать отрицательные рецензии и выступления других дирижеров. Мы уже прошли трудный, требующий напряжения сил процесс и сделали другие выводы, во многом подобно актеру, который играет Гамлета совершенно не так, как другой актер, хотя они произносят одни и те же слова. Порой мы всё же испытываем неожиданное удовольствие, когда коллега удивляет нас находками, которых мы и представить не могли. В этот момент наше уважение будет естественным и абсолютно искренним. Но в целом обычно мы оставляем уважение для наших наставников.
Из моих наставников Бернстайн остается «активным» в мире классической музыки. Это, конечно, кажется удивительным, ведь, как я указывал выше, он всегда был мишенью The New York Times и New York Herald Tribune, пока занимал пост музыкального руководителя в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. Он регулярно начинал новую серию концертов по четвергам и рассказывал об этом так: «Каждую неделю за завтраком я читал, как ужасно выступил. И потом шел на дневной концерт в пятницу с пониманием, что все в зале прочли, как плохо у меня вышло, еще до того, как услышали хотя бы единственную ноту из программы».
Повлияли ли разгромные рецензии на карьеру Бернстайна? Конечно же, повлияли. Всё это означало, что ему нужно было заручиться более авторитетной оценкой, способной компенсировать неприязнь нью-йоркских критиков, которые не считали его серьезным художником, — в противном случае его «ценность» могла значительно упасть. Да, он был известен по выступлениям на телевидении, и его обожала какая-то часть нью-йоркской публики, однако бестселлерами в категории классической музыки в США были записи Юджина Орманди с Филадельфийским оркестром. Бернстайн вызывал исключительное неприятие: из-за своей вульгарности, еврейского происхождения, неукротимого жизнелюбия, просто слишком большого масштаба личности, — этот композитор бродвейских мюзиклов, который также писал симфонии, дирижер, пианист, красноречивый гид по высокой культуре с патрицианским бостонским произношением, который, однако, хотел, чтобы его звали Ленни. Подтверждение его репутации, так и не полученное в высоких кругах, пришло из наилучшего источника и закончило эту историю: его оценили в самом Городе музыки. Как только Вена призналась в любви к Бернстайну (крайне трудно сказать, что сыграло здесь роль: неприятие Караяна, желание доказать отсутствие антисемитизма в Венском филармоническом, облегчение от присутствия американского дирижера, настолько влюбленного в оркестр и в его историю, или просто талант), Америка и Гарвард приняли это во внимание. Deutsche Grammophon захотела снова записать девять симфоний Бетховена с Бернстайном, и его реноме было прочно закреплено, что превратило когда-то молодого и дерзкого американца, пропагандиста американской музыки, в мудрого дирижера мирового масштаба, исполняющего основной европейский репертуар, — но которому к тому же удалось написать «Вестсайдскую историю». Европейские критики принялись восхвалять его, и вскоре после этого новое поколение американских критиков с ними согласилось.
Герберт фон Караян скончался 16 июля 1989 года. На четыреста пятьдесят пять дней Бернстайн стал без сомнений величайшим дирижером в мире — до смерти в октябре 1990 года.
Такова реальность: даже если вы лучший, это ненадолго.
Хотя дирижеры руководят оркестром, только если их приглашают это делать, в любом случае стоит вопрос, какую музыку можно исполнять, кто ею владеет и кто позволяет ее использовать. Большинство произведений, которые мы дирижируем, — стандартный репертуар — являются общественным достоянием, то есть принадлежат всему человечеству. Они исполняются без авторских отчислений композиторам и их правопреемникам. Но владение не всегда связано с авторским правом. Порой речь идет о «фирменных» вещах того или иного дирижера.
Представление о том, что музыка, сочиненная кем-то другим, может «принадлежать» дирижеру, появилось главным образом благодаря маркетингу. В 2004 году, когда я провел уже тринадцать сезонов во главе оркестра «Голливудской чаши», мы с коллегами создали программу на основе восстановленных Балетом Джоффри исторических спектаклей: «Послеполуденного отдыха фавна», поставленного Вацлавом Нижинским в 1912 году, и «Весны священной», которая впервые демонстрировалась в Париже годом позже. У нас всё было готово для выступления на ближайших выходных, но из администрации Лос-Анджелесского филармонического оркестра пришло сообщение: «Весна священная» принадлежит Эса-Пекке Салонену, а значит, нам нельзя ее играть. Поскольку Лос-Анджелесский филармонический обладает эксклюзивными правами на выступления в «Голливудской чаше», этот оркестр действительно может контролировать такие вопросы. Хотя «Весну священную» не исполняли в «Чаше» восемь лет и не планировали делать это в обозримой перспективе, никакие споры и уговоры не изменили бы решение. Должен сказать, в нем не было ничего личного: в конце концов, я дебютировал с Лос-Анджелесским филармоническим именно с «Весной священной», а недавно дирижировал ее с Лондонским симфоническим оркестром, и, конечно, Эса-Пекка никак лично не влиял на эти вещи. Просто есть необходимость поддерживать музыкальную вселенную, в которой Салонен остается главным интерпретатором, пока руководит оркестром. Это произведение входило в список его «фирменных» вещей.
С другой стороны, оркестр «Чаши» решили позиционировать по-новому. Раньше у него был полный симфонический репертуар: оперы, симфонии, современные работы Дьёрдя Лигети, Джона Адамса и Питера Максвелла Дэвиса, а также музыка к кинофильмам, но потом из него захотели сделать «популярный» оркестр и всю программу заменили «величайшими хитами» русских композиторов, куда вошел второй акт «Щелкунчика». Моя задача как дирижера состояла в том, чтобы отнестись к «Танцу феи Драже» с той же самоотдачей, с какой я отнесся бы к «Великой священной пляске». Это был один из первых уроков, которые преподал мне Густав Майер, когда я, двадцатилетний студент, пожаловался, что мне предстоит дебютировать с Йельским симфоническим оркестром, исполняя две арии Верди для баса с простым аккомпанементом. «Mach gute Miene zum bsen Spiel», — сказал он. «Извлеките лучшее из плохой ситуации». Я так и поступил. На время исполнения эти арии стали моим миром, о чем я ни на минуту не пожалел.
Андре Превин рассказал мне, что первая возможность дирижировать музыку к целому кинофильму появилась у него в девятнадцать лет. Это была «изумительно плохая» картина под названием «Солнце восходит», и снималось в ней неожиданное трио: Джанет Макдональд, Ллойд Нолан и собака Лэсси. Полная самоотдача в работе над тем проектом в итоге привела его к четырем «Оскарам» (за «Жижи», «Порги и Бесс», «Нежную Ирму» и «Мою прекрасную леди»). Превин стал одним из самых влиятельных музыкантов XX века.
Репертуар определяется многими факторами, и наши отношения с владельцами музыкальных произведений похожи на отношения с Цербером: одних он пропускает, а других оставляет за воротами. Это не должно влиять на качество работы. Нам всегда следует понимать, что черные точки и линии на странице, то есть ноты, лишь приглашение к вещам более широким и глубоким, чем звук, который они обозначают. Желанное и загадочное «прекрасное выступление» возможно с самой разной музыкой. При некоторых обстоятельствах, обычно связанных с дирижерами, серьезно звучащая музыка может стать поразительно тривиальной, а простая — необыкновенным опытом. Репертуар в конечном счете находится в руках администрации. Лос-Анджелесский филармонический оркестр — частная организация, он может играть всё, что хочет, и приглашать кого хочет. Для этого принимаются внутренние решения о том, что лучше для организации. Они бывают невероятно сложными, и выживание стоит здесь на первом плане: необходимо сохранять публичный имидж энергичной, целеустремленной и успешной компании и поддерживать корабль на плаву, несмотря на несовместимые друг с другом рекомендации членов совета директоров, критиков и представителей аудитории. В течение шестнадцати летних сезонов в «Голливудской чаше» я редко чувствовал, что у меня есть начальник, хотя он определенно был.
В нашей сфере много загадочного и нелогичного, и музыка владеет нами в том же смысле, как земля владеет фермером. Некоторые дирижеры обрели огромную славу, будучи узкими специалистами, то есть сосредоточившись на очень ограниченном репертуаре и став «экспертами» в его исполнении. Например, Николаус Арнонкур сфокусировался на музыке эпохи барокко и вместе с Густавом Леонхардтом произвел сенсацию, решив записать сто девяносто три духовные кантаты Баха с небольшим мужским хором, солистами-мужчинами (за исключением двух кантат, которые Бах написал для женского голоса) и аутентичными инструментами. После этого за подобными вещами стали обращаться прежде всего к Арнонкуру. Твердо стоя на ногах, он постепенно расширил охват, включив в свой репертуар классический период, а в итоге даже немного занялся Брукнером и незадолго до смерти записал весьма оригинальную версию «Порги и Бесс».
В то время как некоторые дирижеры находят для себя нишу, большинство остаются универсалами или почти универсалами, а значит, от них ожидается способность к убедительному и авторитетному исполнению любой музыки, от Гайдна до современных произведений. Но как человек — это то, что он ест, так и дирижер — то, что он дирижирует. Как ни печально, но в мире классики обнаруживается множество чопорных снобов, особенно когда дело доходит до разделения музыки на «популярную» и «серьезную».
Если дирижер соглашается дирижировать популярную музыку (которую порой неверно называют «коммерческой»: в конце концов, композиторы всегда зарабатывали музыкой деньги), ему стоит больших усилий сохранить остатки серьезной репутации. В мире высокой культуры действует такой принцип: поп-арту — да, поп-музыке — нет. Как только вас объявят поп-дирижером, можете попрощаться с Бетховеном и Шостаковичем. Вас будут считать поверхностным человеком, который готов пожертвовать искусством ради денег. Тот факт, что дирижеры с классическим репертуаром в целом зарабатывают гораздо больше, чем дирижеры, которые занимаются поп-музыкой, многим людям неизвестен.
Хотя некоторых дирижеров и считают «владельцами» определенного репертуара в метафорическом смысле, музыка часто по-настоящему охраняется авторским правом, и за ее исполнение приходится платить. Иногда владельцем является сам композитор. В других случаях это его наследники. Издательские дома, публикующие ноты, дают в аренду каталоги композиторов, а в некоторых случаях оркестр может купить партитуру и набор партий, а потом использовать их по желанию. Как это ни удивительно, есть музыка, которая охраняется авторским правом, не будучи опубликованной, например многие произведения Дюка Эллинтона или Джорджа Гершвина. Музыкой к кинофильмам владеют студии, а не композиторы. Дирижер, который хочет исполнить что-то из перечисленного, должен быть готов к тому, что ему придется сделать куда больше, чем просто купить ноты и разучить их. Оркестрам тоже нужно иметь в виду более серьезные расходы, чтобы исполнять такую музыку.
Отношения дирижера с руководством не менее сложны. Есть два вида администраторов: менеджеры учреждений культуры и личные агенты, которые ведут переговоры о контрактах, представляют интересы артистов и получают за это проценты от сумм, заработанных дирижером. Поскольку на подготовку оперы уходит очень много времени, комиссия за оперные контракты обычно равна десяти процентам, в то время как с концертных выступлений с оркестром отчисления составляют пятнадцать процентов. Если дирижер не является музыкальным руководителем и хочет известности, он нанимает пиар-менеджера, которому обычно нужно платить авансом. Расходы в этом случае просто огромны. В годы после падения Берлинской стены артисты, выступавшие в Германии, платили немецкие налоги из своих гонораров, и, кроме того, с них брали «налог на объединение страны». Как-то раз, после того как мы вычли из заработанного все эти платежи и комиссии менеджерам (европейским и американским), моя жена сказала: «Придется тебе прекратить работать. Это нам не по карману».
В конечном счете менеджеры живут за счет наших зарплат и должны в нас верить. Они должны «управлять» нами и нашими ожиданиями в надежде достаточно заработать на своих самых высокооплачиваемых музыкальных руководителях, на их гастрольных турах и любых других источниках доходов, которые могут поддержать их компанию. Когда-то менеджеры вроде бывшего генерального директора Columbia Artists Рональда Уилфорда могли оказывать огромное давление на оркестры и оперные театры, чтобы те нанимали определенных дирижеров, поскольку также представляли многих певцов и солистов. После смерти Уилфорда в 2015 году эта реальность ушла в прошлое.
Администрация учреждений культуры — другая сторона уравнения. После того как приглашенный дирижер отработает положенное время, нужно решить, стоит ли приглашать его снова. Закулисные обсуждения — дело темное, и мы, дирижеры, ничего не знаем о таких вещах. Музыкальным руководителям часто бывает неудобен успех приглашенного дирижера: ведь это означает, что появился новый соперник! Оркестранты заполняют оценочные ведомости, что никогда не делается в открытую.
Порой дирижерам предлагают поменяться с другими музыкальными руководителями и выступить в качестве приглашенных маэстро. Иногда дирижера берется поддерживать государство, желающее приобщиться к престижу воего гражданина, который занимает важную позицию в другой стране. Бывает, что правительство помогает дирижеру в рамках программы по поддержке культурного наследия. Порой частные компании договариваются с оркестрами и формируют зарплатный фонд дирижера. Это не всегда меритократия.
Менеджеры учреждений культуры часто работают в связке с музыкантами. Наладив продуктивные отношения с администрацией, дирижер может рассчитывать на годы совместной работы. Однако при смене руководства очень вероятно, что и дирижеру придется попрощаться с организацией, потому что новые люди наверняка захотят привести с собой новые таланты. Густав Малер прибыл в нью-йоркскую Метрополитен-оперу в 1908 году, когда его выдавила из Вены мощная антисемитская клика. Спустя год глава миланского «Ла Скала» Джулио Гатти-Казацца был назначен директором Метрополитен-оперы, сменив Генриха Конрада, который учился в Австрии. Малер расстроился, когда узнал, что его более молодой соперник Артуро Тосканини будет дирижировать новой постановкой «Тристана и Изольды» в Метрополитен-опере. С этой вещью Малер познал триумф, она «принадлежала» ему. Кроме того, он понимал, что, поскольку Тосканини будет исполнять ее всего через восемь с половиной месяцев после его собственной версии, да еще и с новыми декорациями и костюмами, это, несомненно, размоет в глазах публики связь Малера с произведением и подорвет его репутацию. Когда Тосканини выступил с «Тристаном и Изольдой» 27 ноября 1909 года, Малер счел это публичным унижением и ушел из Метрополитен-оперы на Тридцать девятой улице в Карнеги-холл на Пятьдесят седьмой, в Нью-Йоркский филармонический оркестр.
А вы, наверное, думали, что главное для дирижера — знать музыку? Конечно. Это так. Но важно знать и суровую правду жизни.
Глава 7. Кто тут главный?
Среди всех образов дирижера как верховного властителя симфонической музыки самым ярким оказался тот, что создал Леопольд Стоковский в полнометражном мультфильме «Фантазия», выпущенном компанией Уолта Диснея в 1940 году. В XIX веке и в начале двадцатого существовали рисунки и карикатуры, изображавшие дирижеров — как правило, композиторов, в том числе Бетховена, Вагнера, Штрауса и Малера. Порой это были силуэты, но в «Фантазии» всё оказалось по-другому. Показанное там очень отличалось от рисунков в журналах и газетах, которые можно держать в руках. Изображения появились на гигантском киноэкране и были больше, чем в реальной жизни, а звуки музыки шли из усилителей, размещенных в разных точках зала, чтобы создать из их сочетания многоканальный достереофонический звук, который назвали Fantasound.
В начале фильма мы видим, как Филадельфийский оркестр входит на специально оформленную сцену. Задник мерцающе-голубой, музыканты показаны в виде силуэтов. Они начинают разогреваться, и разные инструменты ненадолго освещаются, как будто их звук создает маленькие взрывы цвета. Комментатор во фраке и бабочке — Димс Тейлор — представляет концепцию фильма, а потом мы видим маэстро.
Стоковский взбирается на особый помост к нам спиной. Полная тишина: слышны только его шаги. Он и лестница чернильно-черного цвета, а циклорама, к которой он идет, голубая, и на ней смутно угадываются две арфы, пюпитры и несколько музыкантов. Но у самого дирижера нет пюпитра, и он возвышается над всеми остальными. Он разводит руки, чтобы обнять невидимый оркестр. Потом дирижер медленно поворачивается справа налево, и мы полностью видим его красивое лицо в профиль и руки без палочки. Он тянется вперед, и, когда руки опускаются, начинается музыка. Розовый прожектор освещает его лицо и кисти — и на несколько секунд силуэт становится объемной фигурой.
Он дает знак скрипкам замолчать, и свет выключается. Маэстро поворачивается направо и повторяет жест. На этот раз играют деревянные духовые, а лицо и руки маэстро вдруг становятся зелеными. Затем по мановению руки они замолкают, и, как и прежде, свет выключается. Наконец, стоя спиной к зрителям, маэстро показывает вступление виолончелям и контрабасам, которые (как нам кажется) расположены где-то перед ним. На этот раз его голова и руки, подсвеченные спереди, сияют ярко-красным. Музыка продолжается, и перед дирижером возникает небесная сфера, как будто призванная его движениями. Да будет свет. И стал свет. В этом случае свет вызвала музыка Баха, которая появилась благодаря жестам дирижера.
Не важно, что Стоковский на самом деле не стоял перед оркестром и не дирижировал. Он действовал под запись, которую сделал с оркестром, имея ноты перед глазами. Что важно, так это созданный образ полного контроля над музыкой, музыкантами и самой вселенной.
Даже визуальная концепция, которую сделали для съемок «Фантазии», подразумевала именно такой нарратив: всемогущая, элегантная, мужественная фигура, отвечающая за всё. На рисунках мелом, оставшихся со времени подготовки к производству, мы видим вытянутое тело гуманоида с неестественно длинными руками, тонкой, словно карандаш, талией и широкой грудью; оно излучает абсолютную властность.
Можно только представить реакцию на это цирковое выступление со стороны Отто Клемперера, Фрица Райнера, Пьера Монтё и Сергея Кусевицкого, сделавших успешную карьеру в США. В те дни один Тосканини мог состязаться со Стоковским в умении использовать медиа: живые трансляции его выступлений передавали по американскому радио в 1937 году. Один Тосканини был достаточно фотогеничен, чтобы его выступления показывали по только что изобретенному черно-белому телевидению, — в противовес голливудскому явлению Стоковского во всех существующих цветах.
Концептуальный рисунок мелом для раздела «Токката и фуга Баха» в «Фантазии»
Трудно вообразить вариант, более подходящий для итальянского маэстро, ведь он был бледен, как призрак, с абсолютно белыми волосами и усами. Вместо фрака с галстуком-бабочкой он носил черный костюм, который подошел бы священнику, поэтому телезрители видели только предельно сосредоточенное лицо и пару белых рук, в одной из которых была палочка. Камера в незамысловатой манере нередко смотрела ему прямо в лицо, словно зрители сидели в секции гобоев. Черные брови подчеркивали бесконечность мимических нюансов, которые сменяли друг друга на постаревшем лице великого мастера классического репертуара.
Во время войны Тосканини занял жестко антифашистскую позицию. Его политическое кредо и развитие телевидения (а также активнейшее участие председателя совета директоров NBC Давида Сарнова, который создал величайший оркестр в мире, предложив самую высокую зарплату и контракт на пятьдесят две недели) дали Тосканини последнюю возможность укрепить репутацию самого властного и могущественного дирижера эпохи. И, в отличие от Стоковского, Тосканини действительно дирижировал, а его оркестр и певцы выступали вживую. Он был подобен одновременно демону и святому.
Вместе Стоковский и Тосканини создали образ современного дирижера. Что бы подумали Верди и Шуман о шоу, которые устраивали эти двое? Впрочем, Герберт фон Караян явно вдохновлялся их успехом, равно как и Леонард Бернстайн, поскольку оба пользовались поразительными возможностями, которые появились благодаря долгоиграющим пластинкам и стереозвуку. Вместе два этих соперника создали для второй половины XX века образ дирижера, ответственного абсолютно за всё. С их смертью он исчез.
Вам уже должно быть ясно, что дирижеры одновременно главные и не главные. Контроль — это миф, но мы за него цепляемся. Во время представления мы стоим на переднем плане, и большую часть времени публика обычно смотрит на нас. Концертные залы, где на сцену смотрят сверху или, в некоторых случаях, с разных точек вокруг, дают зрителям больше вариантов. В достаточно старых залах вроде Карнеги-холла и Концертхауса в Вене публика располагается гораздо ниже уровня сцены и дальше от нее, поэтому дирижер кажется выше, чем он есть на самом деле, и доминирует над внешним рядом струнных. Иногда я задаюсь вопросом, как зрители и критики реагировали бы на представление, если б ничего не видели, но при этом присутствовали бы при живом выступлении.
Артуро Тосканини на телевизионной репетиции на NBC в начале 1950-х годов
С приходом кино и видео режиссеры получили возможность изнутри показать зрителю сложности симфонической музыки. Бернстайн пользовался телевидением, чтобы учить музыке и объяснять ее (официально — детям и юношеству, но на деле его передачи смотрела вся семья). Караян делал доведенные до совершенства фильмы, используя дубли, крупные планы, драматичную подсветку сзади и пятнадцать камер. Конечно же, два гиганта профессии одновременно практиковали очень разные подходы к использованию массмедиа и классической музыки. К 1979 году Караян создал собственную компанию — Telemondial, где полностью отвечал за все аспекты производства и демонстрации видеозаписей. На съемках он управлял операторской работой, а на репетиции приглашал другого дирижера в качестве дублера. Не стоит и говорить, что в этих телефильмах Караян выглядел еще более могущественным и далеким, чем Стоковский в «Фантазии» (хотя бы потому, что в фильмах Караяна не было рисованных персонажей, в частности Микки-Мауса). Бернстайн, напротив, выглядел располагающим и искренним человеком, который хочет поделиться своим энтузиазмом с людьми, сидящими дома у экрана.
Мир всемогущего и всезнающего маэстро внезапно рухнул со смертью обоих этих гигантов — хотя Валерий Гергиев представляет наследие прошлого в XXI веке, поскольку считается, что он полностью контролирует оркестр, балетную и оперную труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Да, кто-то еще рычит на фотографов, но в целом имидж дирижеров начал стремительно меняться с тех пор, как Саймон Рэттл надел цветную кофту и начал улыбаться. Рэттл оказался так хорош, что улыбка и яркий пуловер не вызвали неприятия, и ему позволили продолжать, оставаясь одновременно серьезным и всеобъемлющим. Он даже полюбил бродвейские мюзиклы. Впрочем, до сих пор он такой один.
В отличие от персонажей, которые появились в XIX веке, нынешние маэстро могут быть открытыми геями и женщинами (не сомневайтесь, здесь всё только начинается). Но в отношении к дирижерам всё еще видны остатки расизма и некоторая ксенофобия. Немцы до сих пор исполняют произведения немецких композиторов, итальянцы — Верди и Пуччини, скандинавам хорошо удается Сибелиус и музыка пасмурных небес, а американцам трудно найти особое место в репертуаре, который до сих пор остается по сути европейским, однако их редко считают глубокими интерпретаторами. И, отвечая на вопрос о том, кто главный, стоит помнить, что в конечном счете главную роль играют те, кто нанимает дирижера на работу.
После серии представлений оперы Вагнера «Риенци, последний трибун», которыми я дирижировал в Сан-Антонио в 1977 году, — однажды это было в присутствии внучки композитора Фриделинд, — Эндрю Портер опубликовал в The New Yorker весьма шокирующее заявление: он утверждал, что наше исполнение доказало превосходство «Риенци» над «Тангейзером» и что «суждения из запасников музыкальной истории теперь переписаны».
Меня тут же пригласили снова. Когда мы с женой вернулись, оказалось, что я был хорошим кандидатом на должность музыкального руководителя: эта вакансия оказалась свободна. Один член совета директоров сказал, что новый музыкальный руководитель обязан жить в Сан-Антонио, хотя сезон этого оркестра был относительно короток. Должен заметить, я согласен, что любой музыкальный руководитель должен посвятить себя городу, где он работает. Однако меня сильно обеспокоил дополнительный комментарий: «Если я покупаю Пикассо, мне нужно знать, что он висит у меня на стене, смотрю я туда или нет». Дама из этой комиссии по подбору сказала: «Нам нужен акцент». Она считала, что доверие к музыкальному руководителю и, соответственно, ценность, которую припишут ее оркестру, зависит от того, из Европы ли он родом и есть ли у него очаровательный акцент. Главными там были эти люди. В итоге я не получил — да и не захотел получать — работу.
Не стоит думать, что советы директоров приобрели власть над оркестрами лишь недавно. Два сезона Малера с Нью-Йоркским филармоническим были весьма неоднозначны. Ему приходилось считаться с Генри Кребилем, уважаемым критиком New York Tribune, который возражал против новых оркестровок Бетховена и Шуберта, сделанных Малером, а также с членами совета директоров, которым не особенно нравился выбранный Малером репертуар. Для второго сезона (1910/1911 годов) они создали «комитет гарантов» из шести человек, чтобы контролировать и одобрять все музыкальные произведения в репертуаре. Годом позже сэр Эдвард Элгар, уже возведенный в рыцарское достоинство, композитор, чья музыка считалась олицетворением Британской империи, был уволен советом директоров с поста главного дирижера Лондонского симфонического оркестра, потому что билеты на его концерты продавались не слишком хорошо.
В отличие от музыкальных руководителей, приглашенные дирижеры балансируют между требовательностью и уступчивостью. Это не слишком легко — приспосабливаться и вдохновлять на нечто новое, одновременно уважая традиции и уникальную сущность каждой организации. Насколько «главным» может быть человек, который появляется во вторник утром и исчезает в воскресенье, продирижировав два или три концерта?
Внучка Рихарда Вагнера Фриделинд и я в Сан-Антонио на репетициях оперы «Риенци, последний трибун» в 1977 году
Когда я начал работать с разными важными коллективами в 1970-х годах, у меня состоялся концерт с Филадельфийским оркестром, перед которым мне дали одну репетицию. Мы выступали в летней резиденции оркестра «Робин-Гуд-Делл». Солистом был Мстислав Ростропович, который играл два концерта для виолончели: Концерт до мажор Гайдна и «Шеломо» Блоха. Я начинал первую часть с «Неоконченной симфонии» Шуберта, а вторую — с «Вальса» Равеля.
Ростропович оказался человеком-ураганом. Он был полон идей и имел уже сложившуюся интерпретацию Блоха. В какой-то момент он встал и сказал оркестру: «Здесь нужно как тысяча птиц!» Это застало меня врасплох; я чуть помолчал и сказал: «Да-да, пожалуйста. Как тысяча птиц». Главным был Ростропович.
Я никогда до этого не дирижировал «Неоконченную», но, как и впоследствии в случае с «Риголетто», изучил только что опубликованное (в 1968 году) критическое издание, в котором редактор Мартин Чусид (снова!) открыл, что в первой части гравированного издания изменили ноту и диссонанс стал звучать гармонично. Чусид был уверен, что это работа гравера, который решил, что Шуберт сделал ошибку. Поскольку та же оскорбительная нота появляется еще раз в той же части, и оба раза она явно была написана рукой композитора, Чусид ее восстановил. Джордж Селл впоследствии записал симфонию с неверно звучащей, но правильной нотой.
Вооружившись партитурой, я с энтузиазмом проинформировал об этом Филадельфийский оркестр, наивно полагая, что музыканты будут рады новостям и с уважением отнесутся к человеку, принесшему им результаты исследования. Да, оркестранты сыграли ноты, которые я попросил, но, кроме того, они сделали вещь, которую обычно делают, когда им что-то очень не нравится, — показали едва слышное презрение. А потом и неуместные ноты, и молодой приглашенный дирижер ушли в историю и не возвращались еще тридцать лет. Главными были они.
Как только невидимое искусство вступает во взаимодействие с видимым — не важно, опера это, бродвейский мюзикл, балет или кино, — вопрос о главенстве усложняется в геометрической прогрессии. Ранги в иерархии сложно определить заранее. В целом оперный театр был последним бастионом дирижера как представителя абсолютной власти. Когда составляют программу для симфонического оркестра, на этот запутанный процесс действует много разнонаправленных факторов, однако дирижер может серьезно повлиять на звучание любой работы, если полностью погрузится в процесс. Это тоже способ быть главным, который, однако, не всем покажется очевидным. «Спросите Эрнеста, что я должен дирижировать, и я за это возьмусь», — сказал в моем присутствии известный дирижер, имея в виду Эрнеста Фляйшманна, вице-президента Лос-Анджелесского филармонического оркестра.
Дирижеры на Бродвее — исполнители, которые делают то, что говорят композитор, директор и продюсеры. На первой репетиции «Песни и танца» Эндрю Ллойда Уэббера усилители электрических инструментов (гитар, некоторых видов перкуссии и клавишных) работали так громко, что я просто остановился и закричал звукорежиссеру: «Если вы сделаете так еще раз, я уйду. Пожалуйста, дайте мне сначала настроить акустический баланс в оркестре». Уэббер был рядом и поддержал меня. Однако во время прогона мою работу и работу оркестра оценивал помощник режиссера, в задачу которого входило писать отчеты о выступлениях (их потом передавали руководителю компании и продюсерам), хотя за музыку в этой постановке отвечал я.
Будучи продюсером мюзикла «На цыпочках» («On Your Toes») и консультантом Кеннеди-центра по музыкальному театру, я занимал идеальную позицию: одновременно дирижера, музыкального руководителя и человека, который собрал всех присутствовавших на сцене и в оркестровой яме. Такой беспрецедентный случай вряд ли когда-нибудь повторится. Главным был я — до того момента, когда Роджер Стивенс, председатель Кеннеди-центра, не потребовал отчета. Тогда главным стал он.
Дирижер, как я уже говорил, никак не может быть главным при постановке балета. Чарльз Ишервуд из The New York Times подчеркнул этот факт, когда указал, что Валерий Гергиев, «который правит и балетом, и оперой в Мариинском… вероятно, сегодня является самой влиятельной фигурой в российском исполнительском искусстве и имеет больше власти над балетом, чем кто-либо другой со времен Жана-Батиста Люлли в конце XVII века во Франции Людовика XIV». Однако Ишервуд находит, что труппа выглядит гораздо ярче, когда музыкальный руководитель не дирижирует балет, хотя одновременно восхищается оперными представлениями и концертами под его руководством. По мнению Ишервуда, его темпы действуют на танцоров «как смирительная рубашка».
Трудно сказать, правда ли это, но, когда «Нью-Йорк Сити балет» нанял симфонического дирижера Эндрю Литтона в качестве музыкального руководителя, наблюдатель ясно увидел, кто был главным. «Мистер Литтон карандашом показал вступление, концертмейстер начал играть, выбежал несколько испуганный кордебалет, но через пару секунд [главный балетмейстер] Питер Мартинс и балетмейстер Розмари Данлейви захлопали, чтобы остановить действие. „Где огонь?“ — спросил Мартинс». Это произошло слишком быстро, и никто не сказал бы такого Литтону, если б он дирижировал тем же произведением на концерте[34].
Может быть, в прошлом, когда великие симфонические балеты сочиняли Чайковский, Стравинский, Равель, Дебюсси, Прокофьев и Фалья, у балетных дирижеров было больше власти. Однако это сомнительно, потому что главенствовал там хореограф, а если возникали вопросы к музыке, на них мог ответить композитор. Тем не менее Чайковский просто ненавидел то, что сделал с его партитурой «Лебединого озера» — все эти сокращения, резкие смены темпа для соответствия шагам — первый его хореограф Юлиус Рейзингер. Так или иначе, в мире современного балета дирижер не играет главную роль, если он не Валерий Гергиев.
Ни в какой сфере власть дирижера не сократилась так сильно, как в опере. В XIX веке, когда новые оперы постоянно ставились в сотнях театров, композитор и театры договаривались о концепции оформления спектакля, а такого явления, как режиссер-постановщик, просто не было. В конце концов, сценические ремарки входили в либретто, а декорации представляли собой серию картин, ярко написанных маслом на холсте задников, которые казались волшебно трехмерными, когда их подсвечивали. Порой к ним добавлялись лестницы. Ожидалось, что Спонтини, Верди, Вагнер и все остальные композиторы будут наблюдать за постановкой собственных работ. Сценариус[35] вел спектакль, руководя выходом артистов на сцену.
Когда моя девяностопятилетняя сицилийская бабушка пришла на субботнее дневное представление «Богемы» в Линкольн-центре, на котором я дирижировал, я решил напомнить ей, что она видела эту самую оперу в исполнении Энрико Карузо и Джеральдины Фаррар в 1914 году. Бабушка, которая так и не продвинулась в английском дальше бытовой необходимости, покачала головой и, помолчав минуту, сказала: «Думаю, сейчас они больше играют».
Так оно и есть! Мало того, поскольку оперный репертуар заморожен и последняя итальянская опера, которая вошла в канон, была написана в 1924 году («Турандот»), немецкая же опера иссякла где-то при жизни Рихарда Штрауса, а возможно, прекратила существование в 1911 году с выходом его до сих пор популярного «Кавалера розы» (несмотря на то что оперы, написанные начиная со второй четверти XX века, изредка ставятся), сегодня оперу контролируют режиссеры, которые пытаются интерпретировать статичный репертуар новым и запоминающимся образом. Делать то, что говорится в либретто, почти никогда не считается правильным решением, а музыкальные критики рассматривают такой подход как отсутствие воображения.
Художественный руководитель Королевского театра в Турине сказал мне, что подумывает пригласить Вуди Аллена, чтобы он сделал новую постановку «Билли Бадда» Бриттена. Я сказал что-то вроде: «Но он ничего не знает о британском флоте наполеоновского времени и об этических и политических силах, которые тогда действовали». Если уж на то пошло, он никогда не ставил оперу. «Да, вы правы, — сказал мой собеседник, — но это была бы сенсация».
Я дирижировал первую оперу в своей жизни в 1973 году — «Святую с Бликер-стрит» Менотти, которая ставилась в присутствии автора. С тех пор мне довелось работать с довольно широким репертуаром, начиная с Монтеверди и заканчивая мировыми премьерами с хорошей дозой Верди, Вагнера, Пуччини и Бриттена посередине. Я ходил на оперы и в музыкальный театр с одиннадцати лет, а значит, был свидетелем золотого века на Бродвее и в Метрополитен-опере. В этот период появились классические бродвейские постановки «Моей прекрасной леди», «Вестсайдской истории», «Музыканта», «Звуков музыки» и «Джипси», а также выступали величайшие оперные певцы и дирижеры второй половины прошлого века. И тенденция, которая проявилась за последние шестьдесят лет, играет очень важную роль.
Как только создатели репертуара, который до сих пор кормит любой оперный театр в мире, умерли, а популярные новые оперы были отброшены по политическим и эстетическим причинам, в то время как другие так и не смогли заинтересовать публику, несмотря на восхваления критиков, у оперных театров возникла проблема выживания. Им нужно было оправдать свою репутацию и завоевать аудиторию, применив современные и провокационные идеи для интерпретации вечных произведений искусства и сыграв на зависимости музыки и музыкального театра от этой интерпретации, без которой они не могут существовать. Таким образом, эстетические критерии, подпитывавшие нескончаемый авангард, усилили и стоящую за ним философию, которая отвергает музыку как нарративное и репрезентативное искусство и склоняется к тому, чтобы будоражить аудиторию провокациями, как будто мы живем в период расцвета Веймарской республики или после Второй мировой войны, когда поднялся гнев на неспособность высокой культуры уберечь мир от катастрофы. Это мир постановки опер, который существует сегодня, и дирижеру можно посоветовать поднимать взгляд выше оркестровой ямы, только если нужно подать сигнал певцу.
В 1986 году Дэвид Паунтни сделал знаменитую новую постановку «Русалки» Дворжака в Английской национальной опере. Когда занавес поднимался, мы видели викторианскую спальню с белыми стенами и главную героиню со связанными ногами на качелях. Потом, по мере развития сюжета, простыни становились алыми, а ноги оказывались развязаны.
Нам объяснили эту аллегорию. Сказку разложили на составные части и разрушили. В той постановке «Русалка» рассказывала историю о девушке, у которой в первый раз начался менструальный цикл. Это довольно сухой и непоэтичный способ сообщить о том, что детство закончилось и героиня становится женщиной. Тот факт, что Дворжак написал прекрасную оперу о водяном существе, которое заслуживает право стать человеком, что действие в ней происходит в лесу и что с помощью журчащей оркестровки и музыкальной образности описывается чудесная сущность природы, оказался слишком очевидным. Поэтому потребовалось объяснить символическую суть. Помню, как после первого акта я поздоровался с валторнистом, и он сказал мне, указывая на сцену позади себя: «Выглядит не так, как звучит, правда?» Он был прав.
В первый мой день в качестве приглашенного дирижера в Турине в 1990-е годы режиссер описал свое фантастическое представление о «Сне в летнюю ночь» Бриттена мне и артистам. Он сказал: «Ну, Оберон, конечно, гомосексуал, ведь он контратенор, правда, маэстро?» Я ответил, что не уверен. Я думал, этот выбор отсылает к барочной опере и объясняется желанием сделать Оберона скорее волшебным существом, чем человеком. Режиссер решил перенести место действия в отель «Гран-Бретань» в Афинах. Там высокий бородатый мужчина в платье должен был курсировать между гостями в лобби, а молодые люди из хора эльфов — изображать французских горничных в коротких черных юбках, белых фартуках, на каблуках и с красной помадой. Когда режиссер объяснял свое видение, присутствовавшие певцы замерли в изумлении. В перерыве все побежали к телефонам звонить агентам. Мой итальянский менеджер сказал, что не стоит беспокоиться. «Никто никогда не обвиняет маэстро. Просто дирижируйте музыку. Вас это не коснется». С одной стороны, оно меня действительно не коснулось, а с другой — все-таки затронуло. Да, меня пригласили на позицию direttore stabile, постоянного дирижера, однако я никак не мог повлиять на то, что видел на сцене и чему аккомпанировал.
Так было и с «Мадам Баттерфляй», которая выглядела так, словно действие происходит на пустынном спутнике далекой планеты. Режиссера смущала эмоциональность Пуччини, и он настоял, чтобы самоубийство Баттерфляй было отложено до последнего аккорда оперы. В музыкальном плане ее суицид показан весьма конкретно. У Пуччини она делает это за ширмой, в то время как на переднем плане играет ее сын, не подозревающий о происходящем. После того как она закалывает себя, ширма падает вперед, возникает цветное облако из лепестков, и мы слышим музыку, которая описывает быстрое приближение ее мужа, отца ребенка. Три раза за сценой он зовет: «Баттерфляй!» — и каждый раз приближается всё ближе. Потом он прибегает на сцену с американским консулом и видит, что случилось по его вине. Умирая, Баттерфляй показывает на ребенка. Пинкертон встает на колени, а Шарплесс хватает ребенка, чтобы оградить его от этого зрелища. Последний аккорд выражает ужас обоих мужчин — и публики. Занавес быстро опускается.
В этой новой версии Баттерфляй долго ждала, а потом, когда прибывал Пинкертон, смотрела на него и закалывала себя на последнем аккорде, после чего свет гас. У зрителей не оставалось времени, чтобы отреагировать, — у них не было вообще никакого катарсиса, — зато приготовления к самоубийству тянулись очень долго. Режиссер добился того, что у него получилась «Баттерфляй», на которой никто не проливал ни слезинки. Это был его способ оправдать исполнение оперы в современной Италии, удалив из нее все признаки китча и постыдной эмоциональности. Он добился своего. Художественный руководитель труппы, у которого была власть что-то менять, нашел эту интерпретацию достойной и «интересной».
На Бродвее восстановленные спектакли часто оказываются «перестановленными». В отличие от оперы, где к нотному тексту обычно относятся как к святыне, в мире мюзиклов гораздо свободнее обращаются со всеми аспектами шоу. Надпись «Новый мюзикл Гершвина» над входом в театр обычно вызывает у публики гораздо больше волнения, чем «Великий мюзикл Гершвина». В некоторых случаях это значит, что состав оркестра радикально сокращен (из экономии), добавлены песни из других произведений того же композитора, а порой абсолютно переделан текст и вложенный в него смысл. Единственное, в чем можно быть уверенным, — что владельцы прав на оригинальное произведение одобрили адаптацию и разрешили сохранить название. В остальном возможно абсолютно что угодно.
Когда Артур Лорентс обошелся по-своему с «Вестсайдской историей» в 2009 году (в 1957-м он написал для нее сценарий), главный театральный критик The New York Times Бен Брантли отметил: «Постановка, первый показ которой прошел в четверг в „Палас-театре“… любовно воспроизводит балетную хореографию мистера Роббинса». Ничего подобного не было. Постановка Лорентса началась с увертюры, быстро слепленной для обновленного спектакля в 1980 году. У оригинальной «Вестсайдской истории» нет увертюры. В 1957 году после полной темноты зрители вдруг видели пять членов банды «Ракеты» перед сетчатым забором. Музыка и их заносчивые движения были синхронными: «Ба-ЧИНК. Ба-ЧИНК. Ба-ЧИНК-ба-ЧИНК». Однако в «любовно воспроизведенной» постановке Лорентса никто не шевелился. Вместо этого «ракеты» ждали, пока закончится музыка, а потом двигались в тишине. Другими словами, Лорентс уничтожил базовое соотношение музыки и движения, которое Джером Роббинс и Леонард Бернстайн установили в 1957 году.
Лорентс также удалил сцену ночного кошмара во втором акте («Артуру никогда она не нравилась», — сказал мне Джеральд Фридман, который ставил этот мюзикл в 1957 году) и изменил конец. У него «акулы» и «ракеты» не объединялись, унося тело Тони со сцены. Лорентс сказал, что такой поворот был «нереалистичным». На это можно ответить, что убийства стольких молодых людей на почве расизма объединили «ракет» и «акул», в этом-то и заключался смысл спектакля. С начала и до конца Лорентс сделал собственную «Вестсайдскую историю», и все творческие споры, которые он проиграл в 1957 году, были выиграны в 2009-м, потому что Джерри и Ленни уже умерли и никто не мог помешать переписыванию. Критики не видели ни спектакль 1957 года, ни восстановленную версию 1980 года, которая, за исключением добавленной увертюры, повторяла оригинальную. Критики вообще скверно подготовились.
Во второй половине XX века такие случаи разрыва с традицией и проявления высокомерия встречались всё чаще и чаще. Любой дирижер, который ставит оперу и не меняет место действия, заданное автором, считается рутинером и ненастоящим художником. Если в постановке «Кольца нибелунга» нет двух самых важных составляющих творчества Вагнера: идеи величайшей ценности земли и природы, которым нельзя причинять вред, и веры в человеческую любовь, которая сильнее любого бога и любой магии, — то не стоит браться за такую вещь и смотреть ее. Увы, мы видели постановки «Кольца», где действие происходило и в вашингтонском метро, и в сюрреалистичной обстановке кукольного театра, когда актерам приходилось влезать в жесткие костюмы, и на маленькой сцене, за которой гигантский механизм громко лязгал и скрипел, отвлекая внимание от действия. Всё это потерпело провал, а ведь любой, кто был в кино и театре, знает, что хорошие художники-постановщики обычно находят новые способы показать истории, где действие происходит в прошлом, в экзотических краях или у нас во дворе, не меняя обстановку или исторический период, хотя и могут. С помощью художников кинематографисты создают драконов, которые остаются драконами, но не похожи на тех, что были в других фильмах, или исторические костюмы и интерьеры, которые соответствуют источнику, но не повторяют другие версии. Похоже, мы экономим массу денег на современных оперных постановках, одевая певцов в костюмы Armani независимо от того, какую историю рассказываем.
Всё вышеперечисленное не имело бы значения, если бы режиссер-постановщик оперы понимал, как музыка и движение работают вместе. Когда Виланд Вагнер ставил последнее «Кольцо нибелунга» в Байройте в 1965 году, всё действие происходило на приподнятом диске слегка вытянутой формы, который, казалось, парил в море темноты. Реквизита почти не было, но взаимодействие певцов и тонкие, сияющие цвета циклорамы за ними делали представление удивительно чарующим. Действие происходило не на Диком Западе, не в гостиной Вагнера и не в Дахау. Это была вечная драма, повествующая о семейных отношениях и политике.
Самым ярким воспоминанием для меня осталось противодействие Астрид Варнай и Марты Мёдль, которые сошлись, как сумоисты, в сцене первого акта «Гибели богов», поставленной Виландом, где Брунгильда разговаривает с сестрой Вальтраутой. В своем «Кольце» Виланд отказался от точного следования сценографии Рихарда Вагнера, однако рассказывал его истории ясно и убедительно: в том и состоит отличие от неудачных постановок. Биргит Нильссон любила работать с Виландом Вагнером и объясняла это так: «Он нашел мою Изольду, которая не была Изольдой Варная». Другими словами, этот режиссер адаптировал свои постановки к индивидуальным талантам певцов — во многом как это делает дирижер, — но в то же время поддерживал общую целостность всего представления.
Оперным режиссерам дали право использовать произведение искусства, работать с которым их пригласили, для провокаций или выражения собственного мнения — чтобы сделать вещь глубокой, важной и актуальной. Но чаще всего результат, рассчитанный на дешевую сенсацию, злит публику или вызывает у нее скуку. Проблема в том, что здесь режиссеры главные, а оперные театры их поддерживают.
Время от времени Артуро Тосканини брался за оперы, где что-то шло не так. В 1914 году он поставил «Турандот» в «Метрополитен», в 1923-м — «Лючию ди Ламмермур» в «Ла Скала», а в 1937-м — «Нюрнбергских мейстерзингеров» в Зальцбурге. Так же поступил Отто Клемперер с «Летучим голландцем» в 1929 году. Караян делал практически то же самое на своих Зальцбургских фестивалях. Были это удачные постановки? Ответ зависит от того, какой вы хотите видеть оперу. Но точно можно сказать, что музыка исполнялась хорошо и что ее звук гармонировал с происходящим на сцене.
Настоящий оперный дирижер всегда стремится поддержать картину, созданную на сцене. Ее цвета и формы должны сообщаться с музыкой. Такова основная идея оперы, и для этого в первую очередь ее изобрели. Разводя элементы и добиваясь, чтобы они конфликтовали между собой или не были связаны друг с другом, дирижеры-постановщики делают в точности то, чего хотят критики, поддерживающие бесконечный авангард. Дело здесь не в креативности и не в воображении. Главное — провокация и пренебрежение к тексту. Аудитория часто выражает недовольство. При этом дирижер и певцы срывают бурные овации, как будто музыкальная часть была отдельным элементом. Жизнь идет дальше. Объявляют об очередной оригинальной постановке оперы из стандартного репертуара, и процесс начинается снова.
Дирижировать «Турандот», в которой главная героиня совершала самоубийство, спев слово «любовь», а потом извивалась в агонии на сцене, пока хор радостно пел о любви и вечности, было для меня самой трудной задачей, которую я только мог вообразить. Следовало ли мне найти некий мрачный внутренний голос в радостных гармониях (который там отсутствовал)? Был ли это некий странный постбрехтовский комментарий, когда чем веселее музыка, тем острее конфликт? Стоит отметить, что юридический департамент Ricordi, который контролирует авторские права на «Турандот», не возражал против такого поворота истории. Очевидно, племянница Пуччини видела постановку, когда ее только создали, и не высказала возражений.
Порой режиссер-постановщик, главный художник и дирижер вместе создают нечто экстраординарное. Те, кто видел «Манон Леско» Пуччини в Сполето в 1973 году в постановке Лукино Висконти и под управлением дирижера Томаса Шипперса, никогда не забудут это. То же относится и к «Тристану и Изольде» в трактовке Бёма и Виланда Вагнера, на которой я был в Байройте в 1966 году, и к «Фальстафу» в интерпретации Бернстайна и Дзеффирелли в Метрополитен-опере в 1964 году. То же относится и к «Кармен» в «Метрополитен» в 1972 году — работе Бернстайна с режиссером Бодо Игесом и сценографом Йозефом Свободой. Их постановка могла нравиться или нет, однако это оказался захватывающий театральный опыт, где все темпы и жесты были синхронизированы. Сделанная потом запись не передавала все аспекты театрального переживания. В конце концов Бернстайн разрешил Мэрилин Хорн петь «Хабанеру» так, как ей хотелось, позволив певице исполнить роль Кармен в ее характерной манере. Стоит заметить, что она поменяла эффект, который планировала сначала, и обе стороны нашли компромисс, который удовлетворил фанатов дивы.
Один телевизионный дирижер сказал, что у него есть мантра: «Никогда не выставляй артиста в невыгодном свете». В каком-то смысле такая задача стоит и перед маэстро. За пятьдесят лет дирижирования опер я редко допускал, чтобы звезда была «главной» в этом процессе, потому что постановка оперы полностью основана на сотрудничестве. Однако я помню, как наблюдал за Лучано Паваротти на генеральной репетиции «Богемы» в Турине в 1996 году с выбранным им дирижером (тогда Паваротти выступал только с дирижерами, которых знал в ранние годы). Певцу было уже за шестьдесят, и высокомерие сочеталось в нем с глубокой неуверенностью, поскольку он не мог читать ноты. В какой-то момент он вышел из образа и приблизился к краю сцены. Он протянул правую руку к дирижеру и помахал указательным пальцем, публично выражая недовольство. В том случае главенствовал тенор.
Джанкарло Менотти был прекрасным режиссером, всегда готовым к сотрудничеству. Это особенно проявилось во время постановки «Богемы», которой мы вместе занимались в Вашингтонской опере. Менотти понимал каждое слово и никогда принципиально не менял драматургию Пуччини. Вместо этого он вдыхал в нее жизнь. Мне предстояло работать с ним в партнерстве над оперой, в которой было два темпа: пятьдесят процентов музыки неслись с головокружительной скоростью речи, а другие пятьдесят шли в ритуально-медленном сонном темпе, непревзойденный образец которого дал Вагнер в «Тристане и Изольде».
Я до сих пор чувствую радость, которую испытывал в тот репетиционный период. Когда я показывал на какой-то момент в партитуре, пропущенный Менотти, он превращал его в чистое золото. Все, кто знает «Богему», помнят момент ближе к концу оперы, когда Мими умирает. После ее финальной реплики — слова «dormire» («усну») — наступает долгая тишина с ферматой (возможностью задержать паузу). Пуччини написал над ней слово «lunga» («длинная»), но обычно паузу делают короткой. Рудольф уходит в глубину сцены, и рука Мими падает. В этот момент дирижер вступает с аккордом до-диез минор, который сообщает о ее смерти.
Пуччини хотел сделать нечто гораздо более драматичное. Если последовать его инструкциям и сделать паузу действительно долгой, появится время, чтобы в аудитории накопилось напряжение, пока все персонажи на сцене, не понимая, что Мими умирает в одиночестве, продолжают заниматься обычными вещами. Мюзетта подогревает какое-то лекарство, а остальные пытаются вести себя тихо, чтобы не потревожить дрему Мими, и т. д. Потом, спустя секунд тридцать тишины, рука Мими падает. Она мертва, и об этом знают только зрители. (Тридцать секунд — невероятно долго, и пока звуковая пустота тянется, коллективное напряжение в зрительном зале непременно нарастает.) И вот мы слышим, как Рудольф с полным пониманием того, о чем эти молодые люди еще не знают, спрашивает: «Но где же доктор ваш?» Марселло отвечает: «Придет». Мюзетта начинает молиться Деве Марии о спасении Мими. Это блестящее использование тишины, музыки и слов, чтобы подготовить неизбежный взрыв горя.
Когда я указал на это Менотти, он в полной мере воспользовался тишиной, дав персонажам конкретные инструкции, что делать, пока они всё еще держатся за надежду на выздоровление Мими. Драматическая ирония здесь была практически невыносимой, потому что зрители знали, что сейчас произойдет, а музыка уже остановилась. Конец оперы, когда Джерри Хэдли тряс тело Шери Гринэволд, и ее голова безжизненно качалась взад-вперед, стал одним из самых сильных катарсисов, которые я пережил в театре. Сбылось всё, чего мог пожелать Пуччини. Главным здесь был композитор, в полную противоположность «Мадам Баттерфляй» в Турине и «Турандот» в Бильбао, которые ждали меня впереди.
Возможно, Менотти привык главенствовать, когда ставил собственные оперы (а ставил он преимущественно их). Однако когда ему заказали оперу для Беверли Силлз к ее пятидесятилетию, появилась специальная оговорка: в новой постановке будет работать многолетний друг Силлз дирижер Тито Капобьянко (они сотрудничали сначала в Сан-Диего, где он был художественным руководителем, а потом в «Нью-Йорк Сити опера», где Силлз была генеральным директором). Премьера оперы «Хуана Безумная» состоялась в Сан-Диего в 1979 году. Менотти опаздывал с завершением работы и, по рассказам, заперся в номере и вовсю писал, когда уже начались репетиции.
Через несколько месяцев спектакль привезли в Нью-Йорк на премьеру. Пригласили всех изначальных исполнителей, но сделали три важных изменения: название оперы сократили до «Безумной»; Менотти сочинил музыку для переходных моментов, которая объединила отдельные сцены; вместо Кэлвина Симмонса, дирижировавшего на мировой премьере, выбрали меня — не помню уже, по какой причине. К тому моменту я несколько раз работал с Джанкарло, был рад этому сотрудничеству и считал за честь дирижировать на постановке, где Беверли предстояло сыграть свою последнюю роль в полной опере.
На первой репетиции все собрались в зале театра «Нью-Йорк Стейт» (сейчас это театр Дэвида Коха). Поскольку артисты уже были готовы, мы сразу начали работать с певцами, одновременно воссоздавая постановку Капобьянко в Сан-Диего. После первой сцены мы остановились, чтобы обменяться замечаниями. Менотти попросил меня меньше делать рубато. Я с радостью согласился. Потом он сказал: «Если можно, я бы хотел, чтобы персонаж не стоял здесь, потому что он не должен подслушивать разговор». После небольшой паузы Беверли решительно возразила: «Джанкарло, я же говорила, никаких изменений». Менотти какое-то время переваривал эту фразу, а потом сказал: «Это не изменения, Беверли. Это просто не имеет смысла». Силлз повторила свое указание. Менотти, понимая, к чему идет дело, сказал: «Простите. Я написал либретто и музыку, и я знаю, где должны стоять персонажи». Последовала тишина. Никто из присутствовавших в той серой комнате не пошевелился. «Хорошо, — сказал он, — если мое мнение здесь не учитывают, я пойду». Тишина. С этими словами он надел пальто и вышел из комнаты.
Капобьянко, который прежде молчал, теперь заговорил. Он посмотрел на Беверли и сказал: «Спасибо». Силлз, как будто случившегося было недостаточно, шокировала всех последовавшей тирадой: «Да кем он себя возомнил? Он что, думает, эти спектакли продаются благодаря ему?» Оставшаяся часть монолога стерлась из моей памяти просто потому, что я никогда не сталкивался ни с чем подобным и мой мозг был занят попытками сообразить, как же поступить. С одной стороны, мне следовало уйти с Джанкарло и таким образом поддержать композитора. С другой — я только что переехал в Нью-Йорк с женой и годовалым сыном, а работа у меня была одна. Я быстро решил остаться, оправдывая себя практичностью этого выбора и единственной оставшейся возможностью защитить композитора — и избежать скандала.
Во время репетиционного периода я сновал из театра в квартиру Менотти и забирал у него новые ноты для дальнейших изменений. Я рассказывал ему, как хорошо всё идет. Мне кажется, по его мнению, я должен был отказаться от этой работы. Беверли видела во мне шпиона, верного Менотти, а не ей. Менотти говорил о судебном преследовании, и где-то еще сохранились письма, в которых об этом предупреждают «Нью-Йорк Сити оперу».
В день первого представления, 16 сентября 1979 года, я дирижировал на нью-йоркской премьере «Безумной». В конце, под аплодисменты, Силлз пригласила на сцену Джанкарло, и тот поклонился публике. В тот вечер он в первый раз услышал свою оперу целиком. На следующий день Гарольд Шонберг заклеймил в Times и Силлз, и Менотти. Он написал: «У мисс Силлз уже нет высоких нот для по-настоящему старомодной оперы», а также отметил, что музыке Менотти не хватает «настоящих идей» и что она «полностью полагается на заезженные обороты прошлого», но всё же указал, что композитора «тепло приняли в конце оперы». Как это ни парадоксально, он также отметил, что я «чисто провел выступление» — «вероятно, благодаря подготовке под руководством мистера Менотти». Только вот, за исключением первого дня в репетиционной комнате, мистер Менотти отсутствовал на сцене, и никакой подготовки под его руководством не было ни у меня, ни у остальных.
Беверли Силлз и я на нью-йоркской премьере «Безумной» в 1979 году
Трудно вообразить себе более оперную ситуацию: композитора сместила сопрано, которая одновременно выступала как генеральный директор оперной труппы. Беверли Силлз точно была главной.
Дирижирование оперы в идеале должно быть партнерством, но мы вступили в период, когда режиссерам разрешается редактировать и резать музыку. Более того, порой они чувствуют себя вправе требовать от композитора определенных темпов. Такое случилось со мной в перерыве на одной костюмированной репетиции несколько лет назад. Так как режиссер поставил часть оперы (колыбельную) в виде танца линди-хоп, ему понадобилось изменить характер музыки (четко обозначенный композитором). В таких ситуациях победителей не бывает.
Конечно, босс есть у каждого. Дирижерами, которые никогда публично не признают это обстоятельство, может руководить танцор, певец, режиссер-постановщик, администратор оперного театра — равно как и собственная репутация, акустика в зале, мастерство музыкантов, уже готовая постановка, музыка, живой композитор или чудовищная метрономная дорожка, точно задающая темп для музыки к кинофильму.
Способность давать концерты в формате кинопоказов под живую музыку стала обычным техническим требованием к дирижеру. Мы взяли это на вооружение в начале 1990-х в «Голливудской чаше». В то время еще не существовало цифровой проекции, и синхронизировать музыку с фильмом было всё равно что пытаться скакать на мустанге без седла. Идея, которую впервые опробовал Джон Гоберман в «Симфоническом вечере в кино» («Symphonic Night at the Movies»), состояла том, чтобы показать длинный фрагмент из фильма и исполнить музыку, сочиненную для его сопровождения. Это была нормальная практика в кинотеатрах 1920-х годов, когда музыка — фортепианная, органная или симфоническая — всегда сопровождала немые фильмы. Как только появилось звуковое кино и саундтрек композитора привязали к картинке, живое сопровождение стало ненужным и исчезло — до 1993 года.
Идея родилась благодаря нашему желанию найти рентабельные способы сыграть тысячи часов никогда не исполнявшейся симфонической музыки, которую сочинили для кино в Лос-Анджелесе. У нас было еще два способа эта сделать. Первый — просто играть музыку из фильмов, как любые другие симфонические произведения, разбив ее на блоки. Второй — выступить с полной партитурой и живыми актерами, читающими сценарий, как будто это масштабный радиоспектакль с полным симфоническим оркестром.
Кинопоказы в зале «Голливудской чаши» с ее оркестром, когда кино на большом экране сопровождалось живой музыкой, быстро стали традицией, и в результате мы нашли более действенные способы синхронизировать выступление с оригинальной звуковой дорожкой. Сначала мы играли только с клипами, музыка для которых была записана отдельно: мы просто отключали дорожку, оставляя только диалоги и звуковые эффекты и добавляя живое исполнение. Иногда мы играли только под длинные сцены — такие, например, как хореографический номер из фильма «Оклахома!», а порой повторяли звуковую дорожку, играя одновременно с записью. Так мы сделали с песней «Над радугой» («Over the Rainbow»), которую Джуди Гарленд пела под аккомпанемент оркестра MGM.
За следующее десятилетие мы с коллегами разработали новые приемы, включая цифровые метки, нанесенные на экран, которые выглядят как цветные ленты, бегущие справа налево. Они показывают, где должна «приземлиться» музыка. Кроме того, иногда мы пользовались другим методом для устойчивого темпа, например в марше или танцевальном номере. Я надевал наушники и слушал метрономную дорожку, что гарантировало полное совпадение темпа живой музыки с темпом записанного саундтрека[36].
Эти разнообразные приемы требуются, когда дирижеры аккомпанируют произведению искусства, в котором нет живого дышащего солиста. Кинокартине всё равно, поспеваете вы за ней или нет. Если вы играете слишком медленно, нужно набрать скорость и попасть куда необходимо. Но, как при обгоне машины на шоссе, вы слишком разгоняетесь, и затем вам приходится замедляться. Все эти разнонаправленные факторы продолжают действовать, пока вы пробираетесь через аккомпанемент, который (если вы сопровождаете целый фильм) может длиться значительно дольше часа.
Порой достаточно «мягкой синхронизации», и это значит, что можно просто держаться близко к изначальной звуковой дорожке. В других случаях дирижеру необходимо точно попасть в место, где в драме происходит какое-то действие, специально подчеркнутое музыкой. Конечно, всё это звучит неестественно, и в какой-то степени так оно и есть: дирижер становится слугой другого дирижера — того, кто изначально записал музыку для звуковой дорожки.
Однако, как и всегда, когда у вас есть начальник, здесь всё же существует заметная свобода в рамках заданных темпов, необходимых для сопровождения фильма. По большому счету, публика получает такой же комплексный эффект, как от опер Вагнера, когда их ставил сам композитор, настаивая на том, чтобы движения актеров были абсолютно синхронизированы с музыкой. Эта синхронизация достигалась совсем не так, как в процессе аккомпанирования фильму, но эффект и тут, и там один: музыка и движение связаны в аудиовизуальном единстве.
Критики в целом не понимают, зачем уважающему себя маэстро идти по следам другого дирижера. Коринна да Фонсека-Воллхайм из The New York Times так начала рецензию на показ «Братства кольца» с симфоническим оркестром, прошедший в апреле 2015 года: «Представьте себе музыкальную разновидность орков, порабощенных эльфов Толкиена, которых заставили служить культу всемогущего движущегося изображения, подчиняясь палочке зомбированного волшебника».
Да, иногда это так и ощущается, поэтому многие дирижеры просто отказываются принимать участие в концертах с кинопоказами, — хотя стоит сказать, что всё больше и больше «серьезных» маэстро соглашаются на них. Соответственно, дирижерам надо учиться делать такое. Мысль критика понятна: «Вовсе не отдавая должное искусству музыки для кино, этот марафон „Властелина колец“ только подчеркивает отказ от прав художника, которых требует жанр».
«Права художника» — фантастическая фраза, но над ней стоит поразмыслить. Я полностью понимаю, как вышеописанная практика может обескуражить тех, кто считает, что мы всегда должны пользоваться правами художника. Когда вы дирижируете музыку к кинофильму, который длится так же долго, как опера Вагнера, и понимаете, что зрителей почти не интересует сложность вашей работы, легко упасть духом. Зрители пришли, чтобы получить волнующий эффект от просмотра любимого кинофильма в совершенно новой подаче, и «фоновая музыка», которую играет огромный симфонический оркестр, выходит на передний план.
Все дирижеры, исполнители, композиторы и зрители сегодня переходят к новому этапу благодаря растущим возможностям исполнять новую и относительно недавно написанную симфоническую музыку, к которой, в конце концов, относится большинство саундтреков. Цифровая проекция вместо отрывков на целлулоидной кинопленке позволяет учиться и тренироваться, загружая подготовленные фильмы на персональные компьютеры. Только в 2015 году я согласился дирижировать музыкальное сопровождение к целому фильму. Концерт был в Токио, а исполняли мы музыку Дэнни Эльфмана к «Алисе в Стране чудес» Тима Бёртона. Поскольку диалоги шли не в дубляже, а в оригинале, выступление сопровождалось субтитрами на японском. Когда я дирижировал то же произведение в Альберт-холле, компания Disney решила не использовать английские субтитры. В результате во время выступления началась оживленная дискуссия между композитором и администрацией зала, которая хотела сделать звук как можно громче, чтобы зрители различали слова.
Эльфман верно заметил: «В Токио был концерт с визуальным сопровождением. А в Лондоне — фильм». Впоследствии Disney согласилась включать английские субтитры на всех будущих показах, в том числе и в англоязычных странах, — точно так же, как в оперных театрах используют супертитры, даже когда большая часть зрителей понимает язык постановки.
Стоит сказать, что мы, дирижеры, многому учимся на опыте. Никто не замечает нас в темноте под экраном, но необходимость контролировать колебания темпа в течение продолжительного времени, чтобы синхронизировать их с фильмом, требует уровня концентрации, который представляет беспрецедентно сложную техническую задачу. Это очень долго, сложно и грозит опасностями.
Аккомпанируя старым фильмам, имитируешь дирижирование Эриха Вольфганга Корнгольда, Макса Штайнера, Миклоша Рожи, Франца Ваксмана, Бернарда Херрмана и Леопольда Стоковского. Ни на одном дирижерском отделении не научат, как воспроизвести темпы Стоковского в «Фантазии». Удивительное превращение слабой восьмой ноты в половинную, которое он сделал, поднимая и поднимая руки, становится физической реальностью, когда вам нужно это повторить. Новые технологии уводят нас всё дальше в прошлое и развивают наши технические возможности. Мертвые дают нам уроки, которые никто не поймет, не попробовав сделать что-то самостоятельно. Я аккомпанировал Джуди Гарленд, Мэрилин Монро, Фреду Астеру и Джинджер Роджерс, Фрэнку Синатре и Джину Келли. Я знаю, каким было их чувство рубато, как они ласкали некоторые ноты, шли вперед с другими и делали естественные портаменто — скольжение от ноты к ноте, когда хотели подчеркнуть музыкальный или драматический момент.
Из многих покойных солистов, которым я аккомпанировал на сцене «Голливудской чаши», включая Джорджа Гершвина, чье исполнение «Суони» было записано на перфоленту для механического пианино, и Эриха Вольфганга Корнгольда, игравшего на рояле, самым большим вызовом и откровением стала вторая часть Второго концерта для фортепиано Рахманинова, сыгранная самим композитором.
Джуди Гарленд поет с оркестром «Голливудской чаши» в 2002 году
Рахманинов согласился «нарезать» версию своего популярнейшего произведения в марте 1919 года после того, как механизмы, созданные American Piano Company (Ampico), стали настолько точными, что никто, слушая из-за занавеса, не мог сказать, кто играет: человек или автомат. Рахманинов сыграл весь концерт, и машина нанесла информацию о тоне, скорости, тембре, движении педалей и всем остальном на движущуюся бумажную ленту. Этот рулон для механического фортепиано планировалось использовать в случаях, когда Рахманинов не мог играть лично.
Во время моей работы в «Голливудской чаше» я узнал, что существовала копия только второй части, и эту информацию можно было перенести с перфоленты на компьютер, отсканировав, а потом сыграть на Yamaha Disklavier — акустическом рояле, в котором для воспроизведения используются электромагнитные катушки (соленоиды). Вторая часть концерта Рахманинова была завершена, и, за исключением дублирования первых аккордов оркестра, имелась возможность вынести рояль на сцену «Голливудской чаши» и аккомпанировать Рахманинову — в случае, если я буду готов запомнить каждый оборот в его невероятно свободном исполнении. В конце концов, он играл то, что сочинил сам.
Хотя Рахманинов записал Второй концерт для фортепиано со Стоковским и Филадельфийским оркестром в 1929 году, наш случай был совершенно другим. У нас рояль действительно играл, педали и клавиши ходили вверх и вниз. Оркестру предстояло играть вживую, реагируя на исполнение Рахманинова через мои жесты. Чтобы сделать всё это еще более странным и чудесным, рояль поместили прямо там, где Рахманинов в последний раз играл свой любимый концерт на сцене «Голливудской чаши» 18 июля 1942 года, за семь месяцев до смерти в Беверли-Хиллз. Мы с оркестром «Голливудской чаши» выступили с этим концертом три раза: 15, 16 и 17 сентября 2000 года, и я стал единственным ныне живущим дирижером, который аккомпанировал Рахманинову.
Я многому научился, сопровождая фильмы и ушедших из жизни артистов, а также повторяя движения за коллегами, которые наблюдали самых первых дирижеров XIX века, и, хотя учеба была изматывающей и не принесла мне славы, любой маэстро почерпнул бы у предшественников много полезного для исполнения музыки в наши дни. Это вовсе не отказ от права художника, а предельно бесстрашный акт смирения, поскольку в конечном счете главные здесь — ушедшие дирижеры.
Глава 8. Одиночество странствующего маэстро
Два слова, точно два химических элемента, могут быть абсолютно нейтральны, пока их не соединят и они не станут взрывной смесью. Для дирижера такие слова — глагол «наслаждаться» и существительное «процесс».