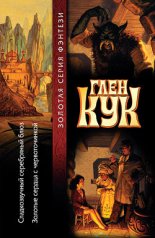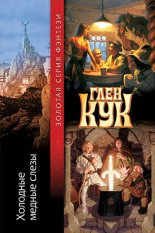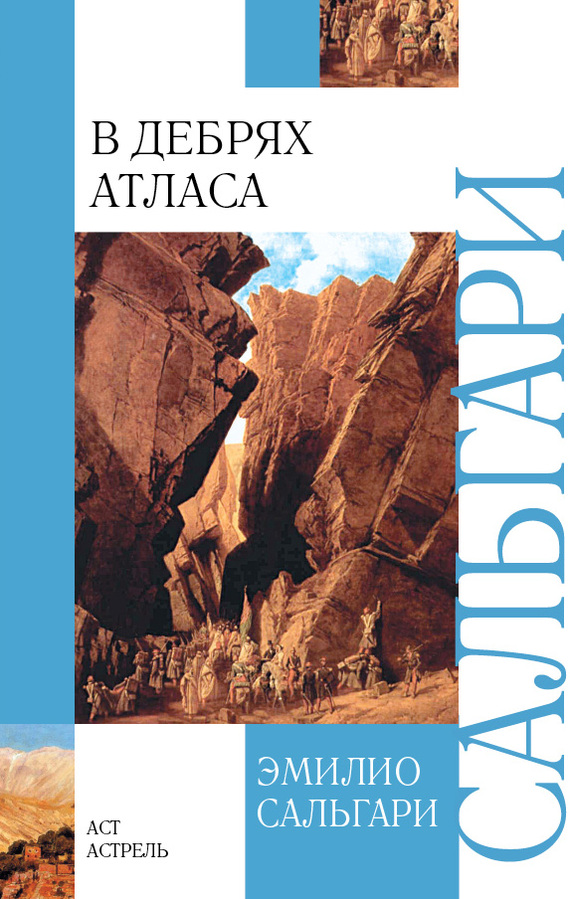Хозяин болота Алексеев Сергей
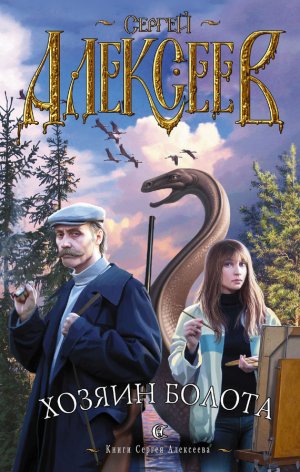
Ирина прошла мимо, держа на руках непросохшие холсты, как держат иконы во время крестного хода.
Баська уткнулся в ноги хозяину и выгнул спину, поджимая живот.
– Ты чего, Баська? – испуганно спросил Никита Иваныч.
Кобель тупо уставился на хозяина красными глазами и качнулся. Из его пасти откровенно несло крепким водочным перегаром.
«В то-о-ой степи-и глухо-о-ой схорони-и меня-я-я…» – орал кто-то в пустующей избе напротив аникеевского дома.
– Баська, домой! – скомандовал Завхоз.
Пес пугливо шарахнулся, но тут же развернулся к хозяину и оскалил пасть в немом рыке. Никита Иваныч поднял с земли сук и со всей силы вытянул кобеля по боку. Отброшенный ударом, он перевернулся и, повизгивая, уполз в подворотню. Не выпуская из рук палки, дед Аникеев поднялся на крыльцо пустующей избы и распахнул дверь. В полумраке заброшенного жилища, на голом некрашеном полу спали неизвестные люди. Дурной, болезненный храп вырывался из гортаней, кто-то стонал и просил пить, будто раненый в госпитале, шелестели сухие губы и языки. Только один мужик, голый до пояса, сидел у растворенного окна и выкрикивал песню.
– Здорово, люди добрые! – поприветствовал дед Аникеев и встал у порога.
Мужик резко оглянулся и, вытаращив кровяные глаза, прижался спиной к подоконнику.
– Черт, черт! – выкрикнул он. – Уйди от меня! Не трогай! Не трогай меня!
– Сам ты черт! – бросил Никита Иваныч. – Вы что за люди? Откуда прибыли? Кто такие?
Мужик потряс головой, сморщился:
– Фу… И напугал же… Чего ты такой грязный? – Он осмелел и глянул на старика с любопытством. – А самогонки у тебя не найдется, папаша? Голова трещит – труба.
– Кто такие? – сурово спросил дед Аникеев и пристукнул сучком об пол. Он заметил, что за большой русской печью стоит единственная раскладушка, на которой кто-то спит, укрывшись белым, чистым одеялом. Рядом с кроватью, на табурете, лежала аккуратно свернутая одежда.
– Люди мы, люди, старина, – забормотал полуголый. – И душа горит у нас. Дай самогонки, а? Не дай пропасть похмельной смертью. Ты, может, это… хозяин этой избы? Так, прости, гостям должен рад быть. Чего строжишься?
– Хозяин! – отрезал Завхоз. – Говори, зачем в Алейку пожаловали?
– На какое-то болото… – тоскливо протянул полуголый, сжимая голову. – Мелио… мелио… орировать…
– Как это? – не понял дед Аникеев.
– Черт его знает, – сказал мужик, страдая от головной боли, – кажется, обводнять… Дай, старичок, мале-енечко…
– Обводнять? – ахнул Завхоз и чуть не сел на порог. – Да неужто обводнять?
– Ну… – простонал полуголый, – то ли обводнять, то ли осушать – не помню. Что-то нам говорили…
Он почувствовал, что старик заинтересовался, и, ожив на минуту, глубокомысленно потер лоб.
– Та-ак, – проронил мужик. – В пустыне мы чего-то осушали. Потом ездили обводнять… Потом опять осушали… В том году обводняли… Значит, нынче осушать будем. Ну так налей, дед, грамм сотню-другую, а? Захочешь – осушим, захочешь – обводним. Мы такие ребята…
– А точнее-то знаешь? – напирал Завхоз.
– Точнее у начальника спроси. Мы люди подневольные, под хозяином ходим. Эй, Кулешов, тут старик пришел. – Полуголый, ступая через спящих, подобрался к раскладушке. – Говорит, самогон есть. Купи, а?
– Чего тебе, Колесов? – сердито спросил начальник и отвернулся лицом к печке. – Ты угомонишься наконец? Ну, алкаши, завтра я вам дам! Капли у меня не получите.
– Старикан, грю, пришел, – мужик попытался сделать стойку «смирно», – про работу пытает.
– Где? – Кулешов приподнялся на локте. – Зови сюда.
Никита Иваныч, стараясь не наступать на спящих, пробрался к начальнику. Колосов терпеливо ждал, сглатывая сухим горлом.
– Если ты наниматься, старик, то работы пока нет, – сухо сказал начальник. – Погоди немного, через месяц будет. Сейчас нам только повариха нужна.
И дед Аникеев вдруг растерялся. Он узнал того самого человека, что встретил на распутье недалеко от поселка. Дорогу еще показал тракторной колонне.
– Я это… спросить хотел, – замялся дед. – Вы, значит, болото наше обводнять приехали?
– Почему обводнять? – Кулешов зевнул. – Наоборот. Осушать будем и торф добывать. Ну ты через месяц приходи – потолкуем. А может, старуху свою поварихой пришлешь?
– Я же писал… – окончательно растерялся дед Аникеев. – Зачем – торф? Зачем добывать?
– Как зачем? – вздохнул Кулешов и, улегшись, накрылся одеялом. – Электростанцию построили, а топлива не хватает… Говорят, мощность набрать не может… – И, засыпая, добавил: – Энергетический кризис… А вам потом сюда электричество проведут. Заживете…
Никита Иваныч попятился и, наступив на чью-то руку, чуть не упал на тяжело дышащих людей. Однако, сохранив равновесие, он развернулся и побежал к двери.
– Эх, ну и люди же зде-есь, – тоскливо протянул Колесов. – Умирать станешь – воды не подадут.
Дед Аникеев вылетел на улицу и остановился, вытирая взмокревший лоб. Угрюмые бульдозеры, опустив лопаты на землю, краснели под восходящим солнцем. Приходя в себя, он обошел технику, оценивающе глянул на болотоходные гусеницы и вдруг, схватив кирпич, со всей силы трахнул им в зубастый радиатор крайнего трактора.
7
Потом он долго сидел у себя на крыльце, переваривая в уме все, что произошло за последние несколько часов. Вспоминал, как шли они с Ириной от болота, как радовался он, посматривая на дочь: а ну как и впрямь сбудется старая примета? Сколько же ей может не везти? Лет пятнадцать рисует, но ни одной картины Никита Иваныч не видел, кроме этюдов. Других художников в видякинских журналах печатают, статьи про них пишут (Аникеев интересовался всем, что связано с художниками), а про дочь хоть бы словечко. Ирина-то говорит, будто в выставках участвует, да где эти выставки увидишь, если в Алейке живешь? Старик и гордился дочерью, и одновременно ощущал какую-то ущербность: выходило-то, будто Никита Иваныч, рассказывая об Ирине-художнице, немного привирал. Кто ее знает? В Алейке, конечно, знают, но как его дочь. А другие люди? Если же ты известный человек, считал дед Аникеев, то тебя везде должны знать и узнавать. Вот и он сам работал завхозом, так любого спроси – ответит. Не зря должность и в прозвище перешла.
Конец дочериному невезению должен был наступить. Ишь как у нее хорошо журавли получились, а про Хозяина и слов нет: озноб по коже. Глядишь, так и пойдет у нее с рисованием, да еще замуж выйдет!
Хорошо ему думалось, когда шли с болота в Алейку. Тут же будто о стену ударился: ждал обводнителей – приехали осушители.
И никак не мог охватить умом, взять в толк, почему такое случилось. Ведь как на смех вышло, что он сам показал дорогу этой компании на бульдозерах, сам привел их в Алейку, посоветовав там, на распутье, ехать по его следу.
Никита Иваныч страдал. Катерина, хлопоча по хозяйству, несколько раз окликала его, звала в избу, однако он сидел мертвяком.
– Всю ночь где-то черти носили, – поругивалась старуха. – Теперь сидит как пень. Сбесился уж совсем.
– Беда, Катя, – пробубнил дед Аникеев. – Беда пришла…
Разобраться одному в этакой заварухе было не под силу. В другой бы раз он тут же побежал к Ивану Видякину, но вспомнил, что вчера только у них вышла размолвка. К кому еще пойдешь, если населения в Алейке три с половиной мужика? И все-таки, подумав, Никита Иваныч остановился на Пухове. По крайней мере с ним ругались давно и пора мириться. Подбадривая себя, что сосед – вовсе человек не плохой (а вывертов у кого не бывает?), дед Аникеев как был в затертой болотной жижей одежде, так и подался к Пухову.
Надо сказать, Пухов страдал не меньше Аникеева, причем уже давно. Пока его избирали на общественные должности, единственный офицер-фронтовик (с войны пришел младшим лейтенантом) ходил по Алейке гоголем и даже деревянной ноги под собой не чуял. Во всем разбирался, везде поспевал, и цены, считали, ему не было. Случится кому развод затеять – Пухов уже здесь, как депутат сельсовета. Если не помирит мужика с бабой, то уж вещи разделит – обиженных нет. Или приедет из района уполномоченный какого-нибудь общества – взносы собрать, агитработу провести, – сразу к Пухову и уже с ним идет по дворам.
Но года полтора назад, когда леспромхоз почти уже закрылся – начальство с конторой уехало, а кое-какие рабочие еще оставались, – Пухова разжаловали, можно сказать, до самого нижнего чина – до рядового алейского жителя. Случилось это так. Однажды в Алейке прослышали, что повсюду в деревнях и городах создают товарищеские суды. Мероприятие, конечно, нужнейшее, особенно для такого поселка, как Алейка, где ни сельсовета не стало, ни участкового, ни какого-нибудь другого органа власти. Но жизнь-то общественная – куда ее денешь? – текла, и то пьяница надебоширит, то какое мелкое воровство обнаружится, то злоба между соседями из-за свиньи, которая в чужой огород залезла и грядки потравила. Пухов съездил в сельсовет, уточнил, верный ли слух про суды, и не долго думая собрал алейцев в клубе и объявил, дескать, давайте свой товарищеский суд организуем и председателя выберем. Кандидатуру жители Алейки не обсуждали – кого же еще, как не Пухова? Пухова избрали председателем, а членами трех мужиков, среди которых и Никита Иваныч оказался. Ждать дела долго не пришлось. Скоро в Алейке произошло ЧП: семья вербованных (и семьей-то трудно назвать, сошлись да живут вдвоем), Валентин и Валентина, напившись, чего-то не поделили и разодрались. Она его ударила по голове противнем, а он ее свалил на пол, облил ацетоном и поджег. Валентина выскочила из избы пылающим синим факелом и понеслась вдоль улицы:
– Помогите! Заживо сгораю! Из-за него, проклятого!
Никто и сообразить толком ничего не успел, а Валентин выбежал за ней с одеялом, сбил на землю и потушил огонь. Потом у всего честного народа на глазах взял ее на руки и понес в дом. Несет, целует ее, ластится и приговаривает:
– Милая ты моя, родненькая ты моя, солнышко мое…
Нечто подобное уже случалось в этой семье. Считай, как у них выпивка, так без приключений не обходится. Но на сей раз товарищеский суд решил положить этому конец. Пухов собрал заседание, вызвал Валентина и начал судить.
– В тюрьму его, паразита! – кричала подвыпившая Валентина. – Житья от него нету! Так и маюсь с ним который год!
И народ, присутствующий на суде, тоже стал возмущаться, особенно женщины. Мол, потрафь Валентину сегодня – завтра наши мужики поджигать начнут. Кроме того, другие обвинения посыпались: на работе прогуливает, дрова у соседей приворовывает, в магазине всегда без очереди лезет. Страсти накалил еще и сам Пухов.
– Обливать человека горючим и поджигать – чистой воды фашизм, – сказал он в обвинительной речи. – Это неслыханное преступление, за которое полагается самая суровая кара.
И Валентина приговорили к расстрелу…
В запалке-то приговорили, а как опамятовались – уже после суда, – стали мараковать, что к чему. Надо ведь кому-то приговор приводить в исполнение. Тут еще дед Аникеев раздумывать начал: а можно ли к расстрелу-то? А имеем ли право? И вообще, есть ли у председателя бумаги, где написано, что за штука – товарищеский суд? Валентина же, услышав приговор, вдруг кинулась к мужу на шею, обняла, заревела, запричитала:
– Миленький ты мой, родной мой, любимый! Да не хотела я!..
Он ее тоже обнял, плачет, прощения просит и напутствие дает:
– Ты уж по мне-то долго не убивайся. Найдешь кого – выходи замуж. Хоть остаток жизни хорошо проживешь.
А она:
– Не хочу хорошо! Хочу – как было!
Едва их растащили. Пухов все-таки распорядился одному члену суда пойти домой, взять двустволку и привести приговор в исполнение. Исполнительный член принес ружье и повел Валентина за поскотину. Никита Иваныч, опомнившись наконец от гневной речи председателя суда и сообразив, что на его глазах происходит ужасное беззаконие, кинулся к Ивану Видякину, человеку от общественной жизни далекому, и с его помощью отбил несчастного от рук «правосудия». Дед Аникеев с Пуховым тут же вдрызг разругались, даже за грудки похватались, но их вовремя разняли подоспевшие по тревожному сигналу начальник милиции и прокурор.
Пухову учли его фронтовое прошлое и только разжаловали до самых низов. А так он человек был хороший, попроси помощи – никогда не откажет и совет иногда получше Ивана Видякина даст. Как ни говори, но Пухов далеко умел смотреть и в людях разбирался.
А Валентин же все-таки укокошил свою Валентину…
Пухов завтракал, сидя за столом в рубахе, кальсонах и без протеза. Старик был бобылем и все хозяйство вел сам.
– А-а, давненько не заглядывал, Никита Иваныч! – обрадовался Пухов. – Давай присаживайся, поснедаем, заодно новости расскажешь. А то я прихворнул, дома сижу…
Дед Аникеев придвинул табурет и сел, облокотясь на стол.
– Погоди-ка! – Глаза Пухова озорно и испытующе блеснули. – У меня бутылочка есть, припрятана. Давно берегу.
Завхоз знал, что эта бутылочка – мировая, но сейчас ему было не до этого. Хозяин пошарил рукой за печкой, не вставая со скамейки, и вынул «Перцовку».
– Новости одни нынче, – проговорил Никита Иваныч. – Трактора видел?
– Видел. – Пухов щедро наполнил стаканы.
– Болото наше зорить приехали!
– Ну?
– Торф добывать для электростанции.
– Это хорошее дело, – одобрил Пухов. – Электрификация – наша сила.
– А болото как же? – возмутился Завхоз. – Журавли-то улетят!
– Да-а, – протянул сосед. – Куда ни кинь – везде клин. Ну, хрен с ним, давай!
Минут через пять они завеселели, раскраснелись и заговорили громко.
– Я письмо в Москву написал, жалобу, – сказал дед Аникеев. – Пока оно ходит туда-сюда – болото надо защищать. А то они здесь такого наворочают, потом не расхлебаешь. Я журавлей пугать не дам.
– И я не дам! – согласился Пухов. – Я как член общества охраны природы не дам. Айда к ихнему начальнику. Наложим запрет и точка.
– Ага, ему наложишь, – не согласился Завхоз. – Я уже с ним разговаривал… У него глазищи – так и жгет… Слово сказать – язык не поворачивается.
– Видали мы таких! – разошелся Пухов. – Я на фронте перед немцем не дрогнул, а перед этим и не моргну!
И снова несколько минут они сидели молча, уставившись на вытертую до ткани клеенку на столе.
– Словом его не проймешь, – заверил Завхоз. – Тут другое средство нужно. Как с врагом надо действовать.
– Как это… как с врагом? – насторожился Пухов и, склонив голову набок, заглянул гостю в глаза.
– А так. Помнишь – на фронте?
– Ну! На фронте-то я помню! – оживился сосед. – Бывало, лежим мы на берегу Волги под самыми стенами Сталинграда…
– Во! И здесь так же! – Никита Иваныч вскочил. – Ты пока собирайся, а я пошел за ружьем. Ляжем у болота и не пустим. В засаде будем. Как на фронте: мы тут, а там враг. Перестреляем всех и баста!
Пухов секунду колебался, и глаза его стремительно бегали по стенам избы.
– Давай! – рубанул он. – Кто здесь хозяева? Мы! Нам и распоряжаться!
Дед Аникеев ворвался в свою избу. Ирина спала, положив голову на обеденный стол, а перед ней был сотворенный ею Хозяин.
– Ох! – только и произнесла Катерина. – Конец света, истинный Бог! Приезжие всю ночь только с хлебом ее не жрали, Баську нашего напоили, и ты с утра выпимши. Что же это делается, Господи?
– Беда, старуха, – полушепотом сказал Никита Иваныч, чтобы не разбудить дочь. – Болото зорить приехали, беда.
Он бросился к спинке кровати, за которой стояло ружье, вытащил его и метнулся к полке.
– Чего ты? – испугалась Катерина. – Куда?
– Где патронташ? – Завхоз обшарил полку, отыскал патроны и направился к двери. – Не дам. Не пущу проклятых вредителей!
Ирина спала, а Хозяин, как живой, тянул к ней маленькую головку, чуть приоткрыв клювообразный рот с мелкими зубами…
А в Алейке тоже спали. Лишь с окраины, где жил Иван Видякин, доносился стук топора и курился дымок из трубы. Завхоз вернулся к Пухову. Тот уже стоял в полной форме – китель военного покроя с глухим воротником и медалями, защитного цвета галифе, хромовый сапог и полувоенная фуражка с большим козырьком. Пухов возился с протезом, подтягивал ремни, долго привязывал пустую штанину. Завхоз торопил. Наконец Пухов справился с деревяшкой и бросился искать клюку.
– Да не костыль – ружье бери! – прикрикнул Никита Иваныч.
– Оно же поломано, – сказал Пухов, звякая медалями. – Который год открыть не могу…
– Врешь?
– Что мне врать? Что мне врать? – забормотал сосед, и глаза его забегали в поисках клюки. – Вон гляди.
Глядеть было некогда. Мелиораторы могли вот-вот проснуться, завести бульдозеры и поехать на болото. А до него еще пешком семь верст…
– Ладно, пошли так! – распорядился Завхоз. – Только не отставай.
Они вышли на улицу и направились по дороге к болоту. Ковылявший Пухов вдруг остановился.
– Никита, а может, и Ваньку Видякина взять? Ванька – мужик молодой, крепкий.
– Пошел ты с этим Ванькой! – разозлился дед Аникеев. – Не отставай!
– А зря, зря, – пришептывал Пухов. – У них же трактора. А это, считай, танки. Куда мы с тобой против танков?
– Что, кишка слаба? – на ходу спросил Завхоз, тем самым ударив его в самое уязвимое место.
– У меня-то? – взбодрился Пухов и выгнул грудь. – Да я их!
Он потряс клюкой, и медали зазвенели. Их было четыре всего: одна «За оборону Сталинграда» и три значительные – «За отвагу». Но гордился Пухов больше первой медалью, и все рассказы о войне начинались у него со слов: «Лежим мы, значит, на берегу Волги под стенами Сталинграда…»
Дед Аникеев наградами похвастаться не мог. Дело в том, что всю войну он простоял на дальневосточной границе против японцев и лишь в ее конце ходил походом через Большой Хинган громить Квантунскую армию, за что и получил единственную медаль.
По дороге Завхоз наставлял Пухова:
– Как пойдут – ори: «Не смейте трогать!», «Вредители!» Понял? Поворачивайте, мол, назад!
– Да я уж знаю, что им сказать! – раззадоривался Пухов. – Я как член общества охраны природы имею право!
Где-то на половине пути сели отдохнуть: Пухов сильно отставал, а когда начинал спешить – ковырял протезом землю и шагал еще медленнее. Однако едва они спустились на бровку дороги, как за спиной пулеметно застрекотали тракторные пускачи. Это означало, что мелиораторы проснулись. Завхоз поднял Пухова и повел дальше.
Оборону заняли недалеко от кромки болота, залегли в куче полусгнивших хлыстов у дороги и стали ждать.
– Эх! – вздохнул Пухов, оглядываясь на чистую ширь болота. – Лежим мы вот так же на берегу Волги под стенами Сталинграда – жарынь, пылюга!.. Немец прет, а нам, значит, приказ: «За Волгой земли нету!» А он крупным калибром ка-ак чесанет-чесанет! Осколки как поленья…
Гул тракторов приближался. Завхоз зарядил ружье.
– Я-то взводным командиром был, – продолжал Пухов, в который раз рассказывая одну и ту же историю. – А здесь кричат по цепи – ротного убило! Веришь, осколком-то как топором – напополам… Меня такое зло взяло, ну прямо как сейчас. Выскочил я из траншеи, кричу: «Рота! В атаку, за мной!» Командование, значит, на себя принял. «За Родину! – ору. – За Сталина!» Мой взвод поднялся, а за ним вся рота пошла. Только из окопов-то поднялись – мне осколком по ноге… Упал я назад в траншею, гляжу – мать моя! Ноги-то как не бывало! Кость этак вот торчит – бе-елая… Глянул – рядом ротный наш лежит. Вот, говорю, и отвоевались мы с тобой…
Над дорогой сначала взвился столб пыли, сносимый ветерком, а потом из-за поворота вырулил первый бульдозер. Мелко задрожала земля…
– Замолчь, – приказал Никита Иваныч и, поднявшись во весь рост, взял ружье на изготовку.
Старик Пухов тоже поднялся и подтянул к себе клюку.
– Сто-о-ой! – заорал дед Аникеев и выпалил в воздух.
– Погоди, – зашептал Пухов. – Ближе подпустим…
– Куда уж ближе! Стой, говорю!
– Не смейте трогать! – прокричал Пухов и стукнул костылем по бревну.
Трактор остановился и сразу же окутался облаком пыли. Когда пыль чуть рассеялась, Завхоз увидел, что из кабины выскочил начальник Кулешов и остановился, облокотившись о бульдозерную лопату.
– Не дам! – крикнул Никита Иваныч и зарядил ружье. – Назад! Иначе стрелю!
– Вредители! – фальцетом поддержал Пухов, и протез его отчаянно скрипнул.
Кулешов оттолкнулся от лопаты и, заложив руки за спину, двинулся к старикам. Он шагал твердо, поднимая сапогами стремительные облачка пыли. Расстояние сокращалось. Вывалившие из кабин мелиораторы встали плотным рядом впереди тракторов и замерли.
– Назад, говорю! – Завхоз выпалил в голубое чистое небо.
Пухов вздрогнул от выстрела и тоже сказал:
– Вредители…
Кулешов, не доходя пяти шагов, остановился, широко расставив ноги.
– Не смейте трогать болото, – твердо произнес Никита Иваныч. – Добром прошу – уходите.
Начальник вдруг улыбнулся:
– Здорово, партизаны! По какому случаю залпы?
– Не дадим болото зорить, – ответил дед Аникеев. – Журавли пропадут. Езжайте отсюда.
– Какие журавли? – спросил Кулешов. – При чем здесь твои журавли, когда мне торф нужен? Освободите дорогу!
– Не пущу! – Завхоз наставил ружье. – Убирайтесь!
– Болото твое? – спросил Кулешов, прищурив глаза. – Или все-таки государственное?
– Государственное, – с честью сказал дед Аникеев.
– Тогда прочь с дороги, самозванцы! – отрубил начальник звенящим от напряжения голосом. Взревели моторы, и колонна тронулась к болоту.
Никита Иваныч дрогнул, и ствол ружья опустился.
– Пали! – выдохнул Пухов, протез у него подвернулся, и старик рухнул на землю.
– Живо, живо! – поторопил начальник. – Некогда с вами, работать надо!
Завхоз, опираясь на ружье, сел рядом с упавшим товарищем.
Колонна бульдозеров проехала мимо и, развернувшись фронтом, остановилась у кромки болота. Никите Иванычу запорошило глаза. Он отер их кулаком, однако резь только усилилась. Смотреть стало больно.
Из кабин тракторов высыпали деловитые, сосредоточенные люди с теодолитами, рейками и, посовещавшись, направились в глубь мари. Они двоились, троились в глазах деда Аникеева, и казалось, на болото наступает развернутый в цепь полк.
– Из-за тебя все, – проронил Завхоз. – А кричал – я! С танками справлюсь, глазом не моргну…
– Чуть что – все из-за Пухова! – обиделся Пухов. – Вечно Пухов виноват! Вам не угодишь: то круто, то слабо.
– Пропало болото… – тихо сказал Никита Иваныч. – В одном государстве живем, а разобраться не можем.
– Конешно! – подхватил Пухов. – Потому что режиму никакого не стало, порядку.
– Да пошел ты отсюда со своим режимом! – Дед Аникеев выматерился, щуря глаза и пытаясь сморгнуть сор.
– Ну и пойду! – возмутился Пухов и, резко вскочив, заковылял по дороге. – Я под Сталинградом хоть знал, с кем воюю. А здесь? Против кого стоять?
– Пуганая ворона куста боится! – огрызнулся Завхоз. – Вали-вали!
Пухова словно током пробило. Он замер на мгновение, ссутуля спину, перекосился на один бок и затем тяжело побрел в Алейку. Обида была смертельной.
А в глазах деда Аникеева вдруг просветлело: сор вышел вместе со слезой.
8
Несколько дней Завхоз не выходил из ворот двора. Вставал рано и, надев калоши на босую ногу, в кальсонах и рубахе подходил к забору и, облокотившись, подолгу наблюдал за новыми соседями. Мелиораторы собирались на работу, завтракали, сидя за столом во дворе, хохотали, шутили друг над другом, молодые, довольные жизнью и уверенные в себе. Они радовались хорошей погоде, деревенскому воздуху, летающим пчелам (пока, правда, одного из них здорово не покусали). Иногда несколько мужиков бегали в одних трусах на речку купаться, ревели там бугаями и дурачились, как ребятишки. Их начальник Кулешов по утрам был мрачноватый и неразговорчивый, зато вечером, когда рабочие засыпали, он брал гитару и подолгу играл и пел, сидя на крылечке. Надо сказать, получалось у него хорошо, как по радио. Никита Иваныч порой даже заслушивался и забывал, кто играет и поет. Казачьи песни – а родом дед Аникеев был из казаков – чуть слезу не прошибали. «По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой…» Или: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить…»