Дом Ротшильдов. Пророки денег. 1798–1848 Фергюсон Ниал
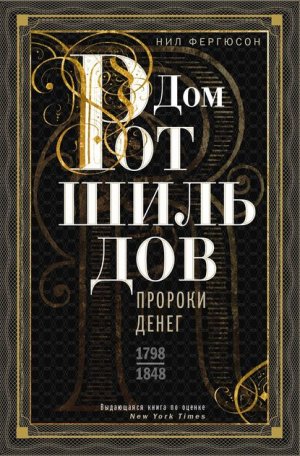
Niall Ferguson
The House of Rothschild:
Money’s Prophets 1798—1848
The House of Rothschild: Money’s Prophets 1798–1848 Copyright
© 1998, Niall Ferguson All rights reserved
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2019
© «Центрполиграф», 2019
Введение
Реальность и миф
Как заметил однажды 3-й лорд Ротшильд, «банковское дело – по сути перемещение денег из пункта А, где они находятся, в пункт Б, где они нужны». В его словах содержится определенная простая истина, пусть даже они и отразили личное нежелание Виктора Ротшильда заниматься финансами. Но, если бы в истории фирмы, основанной его прапрадедом два века назад, не было ничего, кроме перемещения денег из пункта А в пункт Б, она навевала бы скуку. На деле же все не так.
За всеми банками стоит история, хотя не все заказывают исторические исследования. Однако своя мифология есть только у Ротшильдов. Начиная со второго десятилетия XIX в. семью окружают многочисленные слухи и домыслы. Говорят о последствиях их стремительного взлета по общественной лестнице; об их политическом влиянии, не только в пяти странах, где имеются банкирские дома Ротшильдов, но и по всему миру; об их иудаизме. В результате мифы оказались почти такими же долговечными, как и сам банкирский дом «Н. М. Ротшильд и сыновья». Фамилия «Ротшильд», которая переводится с оригинального немецкого как «Красный щит», возможно, не так хорошо известна в наши дни, как сто лет назад, когда, как заметил Чехов, умирающий русский гробовщик мог иронически прозвать так бедного еврейского музыканта [бедный еврейский музыкант носил «фамилию известного богача Ротшильда»]1. Но большинству читателей фамилия знакома хотя бы потому, что она до сих пор более или менее часто мелькает в прессе. Возможно, банк Ротшильдов уже не тот финансовый гигант, каким он был на протяжении столетия после 1815 г., а семья гораздо больше рассредоточена, в том числе территориально, и разобщена. Однако фамилия «Ротшильд» по-прежнему привлекает к себе внимание – иногда нездоровое. Даже те, кто совершенно не разбирается и не желает разбираться в финансах, по крайней мере один-два раза в жизни натыкались на эту фамилию. Благодаря, очевидно, наследственной склонности членов семьи к зоологии и садоводству в мире насчитывается не менее 153 видов или подвидов насекомых, в названии которых увековечена фамилия «Ротшильд», а также 58 птиц, 18 млекопитающих (в том числе жираф Ротшильда (Giraffa Camelopardalis rothschildi), 14 растений (в том числе редкая орхидея Пафиопедилюм Ротшильда (Paphiopedilum rothschildianum) и лилия Глориоза Ротшильда (Gloriosa Rothschildiana), – не говоря уже о трех рыбах, трех пауках и двух рептилиях. Столь же часто проявляющаяся у членов семьи склонность к вкусной пище также увековечила фамилию в суфле (которое готовят с засахаренными фруктами, бренди и ванилью) и острой закуске (креветки, коньяк и сыр грюйер на тосте). В Израиле в честь нескольких членов этой семьи названы города и многочисленные улицы; вина, которые делают на принадлежащих Ротшильдам виноградниках в Мутоне и Лафите, пьют во всем мире. От долины Эйлсбери до Ривьеры известны дома, построенные Ротшильдами. Есть даже остров Ротшильда в Антарктике. Шопен и Россини посвящали Ротшильдам музыкальные, а Бальзак и Гейне – литературные произведения. Не менее знамениты Ротшильды в мире искусства благодаря многочисленным коллекциям (некоторые из них можно увидеть в публичных галереях), в мире скачек – благодаря победителям дерби. Во время написания этой книги я почти не встречал людей, которые не слышали бы по крайней мере одного анекдота о Ротшильде – чаще всего вспоминают легенду о непомерных прибылях Натана Майера Ротшильда, полученных в результате спекуляций на исходе битвы при Ватерлоо; почти так же часто все вспоминают историю о покупке акций Суэцкого канала, которую постарался прославить Дизраэли. А для тех, кто не знает истории, в сборниках еврейских анекдотов до сих пор приводят шутки о Ротшильдах. Им даже посвящены два фильма, одна пьеса2 и эксцентричный бродвейский мюзикл, который, впрочем, пользовался весьма скромным успехом.
Необходимо сразу же сказать, что в этой книге почти ничего не говорится о жирафах, орхидеях, суфле, винтажных винах или островах в Антарктике. Главным образом, речь в ней идет о банках и банковском деле; и вот несколько слов, призванных успокоить тех читателей, которые больше интересуются тем, как богатые семьи распоряжаются своим богатством, чем тем, как они его нажили.
На самом деле банкирский дом «Н. М. Ротшильд и сыновья» формально вовсе не является банком – по крайней мере, по определению великого финансового журналиста Викторианской эпохи Уолтера Бэджета, которое он дал в своем труде «Ломбард-стрит» (1873). «Иностранец, – пишет Бэджет, – вероятно, подумает, что если кого и можно назвать банкирами, то в первую очередь их [Ротшильдов]. Но это лишь иллюстрирует существенную разницу между тем, как понимаем банковское дело мы, англичане, и как понимают его жители континентальной Европы. Господа Ротшильды – крупные капиталисты, в чьих руках, несомненно, масса заимствованных денежных средств. Но они не берут 100 фунтов, подлежащие оплате по требованию, и не возвращают их чеками по 5 фунтов каждый, как принято у нас в Англии. Они заимствуют крупные суммы на более или менее долгие сроки. Английские банки имеют дело с множеством мелких сумм, которые подлежат выплате по предупреждению за короткий срок или по требованию. И способы, какими те и другие употребляют свои деньги, также различны. Иностранец считает главной составляющей банковского дела «биржевые операции», то есть покупку и продажу векселей иностранных государств. Но подавляющее большинство английских сельских банков не знают, как провести крупную «биржевую операцию»… С таким же успехом они могут, например, начать торговлю шелком. Биржевыми операциями занимается небольшая, обособленная группа брокеров, крупнейшими из которых… являются Ротшильды… Они [Ротшильды] – не английский банк ни по условиям, по каким они занимают деньги, ни по способу, каким они ими распоряжаются».
Приехав в Англию как торговец тканями, Натан Майер Ротшильд официально был купцом, который пожелал заниматься различными финансовыми услугами. Сам он в 1817 г. говорил: «[Я] занимаюсь… государственными сделками и банковскими операциями». Под последними он, скорее всего, имел в виду операции с Английским банком. Он не имел в виду депозитные операции банков, про которые Бэджет писал «как принято у нас в Англии» и которые остаются главной сферой деятельности крупных современных банков, имеющих множество филиалов.
Фирму «Н. М. Ротшильд и сыновья» нельзя считать и автономной: до определенного времени в период 1905–1909 гг. она принадлежала к группе так называемых «Домов Ротшильдов», которая возглавлялась семейной компанией, – хотя Лондонский дом единственный, чье существование не прекращалось и не прерывалось до сегодняшнего дня (банк «Ротшильд и компания» (Rothschild & Cie Banque) – лишь непрямой потомок изначального Парижского банкирского дома, национализированного в 1981 г.). В зените славы, в 20-е – 60-е гг. XIX в., семейной группе принадлежало пять учреждений. Помимо Лондонского дома, возглавляемого Натаном, существовала оригинальная фирма «М. А. Ротшильд и сыновья» (М. A. Rothschild & Sohne) во Франкфурте (после 1817 г. она носила название «М. А. фон Ротшильд и сыновья» (М. A. von Rothschild & Sohne), и после смерти отца, Майера Амшеля, ее возглавил Амшель, старший его сын; «Братья де Ротшильд» (de Rothschild Freres) в Париже, основанная Джеймсом, младшим сыном Майера Амшеля. Кроме того, существовали две дочерние компании Франкфуртского дома: «К. М. фон Ротшильд» (С. М. von Rothschild) в Неаполе, которую возглавлял четвертый брат, Карл, и «С. М. фон Ротшильд» (S. М. von Rothschild) в Вене, возглавляемая вторым по старшинству братом, Соломоном. Вплоть до 1860-х гг. пять домов сотрудничали так тесно, что невозможно обсуждать историю одного, не говоря об истории всех пяти: они во всех отношениях являлись составляющими многонационального банка. И даже в первом десятилетии XX в. система компаний продолжала функционировать так, что английские Ротшильды имели финансовую долю в Парижском доме, а французские Ротшильды – долю в Лондонском доме. Однако, в отличие от современных многонациональных банков, фирма Ротшильдов всегда была семейным предприятием, а право принятия решений было строго монополизировано партнерами. Вплоть до 60-х гг. XX в. партнерами могли стать лишь члены семьи Ротшильд мужского пола.
Необходимо уяснить самое важное. На протяжении почти столетия, с 1815 по 1914 г., эта многонациональная компания была крупнейшим банком в мире. Если рассуждать строго в исчислении их объединенного капитала, можно сказать, что Ротшильды до 1880-х гг., если не позже, играли, так сказать, в собственной лиге. Ничего равного им XX в. не знал. Даже крупнейшие современные международные банковские корпорации обладают лишь долей того превосходства, каким пользовались Ротшильды во времена своего расцвета, – как в наши дни ни один отдельный человек не владеет теми же долями мирового богатства, какими владели Натан и Джеймс как частные лица в середине 1820–1860 гг. (см. Приложение 1). Таким образом, экономическую историю капитализма нельзя считать полной, пока не будет предпринята попытка объяснить, как Ротшильды стали так феноменально богаты. В чем заключается «тайна» их беспримерного успеха и есть ли она? Ротшильдам приписывают многочисленные апокрифические изречения – например, призыв держать треть состояния в ценных бумагах, треть в недвижимости и треть в драгоценностях и произведениях искусства, обращаться с фондовой биржей как с холодным душем («быстро войти, быстро выйти») или оставлять последние 10 % другому, – но все подобные изречения ничего толком не объясняют.
Чем именно занимались Ротшильды? И как они пользовались своим огромным экономическим влиянием? Для того чтобы правильно ответить на эти вопросы, необходимо кое-что понять в государственных финансах XIX в. Дело в том, что именно ссужая деньги правительствам или спекулируя уже существующими государственными облигациями Ротшильды нажили очень большую часть их колоссального состояния.
В XIX в. все государства время от времени сталкивались с дефицитом бюджета; некоторые жили так почти всегда – то есть государственных доходов от сбора налогов обычно не хватало на покрытие расходов. В этом отношении государства XIX в., конечно, мало чем отличались от государств в XVIII в. И, как и до 1800 г., самый большой рост расходов обычно приходился на периоды войн и подготовку к ним. Неурожаи (или самый низкий уровень экономической активности в сфере торговли) также вызывали периодическое падение доходов, так как поступление налогов в казну сокращалось. Такие дефициты, хотя часто относительно небольшие по сравнению с национальным доходом, нелегко было финансировать. Национальные рынки капитала были не очень развиты, а международный рынок капитала тогда лишь формировался; в Амстердаме образовался лишь первый финансовый центр. Для большинства государств займы были дороги – то есть им приходилось платить относительно высокие проценты по займам, так как инвесторы не считали их надежными кредиторами. Таким образом, дефицит бюджета часто покрывался либо с помощью продажи активов, принадлежащих монаршей семье (земли или должностей), либо с помощью инфляции, если правительство предпочитало девальвировать валюту. Конечно, был и третий вариант – введение новых налогов, но, как то часто случалось не только в XVII, но и в XIX в., серьезные изменения налоговой системы обычно требовали некоторого политического согласия, достигаемого через представительские учреждения. Одной из причин Великой французской революции стало предложение Генеральных штатов ввести новые налоги после того, как окончились неудачей все остальные попытки реформы финансов, которая должна была покрыть военные расходы. Исключением из общего правила была Великобритания, в которой с конца XVII в. развилась сравнительно сложная система государственных займов (государственный долг) и денежно-кредитная политика (Английский банк). Еще одним исключением из общего правила можно назвать небольшое немецкое княжество Гессен-Кассель, которое управлялось с прибылью благодаря тому, что его правитель сдавал своих подданных внаем другим государствам в качестве солдат. Управление огромным инвестиционным портфелем стало одним из первых шагов Майера Амшеля Ротшильда к тому, чтобы из торговца монетами (его первоначальное занятие) стать банкиром.
Период с 1793 по 1815 г. характеризовался постоянными военными действиями, которые оказывали серьезные побочные эффекты на финансы. Во-первых, беспрецедентные расходы на войну ускоряли инфляцию во всех странах-участницах. Самой крайней формой таких побочных действий можно назвать крах ассигнатов во Франции. Европейские валюты – в том числе фунт стерлингов после 1797 г. – находились в беспорядке. Во-вторых, нарушения в ходе нормальной жизни, вызванные войной (например, оккупация французами Амстердама или континентальная блокада при Наполеоне), создавали возможности для получения огромных прибылей по весьма рискованным операциям, таким, например, как контрабандный ввоз тканей, слитков золота или управление капиталами ссыльных правителей. В-третьих, перевод крупных субсидий из Великобритании ее союзникам на континенте требовал новшеств в системе расчетов с другими странами: раньше никому не приходилось иметь дела с такими крупными суммами. Именно в таких в высшей степени сложных условиях Ротшильды совершили решительный скачок от управления двумя скромными фирмами – небольшим торговым банком во Франкфурте и компанией по экспорту сукна в Манчестере – к правлению многонациональной финансовой компанией.
И после окончательного поражения Наполеона потребность в международных финансовых услугах не окончилась: наоборот, вопросы с улаживанием долгов и контрибуций, оставшихся после войны, тянулись почти все 1820-е гг. Более того, после Наполеоновских войн в силу политических кризисов, постигших Испанию и Османскую империю, возникли новые финансовые потребности. В то же время сокращение расходов и денежная стабилизация в Великобритании породили потребность в новых формах инвестиций для тех, кто за годы войн привык вкладывать деньги в высокодоходные британские облигации. Именно такие потребности с успехом удовлетворяли Натан и его братья. Разработанная ими система позволяла британским инвесторам (и другим богатым «капиталистам» в Западной Европе) вкладываться в долги тех государств, покупая имеющие международное хождение облигации с фиксированной процентной ставкой (то есть переводимые). Невозможно переоценить важность такой системы для истории XIX в. Растущий международный рынок облигаций свел вместе истинных «капиталистов» Европы: представителей элиты, достаточно богатых, чтобы вкладывать деньги в такие активы, и вместе с тем достаточно проницательных, чтобы оценить преимущества таких активов по сравнению с традиционными формами вложения богатства (земля, продажные должности и т. д.). Облигации были ликвидными. На главных европейских биржах их можно было покупать и продавать пять с половиной дней в неделю (кроме праздников); в другое время и в других местах ими торговали неофициально. Кроме того, такие облигации могли приносить большой доход от прироста капитала. Единственным их недостатком можно считать также возможные крупные потери капитала.
Что влияло на взлеты и падения рынка облигаций XIX в.? Ответ на этот вопрос является ключевым для понимания истории банка Ротшильдов. Очевидно, важную роль играли экономические факторы – особенно условия для краткосрочных займов и привлекательность альтернативных частных ценных бумаг. Но самым главным фактором служила политическая стабильность: уверенность вкладчиков (особенно крупных инвесторов, формирующих рынок, вроде Ротшильдов) в способности государств – эмитентов облигаций продолжительное время выполнять свои обязательства, то есть выплачивать проценты по своим облигациям. На самом деле вынудить такие государства нарушить обязательства могли лишь два фактора: война, которая повышала расходы и снижала государственные доходы от сбора налогов, и внутренняя нестабильность, под которой можно понимать целый ряд событий, от смены кабинета министров до полномасштабной революции, что не только сокращало доходы, но и могло привести к власти новое правительство, склонное к безрассудной финансовой политике. Именно за признаками приближения какого-либо из двух факторов, способных привести к кризису, следили рынки – и внимательнее всех Ротшильды.
Вот почему Ротшильды всегда придавали такое значение тому, чтобы как можно скорее получать последние политические и экономические новости. Три вещи способны были дать инвестору превосходство над конкурентом: близость к центру политической жизни, источнику новостей; скорость, с какой он получал новости о событиях в ближних и дальних странах; а также способность манипулировать другими инвесторами с помощью передачи таких новостей. Это объясняет, почему Ротшильды тратили столько времени, сил и денег на поддержание наилучших отношений с ведущими политическими фигурами своего времени. Кроме того, это объясняет, почему они столь тщательно создавали сеть платных агентов на других ключевых финансовых рынках. В задачу агентов входила не только торговля ценными бумагами от имени Ротшильдов, но и обязанность держать их в курсе последних финансовых и политических новостей. И это объясняет, почему они постоянно стремились увеличить скорость доставки ценных сведений. С самых первых дней Ротшильды полагались на собственную систему курьеров и выгадывали на своей возможности узнавать политические новости раньше европейских дипломатических служб. Кроме того, иногда они пользовались почтовыми голубями для передачи последних курсов акций и обменных курсов с одного рынка на другой. До появления телеграфа (и позже телефона), изобретений, которые призваны были «демократизировать» новости, увеличивая их общедоступность, система связи Ротшильдов давала им важное преимущество над конкурентами. Даже после того, как утратили это преимущество, они продолжали влиять на финансовую прессу, через которую новости распространялись в кругах широкой публики.
Сведения о признаках международной или внутренней напряженности напрямую влияли на рынок облигаций, ведя к ежедневным колебаниям курсов и прибылей, за которыми так пристально следили инвесторы. Однако связь между политикой и рынком облигаций шла и в обратном направлении. Дело в том, что изменение котировок существующих государственных облигаций – плод недавней фискальной политики – обладало важным влиянием на настоящую и будущую политику. Проще говоря, если какое-либо государство хотело больше занять, выпустив больше облигаций, падение котировок или, наоборот, рост доходности существующих облигаций оказывали серьезное пагубное воздействие. Именно поэтому курс облигаций имел дополнительное значение, о котором редко задумываются историки. Можно сказать, что курс облигаций играл роль своего рода опроса общественного мнения, хотя по современным, демократическим меркам такой опрос можно считать в высшей степени нерепрезентативным. Участие в таком опросе могли принимать только богатые – «капиталисты». Правда, и саму политическую жизнь в XIX в. трудно назвать демократической. В самом деле, держателями государственных облигаций были, грубо говоря, те же люди, которые вершили политику, хотя иногда возникало напряжение между собственниками, чьи активы главным образом заключались в земле или объектах недвижимости, и держателями облигаций, чьи портфели состояли главным образом из ценных бумаг. Таким образом, эти капиталисты представляли в большой степени политический класс Европы, и их мнения имели вес в социально неоднородном, недемократическом обществе. Государство, где инвесторы назначали повышенную цену на государственные облигации, могло чувствовать себя в безопасности. Если же инвесторы спешили избавиться от государственных облигаций, было ясно, что текущее правительство доживает последние дни и проживает последние деньги.
Неоспоримым достоинством рынка облигаций можно считать то, что к нему рано или поздно обращались практически все страны (к которым с течением времени добавлялись все новые молодые национальные государства и колонии); и большинство государств имело рыночные долги в немалых размерах. Переменчивая судьба государственных облигаций позволяет изучать политическую историю того периода, так сказать, изнутри. Кроме того, государственные облигации являются важным фактором для понимания размера и границ власти такого банка, как банк Ротшильдов, который на протяжении почти всего XIX в. определял рыночную политику для таких облигаций. Более того, изменив существующую систему, в результате чего государства стали занимать деньги для того, чтобы государственные облигации пользовались большим спросом, Ротшильды на самом деле создали международный рынок облигаций в его современном виде. Уже в 1830 г. один немецкий писатель заметил, как благодаря новшествам в виде облигаций, введенных Ротшильдами после 1818 г., «каждый обладатель государственных бумаг [может]… собирать проценты к своему удобству в нескольких различных местах без всякого труда. Дом Ротшильдов во Франкфурте выплачивает проценты по австрийским «металликам», неаполитанским «рентам» и англо-неаполитанским облигациям в Лондоне, Неаполе или Париже – где это удобно».
Таким образом, ядро данной книги – международный рынок облигаций, для развития которого Ротшильды сделали немало. Значительное внимание уделено также другим формам финансирования, которыми они занимались: торговле слитками и аффинажу, акцептованию и дисконту коммерческих векселей, прямой торговле предметами потребления, обмену валюты, арбитражу и даже страхованию. В дополнение к неизбежной сети кредитов и дебетов с другими фирмами, которые возникали в связи с этими видами деятельности, Ротшильды также предлагали избранной группе клиентов – как правило, членам королевских фамилий и аристократам, которым они предпочитали содействовать, – ряд «персональных банковских услуг». Спектр таких услуг варьировался от крупных личных займов (как в случае с князем Меттернихом) до первоклассного личного почтового обслуживания (как в случае с королевой Викторией). Вопреки впечатлению Бэджета, Ротшильды иногда также принимали вклады таких избранных клиентов. Кроме того, Ротшильды занимались крупномасштабными инвестициями в промышленность – этот аспект их деятельности часто недооценивается. В 1830-е – 1840-е гг., когда с развитием железных дорог появилась возможность реорганизовать транспортную систему Европы, Ротшильды находились в числе ведущих спонсоров железнодорожных линий, начав с Франции, Австрии и Германии. Более того, к 1860-м гг. Джеймс де Ротшильд построил нечто вроде панъевропейской сети железных дорог, проложенных на север из Франции в Бельгию, на юг в Испанию и на восток в Германию, Швейцарию, Австрию и Италию. С самого начала Ротшильды также очень интересовались добывающей промышленностью, начав в 1830-е гг. с приобретения испанского ртутного месторождения в Альмадене. Они сделали резкий скачок в 1880-е и 1890-е гг., когда вложили средства в месторождения золота, меди, алмазов, рубинов и нефти. Подобно их первоначальной финансовой сфере, такое приобретение стало поистине всемирной операцией, которая распространялась от Южной Африки до Бирмы, от Монтаны до Баку.
Главной темой данной книги, таким образом, стала необходимость объяснить истоки и развитие одного из крупнейших и самых необычных предприятий в истории современного капитализма. И все же не следует считать ее лишь пособием по истории экономики. Во-первых, история фирмы неотделима от истории семьи: выражение «Дом Ротшильдов», которое часто употребляли историки (и кинорежиссеры) прошлых поколений, использовалось современниками, в том числе самими Ротшильдами, для того, чтобы подчеркнуть их единство. В то время как регулярно пересматриваемые и обновляемые договоры о сотрудничестве регулировали управление сферами коллективной деятельности Ротшильдов и распределение накопленных прибылей, не меньшим значением для семьи обладали брачные договоры. В период своего расцвета Ротшильды систематически заключали внутрисемейные браки, не допуская, таким образом, распыления капитала и спасая его от притязаний «чужаков». Если женщины из семьи Ротшильд все же выходили замуж не за представителей семьи, их мужьям запрещалось напрямую участвовать в семейном бизнесе, как и самим женщинам-Ротшильдам. Завещания партнеров также обеспечивали сохранение и рост бизнеса путем наложения завещаний одного поколения на следующее. Неизбежно возникали противоречия между коллективными притязаниями семьи, так недвусмысленно выраженными Майером Амшелем перед смертью, и пожеланиями отдельных ее представителей: им повезло родиться Ротшильдами, однако многие из них не унаследовали ненасытного аппетита основателя династии к работе и прибылям. Сыновья разочаровывали отцов. Братья презирали братьев. Кто-то любил без взаимности; кому-то запрещали выходить замуж за избранника или жениться на любимой. Вынуждали сочетаться браком не желающих того кузенов; мужья и жены ссорились. Во всем этом у Ротшильдов много общего с большими семьями, которые населяют многочисленные романы XIX и начала XX в.: с Ньюкомами Теккерея, Паллисьерами Троллопа, Форсайтами Голсуорси, Ростовыми Толстого и Будденброками Манна (хотя, к счастью, не с Карамазовыми Достоевского!). Конечно, XIX в. можно назвать эпохой больших семей – рождаемость была высокой, а смертность в богатых семьях падала, – и, может быть, только в этом смысле Ротшильды не были «исключительной семьей», как их однажды назвал Гейне.
Из-за того, что Ротшильды были так богаты, в материальном отношении они могли бы равняться с европейской аристократией; их успех в преодолении различных юридических и культурных препятствий для достижения полного эквивалента статусности – один из примечательных примеров в социальной истории XIX в. Помня, что их отцу в свое время запрещалось владеть собственностью за пределами тесной и грязной Юденгассе во Франкфурте, пять братьев, что вполне понятно, стремились приобретать землю и просторные резиденции. Правда, почти все живописные дворцы и особняки, ставшие самыми внушительными памятниками членам семьи, построили только представители третьего поколения Ротшильдов3. Зато они активно получали награды, титулы и другие почести. Самую желанную награду, звание английского пэра, представитель семьи получил в 1885 г. Кроме того, третье поколение Ротшильдов увлекалось охотой и лошадиными бегами – занятиями, которые отождествляют в первую очередь с аристократией. Схожий процесс социальной ассимиляции можно наблюдать и в их культурных пристрастиях. Джеймс и его племянники были страстными коллекционерами произведений искусства, украшений и мебели; коллекции они передали по наследству своим многочисленным потомкам. Кроме того, они покровительствовали писателям (Бенджамину Дизраэли, Оноре де Бальзаку и Генриху Гейне), музыкантам (среди них можно отметить Фридерика Шопена и Джоакино Россини), а также архитекторам и художникам. Во многих отношениях они были Медичи XIX в.
Однако неправильно представлять Ротшильдов образом «феода-лизированной» буржуазной семьи, члены которой «имитируют» манеры и образ жизни землевладельческой элиты. Ротшильды привнесли в аристократическую среду образцы поведения, которые коренились в коммерции. Вначале они видели в покупке земли возможность вложения капитала, от которого они ожидали получения прибыли. К большим домам, которые они строили, они, по крайней мере отчасти, относились весьма функционально: как к частным отелям для демонстрации «корпоративного гостеприимства». Сыновья и внуки Натана даже покупку лошадей расценивали как своего рода приятное спекулятивное капиталовложение; они играли на бегах так же, как занимались спекуляциями на фондовой бирже. Цинично выражаясь, общение с представителями аристократии было для Ротшильдов очень важным, если правила устанавливали именно они. Кроме того, в ходе неформального общения можно было узнать столько же полезных сведений, сколько и на официальных встречах с министрами.
В то же время в каком-то смысле Ротшильды больше напоминали членов королевской семьи, чем аристократию или средний класс. И дело не только в том, что они сознательно подражали многочисленным венценосцам, с которыми знакомились. Подобно разветвленной семье, из которой вышли многие европейские монархи, Ротшильды были исключительными в своем предпочтении эндогамии. Им нравилось сознавать, что они не имеют себе равных – по крайней мере, в пределах европейской еврейской элиты. В этом смысле выражения вроде «царей иудейских», которыми награждали их современники, содержат известную долю истины. Именно так Ротшильды рассматривали самих себя и вели себя соответственно. Это доказывают выражения вроде «наша королевская семья», которые часто встречаются в их письмах. Примерно так к ним относились и другие, не столь богатые, евреи.
Их отношение к иудаизму и еврейским общинам Европы и Ближнего Востока – бесспорно, одна из самых притягательных тем семейной истории. Для Ротшильдов, как для многих еврейских семей, которые в XIX в. мигрировали на Запад, социальная ассимиляция или интеграция в странах, где они обосновались, часто противоречила их вере, хотя после ослабления дискриминационных законов они смогли владеть не только деньгами, но и многими желанными вещами, которые можно было купить за деньги. И все же, какими бы пышными ни были их дома и какое бы хорошее образование ни получали их дети, они постоянно сталкивались с антиеврейскими настроениями, которые варьировались от враждебной франкфуртской толпы до легкого презрения аристократов и банкиров-неевреев. Отчасти в ответ на такое давление многие другие богатые еврейские семьи предпочли обратиться в христианство. Но Ротшильды этого не сделали. Они по-прежнему оставались твердыми приверженцами иудаизма, играя важную роль в делах различных еврейских общин, членами которых они были. Более того, с самых первых дней они стремились воспользоваться своим финансовым влиянием на отдельные государства, чтобы улучшить юридическое и политическое положение живших там евреев. Они поступали так не только в своем родном городе Франкфурте, но последовательно почти в каждом государстве, с которым они вели дела впоследствии, а также в некоторых странах, где у них не было экономических интересов – например, в Румынии и Сирии. Некоторые представители семьи прославились своей благотворительной деятельностью, в определенной степени связанной с их материальным успехом: сохраняя веру предков и помня о своих «бедных единоверцах», Ротшильды не только демонстрировали благодарность своей счастливой судьбе, но и заботились о том, чтобы так продолжалось и дальше.
Наконец, что, возможно, важнее всего, история семьи в равной степени связана не только с финансами, но и с политикой: в истории XIX в. почти нет таких крупных политических фигур, которые не появятся на страницах этой книги. С самых первых дней Ротшильды культивировали дружбу с политиками, с теми, кто определяет не только размер бюджетного дефицита, но также и внутреннюю и внешнюю политику, которая так влияет на финансовые рынки. Политики, в свою очередь, довольно быстро оценили важность дружбы с Ротшильдами: они часто казались незаменимыми для платежеспособности государств, которыми они управляли. Кроме того, на Ротшильдов всегда можно было положиться для получения срочнейших политических новостей. Покровительство, какое оказывал Майер Амшель Карлу Будерусу, главному финансовому советнику правителя Гессен-Кассельского имперского княжества, а позже Карлу Теодору Антону фон Дальбергу, князю-примасу наполеоновского Рейнского союза, стало прототипом многочисленных отношений, какие соединяли его сыновей с политиками по всей Европе. Начиная с 1813 г. Натан сблизился с Джоном Чарльзом Херрисом, начальником военно-торговой службы, который финансировал вторжение Веллингтона во Францию. Еще одним давним «другом» Ротшильдов в Англии был Чарльз Стюарт, брат министра иностранных дел лорда Каслри и делегат от Великобритании на конгрессах в Вене, Троппау, Лайбахе и Вероне. Кроме того, в начале 1820-х гг. Натан поддерживал непосредственный контакт с премьер-министром лордом Ливерпулом и канцлером казначейства Николасом Ванситтартом; во время парламентской реформы 1830–1832 гг. он давал герцогу Веллингтону важные финансовые советы.
Влияние Ротшильдов распространялось и на членов королевской семьи. Натан первым завязал отношения с британским королевским домом благодаря тому, что его отец выкупил огромные долги, сделанные принцем-регентом Джорджем (позже король Георг IV) и его братьями. Эти слабые вначале связи укрепились благодаря заботливому покровительству Леопольду Саксен-Кобургскому, который женился на Шарлотте, дочери Георга IV, а позже стал королем Бельгии Леопольдом I. И его племянник Альберт, ставший консортом королевы Виктории, не брезговал обращаться к Ротшильдам за финансовой поддержкой. В свою очередь, старший сын Виктории и Альберта поддерживал дружеские отношения со многими членами семьи и до и после того, как он сменил на престоле свою мать и стал королем Эдуардом VII. Список викторианских политиков, которые были дружны с Ротшильдами, можно продолжать и продолжать: в 1840-е – 1850-е гг., когда Лайонел задумал попасть в палату общин, его поддержали не только виги (например, лорд Джон Рассел) и сторонники Пиля (Гладстон), но и сторонники политики протекционизма – тори Дизраэли и лорда Джорджа Бентинка. Позже, разочаровавшись в Гладстоне, сыновья Лайонела обратили внимание не только на Дизраэли, но и на лорда Рандольфа Черчилля, Джозефа Чемберлена и Артура Бальфура. В 1880-е и 1890-е гг. их мнением по многим вопросам государственной важности интересовались маркиз Солсбери и граф Роузбери, который сменил Гладстона на посту премьер-министра. Более того, Роузбери женился на Ханне Ротшильд, дочери Майера.
Французские Ротшильды также играли непосредственную роль в политике. В начале 1820-х гг. они дружили с графом де Вилл ел ем, в 1830-е гг. быстро переметнулись на сторону Луи-Филиппа. Им удалось пережить революцию 1848 г., поддерживая лидеров республиканцев. Они изящно подрывали авторитет Наполеона III, чей авантюризм в международных делах им не нравился. Кроме того, у них имелся надежный друг в Третьей республике в лице Леона Сэя, который четырежды становился министром финансов Франции. В Германии и Австрии в 1818–1848 гг. особую важность приобрела дружба Соломона и Меттерниха, хотя уникальными их отношения назвать сложно. Среди «друзей» семьи эпохи Реставрации можно упомянуть графа Аппоньи, австрийского посла в Париже, а также членов семьи Эстерхази; в Пруссии – канцлера князя Гарденберга, Вильгельма фон Гумбольдта, просветителя, реформатора и дипломата, и Кристиана Ротера, финансиста, который впоследствии стал президентом Прусского королевского банка. Наладить связи с Бисмарком оказалось труднее, хотя к 1870-м гг. Майер Карл сумел стать посредником в дипломатическом общении между «старым Б.» и правительствами в Лондоне и Париже. Император Вильгельм II наградил Альфреда де Ротшильда медалью за дипломатические заслуги, а его брата Натти называл «старым и весьма почтенным знакомым».
Главная задача данной книги заключается в том, чтобы пролить свет на эти отношения. Как отметил Фриц Штерн в своем пионерском труде об отношениях Бисмарка с Герсоном Бляйхрёдером, раньше историки, как правило, стеснялись признавать роль финансовых факторов в политике великих государственных деятелей XIX в. Как ни странно, многие историки марксистского толка, которые когда-то были так влиятельны, почти никак не исправили положение, предпочитая утверждать, а не доказывать, что интересы правящего класса по сути оставались тождественными интересам «финансового капитала» или подчинялись им. В последние годы историки, которые специализируются на эпохе британского империализма, постарались обогатить понимание отношений между Сити и Британской империей. Но модель «джентльменского капитализма», отстаиваемая Кейном и Хопкинсом, не совсем применима к Ротшильдам; а учитывая сам масштаб роли Ротшильдов в финансах XIX в., можно назвать их исключением, которое, наверное, лишь подтверждает правило. Ротшильды после второго поколения, возможно, и вели себя как джентльмены, когда они находились в Вест-Энде или в своих загородных имениях. Но в «конторе» они оставались беспримесными капиталистами, применявшими правила и принципы, зародившиеся на франкфуртской Юденгассе.
Вышеизложенное является наброском к тому, что можно назвать реальной историей Ротшильдов, подробно изложенной в этой книге. История увлекательна и сама по себе. И все же она становится вдвойне увлекательной, если сопоставить ее с необычайной мифологией, окружавшей семью с тех самых пор, как современники впервые начали называть Ротшильдов «исключительными».
Самые ранние мифы о Ротшильдах – насколько позволяют судить сохранившиеся опубликованные записи – появляются примерно в 1813 г., через год после смерти основателя фирмы. Однако, несмотря на хвалебное название и общий тон, мемуары С. Дж. Коэна «Образцовая жизнь бессмертного банкира Майера Амшеля Ротшильда» нельзя считать авторизованной биографией. Тем не менее она задала тон для того, что можно в широком смысле назвать сочувственным (пусть и неофициальным) разъяснением финансового успеха Ротшильдов, по сути изображающим его как миракль о вознагражденной добродетели. Коэн заявляет: Майер Амшель был не только набожным и заботливым, но его жизнь «несомненно доказала, что еврей, как еврей, может быть религиозным и в то же время превосходным человеком и добропорядочным гражданином». Подобно авторам многих более поздних хвалебных трудов, Коэн почти ничего не пишет о предпринимательской деятельности Майера Амшеля. Правда, он намекает, что его успех банкира был знаком божественного одобрения.
Лет тринадцать спустя было опубликовано более точное, но сравнительно более морализаторское толкование. «Общая немецкая энциклопедия для образованных классов», изданная в Лейпциге Ф. А. Брокгаузом, служит типичным примером справочника эпохи Бидермейера. Энциклопедия пользовалась популярностью – тираж составил около 80 тысяч экземпляров; но, хотя по форме она напоминала французские энциклопедии, которые ассоциировались с дореволюционным просвещением, ее содержание контролировалось консервативными властями. Более того, автором статьи «Ротшильд», впервые появившейся в издании 1827 г., был Фридрих фон Генц, секретарь Меттерниха. Положительный настрой статьи отражал растущее влияние Ротшильдов как на государственные финансы Австрии, так и на личные дела Генца. Статью в энциклопедии Ротшильды не просто одобрили, но и оплатили: перед публикацией Генц прочел ее вслух Леопольду фон Вертхаймштайну, одному из старших клерков Венского дома, а через десять дней получил «реальную награду» от самого Соломона фон Ротшильда.
Хотя в статье на четыре колонки Генц почти ничего не писал о жизни Ротшильдов во франкфуртском гетто – более того, Генц вообще ничего не писал об их вере, – он намекал на то, что они лишь недавно стали «величайшей из всех коммерческих компаний». Своим успехом, по его мнению, они были обязаны «усердию и набожности» Майера Амшеля… а также его «познаниям и испытанной честности». Пятеро сыновей Майера Амшеля восхвалялись за «разумную необходимость требований… щепетильность, с какой они исполняют свои обязанности… простоту и ясность их планов, и сообразительность, с какой они подходят ко всем действиям». Помимо их деловых качеств, Генц выделял «личную высоконравственность каждого из пяти братьев», называя ее «решающим фактором успеха их начинаний»: «Нетрудно создать партию для себя, когда человек настолько силен, чтобы привлечь многих к своей выгоде. Но для того, чтобы… сочетать поддержку всех сторон и… заслужить оценку великих и малых, требуется обладать не просто материальными средствами, но также и духовными качествами, которые не всегда идут рука об руку с богатством и властью. Делать добрые дела повсеместно, никогда не отказывать в помощи нуждающимся, всегда охотно исполнять просьбы любого, кто просит о помощи, безотносительно к его классу, и оказывать самые важные услуги самым милосердным образом – благодаря таким средствам каждая из пяти ветвей семьи достигла истинной популярности, и не по расчету, а из естественной филантропии и доброты».
Конечно, в подобных высказываниях прослеживаются некие общие черты: в таких лестных выражениях писались панегирики богатым покровителям начиная с античных времен. Частным образом Генц высказывался более двусмысленно. Его первое замечание о Ротшильдах (в ответ на предложение, сделанное в 1818 г. его другом Адамом Мюллером, написать «заказной» очерк) было решительно двусмысленным. Да, соглашался Генц, Ротшильды представляют собой «яркий вид с собственными характерными чертами»; точнее, они – «обычные невежественные евреи, которые демонстрируют свое мастерство вполне естественным образом [то есть инстинктивно], понятия не имея о более возвышенных отношениях между вещами». С другой стороны, они также «одарены поразительным инстинктом, который всегда побуждает их выбирать то, что нужно, а из двух нужных вариантов наилучший». Их громадное богатство «стало всецело результатом их инстинкта, который публика склонна называть удачей». В части своих «Биографических заметок о Доме Ротшильдов», которые были опубликованы лишь после его смерти, Генц подробнее распространяется по этому последнему пункту – об отношениях между способностями («добродетелью») и обстоятельствами («удачей») в макиавеллиевском ключе: «Одну истину, хотя она и не вполне нова, как правило, трактуют неправильно. Слово «удача» применительно к истории знаменитых личностей или выдающихся семей лишается всякого смысла, если мы отваживаемся всецело отделить его в каждом случае от личных или выдающихся факторов. В жизни бывают такие обстоятельства и события, когда везение или невезение, удача или неудача могут сыграть определяющую, хотя и не исключительную, роль в судьбе человека. Однако продолжительный успех или постоянные неудачи… всегда можно приписать личной добродетели или личным недостаткам тех, кто благословен или проклят первым или вторым. Тем не менее для того, чтобы даже самые выдающиеся личные качества принесли плоды, иногда требуются исключительные обстоятельства и потрясающие мир события. Именно так учредили свои троны основатели династий, и именно так возвеличился Дом Ротшильдов».
Читатели «Энциклопедии» Брокгауза были избавлены от таких во многом избитых философских размышлений. Вместо этого – в виде сноски, вставленной редактором Генца, – их снабдили специфическим и до тех пор не оглашавшимся эпизодом, призванным проиллюстрировать отношения между добродетелью и удачей, на которые намекал Генц: «Когда покойный курфюрст Гессенский вынужден был в 1806 г. бежать при приближении французов, его большое личное состояние едва не стало добычей Наполеона. Р. спас значительную его часть благодаря своим отваге и уму, хотя не без риска для себя, и добросовестно заботился об этом состоянии».
В издании 1836 г. историю дополнили подробностями. Выяснилось, что курфюрст «поручил Ротшильду возврат своих личных владений, стоимость которых приближалась ко многим миллионам гульденов. И только пожертвовав всем своим имуществом и пойдя на значительный личный риск, Ротшильд спас порученную ему собственность. Узнав, что все имущество Ротшильдов было конфисковано французами, ссыльный курфюрст решил, что и его имущество также утрачено. Более того, он даже не считал нужным осведомиться о его судьбе».
Однако курфюрст недооценивал добродетельного Майера Амшеля: «Когда положение вновь успокоилось, Ротшильд немедленно возобновил дела со спасенным имуществом… В 1813 г., когда курфюрст вернулся в свои владения, Дом Ротшильдов не только немедленно предложил вернуть крупные суммы, которые были ему доверены; курфюрсту также выплатили обычный процент начиная с того дня, когда суммы были переданы на сохранение. Курфюрст, изумленный таким образцом честности и добросовестности, оставил фирме весь свой капитал еще на несколько лет и отказался от процентов за более ранний период, приняв низкие проценты только начиная со времени своего возвращения. Рекомендуя Дом Ротшильдов [остальным. – Лет.], особенно на Венском конгрессе, курфюрст определенно очень помог Ротшильдам расширить их связи».
Такая рекомендация стала «решающим фактором в стремительном… развитии дела [Майера Амшеля]». История эта очень известна; ее очень часто повторяли и пересказывали, и сами Ротшильды охотно пропагандировали свой поступок. В 1834 г. Натан за ужином подарил запись этой истории члену парламента от либералов Томасу Фоуэллу Бакстону, а версия из издания Брокгауза 1836 г. была зачитана Карлом фон Ротшильдом и, возможно, дополнена подробностями гувернером его сыновей д-ром Шлеммером. Эта история даже стала темой двух небольших картин кисти Морица Даниэля Оппенгейма, которые семья заказала в 1861 г.
И все же Генц не считал спасение сокровищ курфюрста единственным объяснением последующего успеха Ротшильдов; он постарался разъяснить и методы, какими Ротшильды вели дела. «Успех всех великих операций, – пишет Генц, – не зависит единственно от выбора и использования подходящего момента, но гораздо больше от приложения сознательно принятых и основополагающих принципов». Помимо их «проницательного управления и выгодных обстоятельств», именно эти «принципы» позволили Ротшильдам во многом добиться успеха. Один из их принципов требовал, чтобы «пять братьев вели общие дела в нерушимом единстве [интересов]… любое предложение, откуда бы оно ни исходило, служило предметом коллективного обсуждения; каждая операция, даже не представляющая большой важности, проводилась по согласованному плану и объединенными усилиями; и каждый получал равную долю в ее результатах».
Как и в истории с сокровищами курфюрста, о принципе идеальной братской гармонии, скорее всего, рассказали сами братья. В 1817 г., когда они представили на рассмотрение рисунок герба (после того, как австрийский император пожаловал им дворянство), в четвертой четверти изображалась рука, держащая пять стрел, символ единства пяти братьев. Этот символ фирма «Н. М. Ротшильд и сыновья, Лимитед» использует на своей почтовой бумаге по сей день. Позже братья приняли девиз: Concordia, integritas, industria («Согласие, честность, трудолюбие»). Девиз призван был точно отражать добродетели, перечисленные в «Энциклопедии» Брокгауза.
Генц стал первым из многих, кто писал о Ротшильдах в крайне дружественных (если не льстивых) тонах. Наверное, самое лучшее и нежное описание Ротшильдов можно найти в романах Бенджамина Дизраэли, который близко познакомился с членами этой семьи (и, подобно Генцу, питал определенный интерес к их богатству). Например, в романе «Конингсби» (1844) прослеживается явное сходство Сидонии и Лайонела де Ротшильда (хотя и неполное). Так, говорится, что отец Сидонии нажил деньги во время Пиренейских войн; затем он «решил эмигрировать в Англию, с которой он, с течением времени, наладил прочные торговые связи. Он прибыл к нам после Парижского мира со своим огромным капиталом. Он все поставил на заем Ватерлоо; и это событие сделало его одним из богатейших капиталистов Европы». После войны Сидония и его братья ссужали деньги европейским государствам, и он «стал господином и повелителем мирового денежного рынка». Младший Сидония также обладает всеми необходимыми навыками банкира: он получил хорошее математическое образование и «свободно говорил на основных европейских языках». В «Танкреде» (1847) еврейка Ева, образ, явно навеянный Ротшильдами, спрашивает: «Кто самый богатый человек в Париже?» – на что Танкред отвечает: «По-моему, брат самого богатого человека в Лондоне». Они, разумеется, принадлежат к ее «расе и вере». Вероятно, персонажи Дизраэли, прообразами которых послужили Ротшильды, часто служат рупорами для выражения собственных, иногда весьма своеобразных, мыслей автора о месте евреев в современном мире: их ни в коем случае нельзя считать «реалистичными» портретами конкретных представителей семьи Ротшильд. Тем не менее в портретах заметны индивидуальные черты, что делает романы Дизраэли ценной находкой для историка.
Другие «позитивные» изображения Ротшильдов в литературе не столь значительны. Так, в одной австрийской новелле 1850-х гг. Соломон фон Ротшильд изображается своего рода венским Санта-Клаусом: он помогает дочери плотника, которая хочет выйти замуж за талантливого, но бедного ученика своего богатого отца. Поздний образец того же жанра – рассказ Оскара Уайльда «Натурщик-миллионер» (1887), где по сюжету обедневшему молодому человеку помогает жениться на любимой девушке великодушный «барон Хаусберг». Такие сказки, в которых персонажи, навеянные Ротшильдами, рассыпают щедрые дары, нашли отражение и в некоторых популярных трудах XX в., посвященных Ротшильдам, особенно в книгах Балла, Рота, Мортона, Коулса и Уилсона. Сознательно (и иногда избыточно) положительная тональность таких трудов видна даже из названий: «Роман о Ротшильдах», «Великолепные Ротшильды», «Семейный портрет», «Семья богачей», «Рассказ о богатстве и власти». Мюзикл 1969 г. о Майере Амшеле и его сыновьях представляет собой доведение такой льстивой тенденции до абсурда. Ранняя история семьи превратилась в сентиментальную сказочку о хороших еврейских мальчиках, которые преодолевают нищету и упадок бедных кварталов в городе на юге Германии; иными словами, настоящий кич.
И все же такие положительные отзывы составляют относительно малую часть мифологии о Ротшильдах. Более того, не будет преувеличением заметить, что на каждого автора, который хотел бы приписать хотя бы часть финансового успеха Ротшильдов их добродетелям, найдется два или три, которые придерживаются противоположной точки зрения.
Сначала, в 1820-е – 1830-е гг., нападать на Ротшильдов в печати было не так просто, как впоследствии, особенно в Германии; в числе прочих услуг, которые Фридрих Генц оказывал своим «друзьям», была рассылка в газеты вроде «Альгемайне цайтунг» инструкций с запретом критиковать Ротшильдов. Даже в 1843 г. радикальный республиканец Фридрих Штайнманн не сумел найти издателя для своего подробного и в высшей степени критического труда «Дом Ротшильдов, его история и операции». Книга вышла лишь через 15 лет. Самое большее – допускались намеки на расследования вроде того, что было опубликовано в 1826 г. немецким экономистом и журналистом Фридрихом Листом, в чьем коротком репортаже о краже в Парижском доме Джеймс де Ротшильд некстати назывался «могущественным господином и повелителем всего чеканного и нечеканного серебра и золота в Старом Свете, чьей копилке смиренно поклоняются короли и императоры, царем царей». Даже в относительно либеральной Англии Ротшильдов вначале критиковали лишь в аллегорическом смысле, как, например, на карикатуре Крукшенка «Еврей и врач». Иногда критика допускалась под эгидой парламентской привилегии, как в вышедшей в 1828 г. аллюзии Томаса Данкома «на новую и устрашающую власть, которую до сих пор не знала Европа; повелитель несметных богатств, [который] хвастает, что он является властителем мира и войны и что доверие стран зависит от кивка его головы».
Отнюдь не случайно первая критика Ротшильдов во Франции появилась на страницах литературных произведений. В повести «Банкирский дом Нусингена» (1837–1838) Бальзак изобразил плутоватого банкира, уроженца Германии, который нажил состояние благодаря череде фальшивых банкротств и вынуждал своих кредиторов принимать в возмещение обесцененные бумаги. Сходство властного, безжалостного и грубого Нусингена и Джеймса де Ротшильда слишком бросалось в глаза, чтобы быть просто совпадением. В романе «Блеск и нищета куртизанок» (1838–1847) Бальзак пришел к знаменитому выводу, который относится не только к его персонажу Нусингену, но и, косвенно, к Джеймсу: «…всякое состояние, быстро составленное, является делом случая, следствием открытия либо узаконенного воровства».
Возможно, также именно Бальзак сочинил или, по крайней мере, растиражировал одну из самых распространенных историй «антиротшильдовского» канона. В «Банкирском доме Нусингена» он описывает вторую по величине коммерческую операцию Нусингена: крупную спекуляцию на исходе сражения при Ватерлоо. Девять лет спустя эта история пересказывается в непристойном памфлете Жоржа Дарнваля «Поучительная и любопытная история Ротшильда I, царя иудейского» (1846), где, в частности, написано, что, первым узнав о поражении Наполеона при Ватерлоо, Натан сумел заработать крупную сумму, спекулируя на фондовой бирже. В более поздних версиях той же истории утверждалось, что Натан сам был свидетелем сражения, с риском для жизни переправился через штормовой Ла-Манш и добрался до Лондона, опередив официальное известие о победе Веллингтона и таким образом прикарманив от 20 до 135 млн ф. ст. Другие приписывали ему подкуп французского генерала Груши, следствием чего стала победа Веллингтона; затем он же якобы намеренно исказил известия об исходе сражения в Лондоне, чтобы породить паническую продажу акций.
Конечно, современные писатели могут пересказывать легенду о Ватерлоо, иллюстрируя деловую хватку Натана, – более того, события тех лет в наши дни в основном помнят по этому историческому анекдоту. По признанию жившего позже американского банкира Бернарда Баруха, легенда побудила его заработать свой первый миллион. Однако мысль об огромной прибыли, полученной в результате спекуляции на основе новости, которую узнали раньше остальных, поражала воображение многих современников; более того, она заклеймила такого рода «безнравственную» и «нездоровую» экономическую деятельность, неприятную равно консерваторам и радикалам, когда они обсуждали фондовую биржу. Отказывая Гладстону в просьбе сделать Лайонела де Ротшильда пэром, королева Виктория прямо спросила, может ли человек, «который обязан своим огромным богатством ссудам, предоставленным иностранным государствам, или успешным спекуляциям на фондовой бирже, просить включить его в сословие пэров», поскольку ей это казалось «еще противнее, чем азартная игра, потому что делается в гигантском масштабе – и весьма далеко от законной торговли, к которой она относится с уважением…».
Пересказывая анекдот о Ватерлоо, современники часто подчеркивали и политический нейтралитет Ротшильда: подразумевалось, что в случае победы Наполеона Натан сыграл бы на понижении, а не на повышении, британских облигаций. Правда, некоторые авторы предпочитают считать эту спекуляцию свидетельством положительной поддержки коалиции против Наполеона. Особенно французские критики считают историю с Ватерлоо символом «непатриотичных» (иногда прогерманских, иногда пробританских) взглядов семьи. Как выразился Дарнваль, «Ротшильды всегда только выгадывали на наших катастрофах; когда Франция побеждала, Ротшильды проигрывали». То, что Ротшильды оказывали финансовую поддержку противникам Наполеона, могло равным образом считаться признаком их политического консерватизма. То же самое можно сказать и в связи с тем, что после 1815 г. они предоставляли займы Австрии, Пруссии и Франции Бурбонов. Более того, для радикальных противников династии Бурбонов, восстановленных во власти на Венском конгрессе, Ротшильды были овеяны дурной славой «главных союзников Священного Союза». Немецкий писатель Людвиг Бёрне считал их «худшими врагами государства. Они больше других подрывали основы свободы, и не подлежит сомнению, что большинство народов Европы к этому времени находились бы в полном обладании свободой, если бы такие люди, как Ротшильд… не оказывали тиранам поддержку своим капиталом».
Тем не менее не всегда легко подтвердить, что с политической точки зрения Ротшильды склонялись к консервативным режимам. Уже в 1823 г. в песни двенадцатой «Дон-Жуана» Байрон спрашивал: «Кто властвует на бирже? Кто царит / На всех великих сеймах и конгрессах?» – и отвечал: «Вы думаете – дух Наполеона? / Нет! Ротшильда и Беринга мильоны!» Самое главное здесь то, что Байрон усматривал влияние «Ротшильда» и на роялистские, и на либеральные режимы; его власть распространялась даже на республики Латинской Америки. Еще до революций 1830 г. получила распространение мысль, что Ротшильды не просто банкротили легитимистские режимы; сознательно или бессознательно, они укрепляли собственную власть, которая соперничала с властью королей и императоров, а возможно, и затмевала ее. События 1830 г., когда во Франции свергли Карла X, а Джеймс де Ротшильд остался невредимым, как будто подтверждают намек на некую новую, финансовую, власть, которая важнее королевской. «Не будет ли величайшим благословением для мира, – язвительно спрашивает в 1832 г. Бёрне, – если всех королей прогонят, а на их троны сядет семья Ротшильд?» У. М. Теккерей шутил, что «Н. М. Ротшильд, эсквайр… играл с новыми королями, как девочки с куклами». Генрих Гейне описывал Натана, который сидит, как будто на троне, и говорит, «как король с придворными, которые его окружают». Та же точка зрения заметна у Гейне в описании детского бала-маскарада, устроенного Соломоном: «Дети были в нарядных маскарадных костюмах, и они играли в займы. Они были одеты как короли, с коронами на головах, а один мальчик постарше был одет точно как старый Натан Ротшильд. Он очень хорошо играл свою роль, держал руки в карманах брюк, бренчал деньгами и злился, когда один из маленьких королей хотел взять у него взаймы…»
В другом месте Гейне подробнее анализировал двойственную природу власти Ротшильдов. Он признавал, что в какое-то время она поддерживала реакционные режимы, потому что «революции в целом вызываются нехваткой денег», а «система Ротшильдов… предотвращала такую нехватку». При этом Гейне утверждал, что «система» Ротшильдов также потенциально революционна сама по себе:
«Никто больше самих Ротшильдов так не способствует революции… и, хотя это может показаться еще более странным, эти Ротшильды, банкиры королей, эти величественные распорядители расходов, чье существование может подвергнуться серьезнейшей опасности из-за краха европейской государственной системы, тем не менее сознают… свою революционную миссию».
«Я вижу в Ротшильде, – продолжал он, – одного из величайших революционеров, создателей современной демократии: Ротшильд… уничтожил господство земли, приведя к верховной власти систему государственных облигаций и тем самым мобилизовав собственность и доход и в то же время наделив деньги привилегиями, которыми ранее обладала только земля. Тем самым он, правда, создал новую аристократию, но, поскольку она стоит на самом ненадежном фундаменте, на деньгах, она никогда не будет играть такую устойчиво регрессивную роль, как прежняя аристократия, корни которой находились в земельных владениях, в самой земле».
Ротшильды не только заменили собой старую аристократию; они также представляли новую материалистическую религию. «Деньги – бог нашего времени, – объявил Гейне в марте 1841 г., – и Ротшильд – пророк их».
Похоже, лучше всего революционное значение Ротшильдов демонстрировала их роль в развитии железных дорог. В 1843 г., после открытия финансируемых Ротшильдами железнодорожных линий, проложенных в Орлеан и Руан, Гейне с придыханием писал о «сотрясении» общества, последствия которого он считал непредвиденными. Впрочем, к тому времени в его отношении к крепнущей власти «правящей денежной аристократии» и очевидному слиянию ее интересов с интересами старой земельной аристократии можно различить новую скептическую нотку. В 1840-е гг. все больше журналистов относились к Ротшильдам с неприкрытой враждебностью, гораздо большей, чем та, которую демонстрировал Гейне, находившийся в долгу у Ротшильдов (и надеявшийся, что так будет и дальше). Особенно резкую критику вызвало приобретение Джеймсом концессии по строительству железнодорожной ветки, связывавшей Париж и Бельгию. Так, книга Альфонса Туссенеля «Евреи, короли эпохи: история финансового феодализма» (1846) была в первую очередь направлена против финансовых условий, в соответствии с которыми предоставлялась концессия.
На одном уровне Туссенель был социалистом, впрочем, весьма своеобразным; он считал, что французская сеть железных дорог должна принадлежать государству и управляться им. Однако критика Ротшильдов-капиталистов была неразрывно связана с доводами об их еврейском происхождении. Францию «продали евреям», а железные дороги прямо или косвенно контролировались «бароном Ротшильдом, финансовым королем, евреем, которому пожаловал дворянство сам христианский король». Именно последний аспект книги Туссенеля вызвал больше всего подражателей. Вслед за Туссенелем анонимный автор «Суждения, направленного против Ротшильда и Жоржа Дарнваля» уравнивал иудаизм и капитализм:
Джеймса он называл «евреем Ротшильдом, королем мира, потому что сегодня весь мир принадлежит евреям». Фамилия Ротшильд «обозначает всю расу – это символ власти, которая тянет лапы ко всей Европе». В то же время, «эксплуатируя все, что можно эксплуатировать», Ротшильды были просто «образцом всех буржуазных и коммерческих добродетелей». Хорошо известны связи подобных трактатов с тем, что позже получило название «марксизма». В своей печально известной статье 1844 г. «К еврейскому вопросу» сам Карл Маркс выразил свое отношение к «настоящим евреям», под которыми он имел в виду капиталистов, независимо от их религиозной принадлежности. После революционной волны 1848–1849 гг., когда Ротшильды как будто остались невредимы вместе с большинством временно сброшенных режимов, Марксу ясна была мораль: «…за каждым тираном стоит еврей, как за каждым папой – иезуит».
Правда, к 1850-м гг. Гейне сменил точку зрения. Если до того времени он считал Ротшильдов в каком-то смысле союзниками революционных перемен, то позже такое мнение не подтвердилось. Гейне начал критиковать Ротшильдов не только как защитников политического статус-кво, но также и как типичных капиталистов и потому эксплуататоров. Литераторы левого, революционного толка в 1840-е гг. чаще других уравнивали эти качества с их иудаизмом, хотя никто так и не объяснил, почему отношение евреев к экономической деятельности настолько отличается от отношения неевреев. Если мы хотим найти более или менее связное объяснение делового успеха Ротшильдов, следует обратиться к романам Дизраэли «Конингсби» и «Танкред», пусть их автор довольно странно и со ссылками на самого себя утверждает, будто своим успехом Ротшильды обязаны религии и расе.
Выделяли и другие отличительные признаки. Во Франции периода Второй империи некоторые современники проводили различия между Ротшильдами и другими евреями – между консервативными «высокими банками», олицетворением которых считались Ротшильды, и «новыми» банками, олицетворяемыми «Креди мобилье» (Credit Mobilier), основанным братьями Перейр, последователями Сен-Симона. Банк «Креди мобилье» изображался многими литераторами как главным образом политический вызов доминированию Ротшильдов в государственных финансах Франции. Так, Наполеон III призывал «освободиться» от опеки Ротшильдов. В отличие от многих откровенно антисемитских выпадов против Ротшильдов подобная аргументация оказалась более веской. «Креди мобилье» до сих пор иногда изображают революционным банком нового типа, который способствует индустриализации как эволюционной стратегии – в противовес «старым» и безоговорочно паразитическим частным банкам, возглавляемым Ротшильдами. Но современники, особенно финансист Жюль Исаак Мирес, иногда приписывали это различие в стиле разному культурному фону двух семей (братья Перейр были евреями-сефардами, чьи предки вышли из Испании, а Ротшильды – ашкенази). Другие ощущали различие в более традиционном политическом смысле: Ротшильды олицетворяли «денежную аристократию» и «финансовый феодализм», в то время как их конкуренты выступали за «финансовую демократию» и «экономический 1789 год». В этом смысле упадок и крах в 1860-е гг. «Креди мобилье» становился не просто событием в мире финансов: он стал предвестником краха самой Второй империи. Даже в современной историографии часто приводят знаменитую эпиграмму Джеймса: «Империя – это падение» (L’Empire, c’est la baisse). Его слова часто называют погребальной песней бонапартистскому режиму и символом возрождения политического превосходства «высоких банков» во Франции.
Впрочем, даже после провозглашения республики в 1870 г. поток антиротшильдовской литературы во Франции не иссяк. Только нападали на них теперь справа, а не слева. Так, Гонкурам, братьям-литераторам, салонным снобам-консерваторам, Ротшильды казались «париями – королями мира… которые всего домогаются и всем владеют». Под завесой республиканских взглядов восстановили абсолютизм; однако то был продажный и чуждый абсолютизм, совсем не похожий на монархический и имперский режимы, существовавший ранее. Катализатором для новой волны публикаций, враждебных по отношению к Ротшильдам, послужил крах банка «Юнион женераль» (Union Generale) в 1882 г., в котором его владельцы с горечью обвиняли «еврейские финансы» и их союзников, «масонское правительство». Эмиль Золя в романе «Деньги» изобразил это событие победой персонажа по фамилии Гундерман, олицетворявшего Ротшильда, «короля банкиров, хозяина биржи и всего мира… человека, которому известны были все тайны, который повелевал повышением и понижением курса, как бог повелевает громом». Но Золя хотя бы признавал, что католики-антиевреи предпринимали сознательную попытку низвергнуть Гундермана. Потребовался извращенный ум Эдуара Дрюмона, который в своей книге «Еврейская Франция» (1886) утверждал, что сам банк «Юнион женераль» был основан евреями для того, чтобы лишать католиков их сбережений. «Бог Ротшильд, – писал в заключение Дрюмон, – вот истинный «хозяин» Франции». Еще одним поставщиком подобных пасквилей был Огюст Ширак, который в своих «Королях республики» (1883) и «Спекуляциях 1870–1884» (1887) провозглашал подчинение республики «королю по фамилии Ротшильд с куртизанкой или служанкой по имени «еврейские финансы».
Наверное, самое большое распространение подобные полемические выпады против социальной и политической власти, которой якобы обладали Ротшильды, получили во Франции, хотя такие взгляды находили сторонников повсюду. Например, в Германии на Ротшильдов нападали в таких книгах, как «Франкфуртские евреи и жульнический отъем состояния», опубликованной в 1880 г. издательством «Германикус», откровенно расистском памфлете Макса Бауэра «Бисмарк и Ротшильд» (1891) или в «Истории Дома Ротшильдов» Фридриха фон Шерба (1893). Такие труды находили отклик в риторике антисемитских «народной» и «христианско-социальной» партий, добившихся скромного успеха на выборах в отдельных частях Германии и Австрии. Не гнушались подобными выпадами и социал-демократы. Более того, представление о власти Ротшильдов стало таким всеобъемлющим, что даже уважаемый в ученых кругах (хотя с тех пор дискредитированный) Вернер Зомбарт в своей книге «Евреи и экономическая жизнь» (1911) признавал: «Современная фондовая биржа является ротшильдовской (и потому еврейской)».
Можно найти подобные примеры и в Англии. Там, как и в континентальной Европе, «антиротшильдовские настроения» чаще встречались у левых, чем у правых. Хорошим примером служит книга Джона Ривза «Ротшильды: финансовые правители государств» (1887), в которой автор приходит к типичному выводу: «Ротшильды не принадлежат ни к одной национальности, они космополиты… они не принадлежали ни к одной партии, они были готовы богатеть равным образом за счет друга и врага».
Довод Ривза о том, что Ротшильды захватили политическую власть не только внутри страны, но и во всем мире, был отнюдь не нов. Еще в 1830-е гг. в одном американском журнале появился такой перл: «Ни один кабинет министров пальцем не шевельнет без их советов. Их руки без труда протягиваются от Петербурга до Вены, от Вены до Парижа, от Парижа до Лондона, от Лондона до Вашингтона». По мнению англичанина Томаса Рейкса, современника Ротшильдов, который вел дневник, они были «металлическими монархами Европы». Александр Вейль в своем очерке «Ротшильды и европейские финансы» (1841) заходит еще дальше (в переводе Ривза):
«В Европе есть только одна власть, и эта власть – Ротшильд. Его спутники – дюжина других банкирских домов; его солдаты, его оруженосцы, соответственно, – все дельцы и купцы; а его меч – спекуляция. Ротшильд – следствие, которое неизбежно должно было появиться; и, если бы не Ротшильд, на его месте был бы другой. Впрочем, его ни в коей мере нельзя назвать случайным последствием; он – главное последствие, вызванное к жизни принципами, которые руководят европейскими государствами с 1815 года. Ротшильду, для того чтобы стать Ротшильдом, нужны были эти государства, в то время как государствам, с их стороны, требовался Ротшильд. Однако сейчас Ротшильду больше не нужно Государство, хотя Государство по-прежнему испытывает в нем нужду».
В 1845 г. один анонимный немецкий карикатурист выразил по сути ту же точку зрения, хотя и более наглядно: он изобразил гротескного еврея, за которым явно угадывается Ротшильд, в виде «всеобщего насоса», чудовищного механизма, который выкачивает деньги по всему миру, а его щупальца дотянулись даже до Испании и Египта, где управляют монархами и министрами. Похожий образ появился в «Мефистофеле» Вильгельма Марра в 1850 г., где Ротшильд изображен в окружении европейских королей, и все протягивают к нему руки за деньгами. В 1870 г. Лайонела изобразили в том же виде в «Периоде». Двадцать четыре года спустя американский популист Харви по прозвищу «Монета» изображал Ротшильдов в виде огромного черного осьминога, протянувшего свои щупальца по всему миру. Французский карикатурист Леандр также изображал Альфонса де Ротшильда в виде огромного вампира, сжимающего в своих когтях весь мир.
И все же без ответа остается главный вопрос. Как Ротшильды пользовались своей огромной финансовой властью? Была ли она их конечной целью, результатом патологической жажды к процентам и комиссиям? Наверное, чаще всего современники Ротшильдов считали, что власть позволяла Ротшильдам предотвращать войны. Еще в 1828 г. князь Пюклер-Мускау писал о «Ротшильде… без кого ни одно государство в Европе сегодня, как кажется, не в состоянии вести войну». Три года спустя Людвиг Бёрне недвусмысленно доказал, что продажа Ротшильдом облигаций австрийского государственного займа не позволила Меттерниху провести интервенцию и помешать расползанию революции в Италии и Бельгии. Кроме того, Бёрне намекал, что Ротшильды способны были добиться от Франции более миролюбивой политики по отношению к Австрии. Сходные утверждения делали и видные политики, например австрийский дипломат граф Прокеш фон Остен в декабре 1830 г.: «Все это вопрос способов и средств, и то, что говорит Ротшильд, имеет решающее значение, а он не даст денег на войну». После польского кризиса 1863 г. Дизраэли заявил, что «мир во всем мире сохранили не государственные деятели, а капиталисты». Даже враждебный Ротшильдам Туссенель придерживался той же точки зрения: «Евреи спекулируют па мире, то есть на подъеме, и это объясняет, почему мир в Европе длится уже пятнадцать лет». Позднейшие авторы время от времени придерживались сходной точки зрения. Ширак утверждал, что цитирует Ротшильда, который якобы говорил: «Войны не будет, потому что Ротшильды ее не хотят». По мнению Мортона, пять сыновей Майера Амшеля были «самыми воинствующими пацифистами всех времен и народов». И мало кто не вспоминает исторический анекдот, в котором Гутле Ротшильд якобы заявляет: «До войны дело не дойдет; мои сыновья не дадут на нее денег».
Современным читателям ясно без доказательств, что избежание войны – дело хорошее, даже если мы сомневаемся в способности банкиров предотвратить войну. Однако в эпоху военных конфликтов, которые начались с Крымской войны и закончились Франкопрусской войной, часто находились те, кто ставил под сомнение мотивы, по которым Ротшильды стремились к сохранению мира. Во время войны за объединение Италии, которой, как считается, Ротшильды всеми силами пытались избежать, граф Шафтсбери считал «странным, страшным, унизительным», что «судьбы этой страны служат развлечением нечестивого еврея!». Во время Гражданской войны в США на Севере нападкам подвергался нью-йоркский агент Ротшильдов Огаст Белмонт, потому что он высказывался в пользу мирных переговоров с Югом, а в 1864 г. поддерживал назначение генерала Джорджа Маклеллана кандидатом от Демократической партии. Точно так же раздражение прусского правительства вызывали попытки Ротшильдов избежать военного конфликта в ходе «объединительных войн», когда этого активно желал Бисмарк. Такую же критику «пацифизма» Ротшильдов можно найти в дипломатической и политической переписке великих держав на рубеже XIX и XX вв. В качестве примера окончательного враждебного выпада можно привести слова иностранного редактора (позже редактора) «Таймс» Генри Уикема Стида, который называл попытки Натти избежать войны между Германией и Великобританией в июле 1914 г. «грязной попыткой международных немецко-еврейских финансистов шантажом вынудить нас отстаивать нейтралитет».
Впрочем, другие комментаторы – как слева, так и справа – часто придерживались противоположной точки зрения: они утверждали, что Ротшильды откровенно провоцировали войны. В 1891 г. в газете «Профсоюзный лидер» Ротшильдов называли «бандой кровопийц, ставших причиной неслыханного ущерба и страданий в Европе в течение нынешнего столетия, которые накопили свое огромное богатство, главным образом провоцируя войны между государствами, которые в противном случае никогда бы не поссорились. Стоит где-нибудь в Европе случиться беспорядкам, когда повсюду циркулируют слухи о войне и души переполняет страх перемен и бедствий, можете быть уверены, что где-то неподалеку от места беспорядков маячит Ротшильд с крючковатым носом».
Ту же самую мысль, но более изощренно излагал тяготеющий к левым взглядам либерал Дж. А. Гобсон, автор классического труда «Империализм» (1902). Подобно многим радикальным литераторам того времени, Гобсон считал, что Англо-бурскую войну развязала «небольшая группа международных финансистов, главным образом выходцев из Германии, представителей еврейской расы». Ротшильды, по его мнению, были центральными фигурами в этой группе: «Неужели кто-то всерьез полагает, – спрашивает он в «Империализме», – что какое-либо европейское государство способно вести большую войну или открыть подписку на крупный государственный заем, если против этого выступают Дом Ротшильдов или его клиенты?» Шерб излагает во многом ту же точку зрения в своей «Истории», только с позиций немецкого национализма: «Дом Ротшильдов возвысился из ссор между государствами, стал великим и могущественным из-за войн, а несчастья государств и народов составили его состояние».
Война или мир? Существует, впрочем, еще одна версия: что Ротшильды считали свою финансовую власть средством для защиты интересов своих единоверцев. Для бедных евреев по всей Европе необычайное возвышение Натана Ротшильда и его богатство обладали почти мистической важностью – отсюда легенда о «еврейском талисмане», магическом источнике его удачи, который неразрывно связан с Ротшильдом в еврейском фольклоре. Судя по этой необычайной истории, один вариант которой был опубликован анонимным автором в Лондоне всего через четыре года после смерти Натана Ротшильда, источником финансового успеха Натана служил находящийся в его владении волшебный талисман. Его богатство было на самом деле предназначено для высшей цели: «отомстить за беды, причиненные Израилю», обеспечив «восстановление Иудейского царства – отстроить твои башни, о, Иерусалим!» и «возвращение Иудеи нашей древней расе».
Мнение, что Ротшильды собирались вернуть Святую землю еврейскому народу, можно встретить и в более серьезных трудах. Еще в 1830 г. один американский журнал предполагал, что «небольшие финансовые затруднения» могут вынудить султана продать Иерусалим Ротшильдам. Французский социалист Шарль Фурье пишет о такой возможности в своей книге «Ложная промышленность» (1836). И Дизраэли в 1851 г. говорил о том, что евреи «возвращаются… на свою землю» на деньги Ротшильдов. Ту же мысль можно найти в народных сказках из российской черты оседлости, например «Царь в замке Ротшильдов».
Другой возможностью (о которой также упоминается в сказке) было то, что Ротшильды могли воспользоваться своей финансовой властью, чтобы заставить царя прекратить преследования российских евреев. Это иллюстрировало выбор, над которым приходилось размышлять восточноевропейским евреям весь XIX в.: эмигрировать ли в далекую «Землю обетованную» или оставаться и требовать равенства перед законом? В начале XIX в. перед западноевропейскими евреями стояла та же дилемма. Что важно, автор «Еврейского талисмана» в конце своего трактата обвиняет Натана в том, что тот предпочел удобство социальной ассимиляции в Англии суровым условиям его священной миссии. Более того, он утверждал, что смерть Натана стала результатом его решения искать политической эмансипации в Англии – и звания пэра для себя, – а не продолжать бороться за возвращение евреям Иерусалима.
Центральная дилемма, стоявшая перед Ротшильдами, заключается в следующем: в силу их богатства другие евреи ждали от них руководства в стремлении к равным гражданским и политическим правам. Как мы увидим, такое руководство проявлялось со сравнительно раннего этапа, начиная с попыток Майера Амшеля добиться гражданских прав для франкфуртских евреев в эпоху Наполеоновских войн, и продолжалось кампанией его внука Лайонела за право допуска евреев в палату общин в 1840-е – 1850-е гг. Такая стратегия хорошо подходила Ротшильдам; она сочеталась с их собственными, внутрисемейными планами проникновения в общественную и политическую элиту, где они жили, не меняя религии; кроме того, она позволяла им делать добрые дела на благо своих «единоверцев», в то же время приобретая в глазах других евреев «квазикоролевский» статус. Однако, чем больше Ротшильды стремились к эмансипации евреев как к международной цели – вмешиваясь от имени еврейских общин в дела Сирии, Румынии, России, а также тех стран, где жили они сами, – тем больше поощряли заявления антисемитов о том, что евреи – раса космополитов, не привязанных ни к какой стране. В то же время, когда другие евреи, потеряв надежду ассимилироваться, начали требовать возвращения в Святую землю в том или ином качестве, позиция Ротшильдов оказалась еще больше скомпрометированной: они сами не имели никакого желания покидать свои похожие на дворцы городские и сельские резиденции ради бесплодной Палестины. Их враги-антисемиты радостно потирали руки. На враждебных карикатурах 1840-х – 1890-х гг. Ротшильдов изображали в толпе евреев, покидающих Германию и отбывающих в Святую землю, – они путешествовали первым классом и все же уезжали. Комментируя кампанию Лайонела за допуск евреев в палату общин, Томас Карлайл спрашивал: «Как истинный еврей, по самой сути своей, может пытаться стать сенатором или даже гражданином любой страны, кроме собственной несчастной Палестины, куда должны быть направлены все его мысли, шаги и усилия?»
Таким в общем и целом был довод (хотя и не язык) первых сионистов, таких как Теодор Герцль, которые пришли к выводу, что единственным «решением еврейского вопроса» может стать отъезд всех евреев из Европы и основание собственного еврейского государства. Герцль предпринял ряд попыток заручиться поддержкой Ротшильдов, считая, что они вот-вот «ликвидируют» свой огромный капитал в ответ на антисемитские нападки. Но его обращение «к семейному совету Ротшильдов» на 66 страницах так и не было отослано, поскольку после Первой отповеди Герцль решил, что они «вульгарные, высокомерные, эгоистичные люди». Позже он называл Ротшильдов «национальным бедствием для евреев»; он даже угрожал «ликвидировать» их или развязать против них «варварскую кампанию», если они пойдут против него.
Если даже сионист в 1890-е гг. мог выражаться таким языком, неудивительно, что так же выражались радикальные антисемиты, процветавшие в побежденных государствах Центральной Европы после Первой мировой войны, хотя и с совершенно другими обоснованиями. Более того, наверное, самой любопытной чертой ранней национал-социалистической, шовинистической пропаганды против Ротшильдов является именно отсутствие оригинальности. Неплохим примером может служить обращение Дитриха Экарта «Ко всем рабочим» (1919):
«Дому Ротшильдов принадлежит 40 миллиардов! <…> [Им] нужно лишь применять их богатство, выгодно его размещать, им не нужно трудиться – во всяком случае, в том смысле, в каком «труд» понимаем мы. Но кто обеспечивает их и их семьи таким огромным количеством денег? <…> Кто делает это? Вы, никто, кроме вас! Совершенно верно, это ваши деньги, заработанные трудами, путем лишений и экономии, деньги, которые словно магнитом притягивает в сундуки этих ненасытных людей».
Подобные призывы не слишком отличались от того, что говорили радикалы во Франции и в Германии начиная с 1840-х гг. Еще одним национал-социалистом, считавшим Ротшильдов образцом «еврейского вопроса», который он обещал «решить», был Гитлер. Так, в статье, опубликованной в мае 1921 г. в нацистской «Фёлькише беобахтер», он называл их представителями группы еврейских «капиталистов», которые управляли социалистической прессой. В 1922 г. он не менее двух раз произносил речи, в которых ссылался на «существенную разницу между достижениями такого человека, как Альфред Крупп, который увековечил свои огромные достижения путем неустанного новаторского труда, и ненасытностью Ротшильда, который финансировал войны, революции и загонял целые народы в процентное рабство путем займов». Сходную точку зрения высказывал и Розенберг в книге «Миф двадцатого века».
Неслучайно Гитлер употреблял прошедшее время; к 1920-м гг. во Франкфурте уже не было банка Ротшильдов, и даже три оставшихся банкирских дома Ротшильдов в Лондоне, Париже и Вене перестали играть главную роль в экономике Германии. Однако это не помешало нацистам после прихода к власти неоднократно делать Ротшильдов целью своей антисемитской пропаганды: старые мифы вытащили со свалки и дополнили новыми подробностями, чтобы продемонстрировать различные расовые характерные черты, которые были так противны Гитлеру. Например, в пьесе Эберхарда Мюллера «Ротшильд побеждает при Ватерлоо» (1936) Натан на поле сражения произносит такие слова: «Мои деньги повсюду, и мои деньги дружелюбны. Это самая дружелюбная власть в мире, она толстая, круглая, как пуля, и улыбается»; «Мое отечество – лондонская фондовая биржа»; «Богатство Англии в моих руках». Сходные темы пользовались популярностью и в мае 1938 г., когда антиеврейскую выставку Ю. Штрейхера послали в Вену. Один зал был посвящен исключительно Дому Ротшильдов. В позднейшей версии, которую привезли во Франкфурт, экспонировали поддельные «факсимильные письма», написанные Майером Амшелем «одному английскому банкиру». В письмах Майер Амшель якобы объяснял, «как он собирался разослать своих пятерых сыновей по всей Европе с целью захватить всю нееврейскую торговлю и финансы».
Кульминацией нацистской антиротшильдовской пропаганды стал фильм Э. Вашнека «Ротшильды», который вышел на экраны в июле 1940 г., а затем переснят и после доработки вышел год спустя с подзаголовком «Акции на Ватерлоо». Он стал одним из трех фильмов, призванных подготовить население Германии к более жестким мерам, направленным против евреев; наряду с ним демонстрировали фильм «Еврей Зюсс» и печально известный «документальный» фильм «Вечный жид». Правда, легенда о Ватерлоо поначалу вызвала замешательство в министерстве пропаганды, поскольку тогда там еще не знали, как им «правильно» вести себя с Великобританией. В то время как некоторые англичане (Веллингтон и «министр финансов» Херрис) изображаются продажными и нравственными уродами, другие, особенно банкир «Тернер» и его жена-ирландка, изображаются вполне сочувственно, как жертвы махинаций Ротшильдов. Впрочем, сами Ротшильды изображены вполне недвусмысленно, что доказывает синопсис, составленный союзниками после войны:
«В 1806 г. «ландграф» Гессенский, убегая от Наполеона, вынужден кому-то отдать на хранение свое состояние в 6 млн ф. ст. Он отдает деньги еврею-банкиру из Франкфурта, Майеру Амшелю Ротшильду. Злоупотребление его деньгами становится фундаментом власти Ротшильдов. Амшель Ротшильд посылает деньги своему сыну Натану, которого не уважают конкуренты. Но Натан безжалостно обманывает их всех. С помощью своего брата из Парижа он передает деньги Веллингтону в Испанию – Натан должен первым узнать новость, что Наполеон бежал с острова Эльба; он единственный ставит все свое состояние на возвращение Людовика Орлеанского [так!]. В обществе он становится посмешищем – никто не воспринимает его всерьез, кроме его еврейских наймитов и министерства финансов Великобритании. «Лорда» Веллингтона снова посылают сражаться с Наполеоном. У него почти нет времени подготовиться к войне – все его время отнимают дамы! Зато ему (как и Фуше в Париже) вполне хватает времени на то, чтобы совещаться с Ротшильдом, который намекает, что Веллингтон будет щедро вознагражден, если Ротшильд первым узнает об исходе сражения. Как только Ротшильд узнает, что Наполеон побежден, он распространяет весть о поражении англичан. За этим следует паника – все продают государственные облигации. Их скупает Ротшильд. Бедняки теряют свои деньги. Немногие уважаемые богатые англичане (один из них изображен вполне порядочным благодаря тому, что женат на ирландке!) теряют все свое имущество. Звезда Давида нависает над Англией – над той частью мира, с которой сражается нацистская Германия».
Налицо все темы нацистского антисемитизма. Евреи не хранят верность тем странам, где они живут, и просто хотят нажиться на страданиях остальных: «Много денег можно нажить только большой кровью!» – говорит Майер Амшель (Эрих Понто) Натану (Карл Кульман). Под их руководством «международное еврейство» занимается «гигантскими спекуляциями», в то время как «солдаты истекают кровью на полях сражений». Евреи физически выглядят по-другому; они вызывают отвращение: Майер Амшель ходит в кафтане и с браслетами, а его жирный сын питает преувеличенное вожделение к жене своего соперника-арийца – характерный для Геббельса штрих. Несмотря на то что министру пропаганды фильм не понравился, он пользовался относительной популярностью: тайная полиция докладывала о большом воодушевлении во время первых показов в Берлине и окрестностях. Как сообщалось, фильм собирал полные залы в оккупированной Франции. Когда в январе 1945 г. один британский военнопленный листал немецкую газету, он был так поражен, найдя вариант этой истории на первой полосе, что перевел ее и взял с собой на родину после того, как окончилась война.
Поучительно сравнить фильм Вашнека с его американским предтечей и образцом, «Дом Ротшильдов», поставленным Дэррилом Зануком в 1934 г., в котором обе главные роли, Майера Амшеля и Натана, исполнял Джордж Арлисс. В более раннем фильме Ротшильды изображены сочувственно: их путь «из грязи в князи» – вариант «американской мечты» (дополненный здоровым романом между дочерью Ротшильда и отважным молодым британским офицером, который привозит весть о победе при Ватерлоо). В то же время препятствия, с которыми они сталкиваются, зловещий прусский министр барон Ледранц (Борис Карлофф) и мятежная толпа во Франкфурте, – намекают на тогдашние события в Германии. Однако даже в американском фильме история Ротшильдов представлена по большей части в виде мифа, и многое там можно истолковать не в таком сочувственном свете. Майер Амшель, хотя и симпатичный старик с искорками в глазах, который устраивает утренники для детей, все равно вынашивает планы мирового господства. Более того, местами два фильма похожи на точные копии друг друга. В фильме Вашнека Натан рисует карту Европы, чтобы показать центры власти Ротшильдов, а также их родословное древо, которое, когда ветви соединяются, образует звезду Давида; затем пылающая звезда накладывается на карту Англии с сопровождающими титрами: «В то время как снимается этот фильм, последние члены семьи Ротшильд покидают Европу как беженцы и спасаются у своих союзников в Англии. Битва против британской плутократии продолжается!» В фильме Занука использован очень похожий образный ряд: на смертном одре Майер Амшель велит пяти сыновьям ехать в разные европейские города. Затем эти города высвечиваются на карте, на которую снова накладывается звезда Давида. Однако заключительная фраза фильма подчеркивает параллель между нацистской антиеврейской политикой и антисемитскими погромами против франкфуртских евреев в 1918 г. По сути два фильма рассказывают об одном и том же, хотя и в разном ключе.
Такое двуликое изображение Ротшильдов в кино симптоматично и указывает на более общую двусмысленность. Все существующие легенды, связанные с Ротшильдами, можно считать единым мифом – мифом об огромном богатстве; о стремительном взлете по социальной лестнице; о безграничной политической и дипломатической власти; и о каком-то таинственном последнем доводе, который имеет отношение к религии семьи. Обычно миф пересказывают в пренебрежительном тоне: богатство нажито неправедным путем, проникнуть в высшее общество не удалось, власть основана на коррупции, а цели зловещи. Однако равным образом его можно рассказывать в голливудском стиле, как сказку об экономических сверхдостижениях, общественном успехе, законной власти и нравственности. Другие темы, которые активно использовались в нацистской пропаганде, разумеется, с тех пор стали табу – в некоторых странах они даже преследуются по закону. Но двусмысленность мифа о Ротшильдах как будто гарантирует его постоянное воспроизводство и модификацию. Последнее ярче всего проявилось во Франции. Отдельные номера сатирического журнала «Крапуйо», выходившие в 1951 г., были несомненно антисемитскими; в них перепечатывались статьи (и карикатуры) из праворадикальной литературы XIX в. Впрочем, отдельные «гранды», которым доставалось на страницах журнала, евреями не были и в целом тон статей был сравнительно умеренным. Как показывает работа таких писателей, как Костон и Пейрефитт, в атмосфере Четвертой республики возможно было повторять более или менее дословно старые легенды о «200 семьях, которые правят Францией», лишь слегка меняя интонацию. Что характерно, в апреле 1962 г., когда премьер-министром (а позже, в 1969 г., президентом) стал бывший директор банка «Братья де Ротшильд» Жорж Помпиду, журнал «Канар ан-шене» прокомментировал назначение просто: «Теперь Французская Республика равна братьям Ротшильд». Впрочем, такие же отголоски легенды о Ротшильдах можно отыскать и в британской прессе. В 1980-е гг. кое-кто позволял себе враждебные выпады исходя из того, что ряд политиков-консерваторов работали в банке «Н. М. Ротшильд и сыновья» либо до, либо после назначения на политические посты, в то время когда банк проводил ряд крупных операций по приватизации. Глава теневого кабинета министров от партии лейбористов Рой Хаттерсли дошел до того, что усматривал «взаимосвязь вклада в партию тори и получение должностей в правительстве» после первой проведенной Ротшильдами приватизации, – позже он вынужден был отозвать свое утверждение.
Однако нигде миф о Ротшильдах не повторяется с такой пылкостью, граничащей с безумием, как в писаниях Дэвида Айка, в прошлом члена партии «зеленых», который стал проповедником «религии нового века». Айк называет Ротшильдов членами «всемирной элиты или братства», которое называется также «культом всевидящего ока», а также «надсмотрщиками», которые тайно управляют миром. Начиная с времен Майера Амшеля они «манипулируют правительствами и работают с помощью сети своего братства, порождая войны и революции». Они – тайная власть, которая «правит» другими известными банками, такими как банки Варбургов, Шродеров и Лазардов, а также «стоят» за такими американскими финансистами, как Дж. П. Морган, Рокфеллеры, Кун, Лёб и К(«очевидный фронт Ротшильдов»), Спейеры и Леманы – не говоря уже об Английском банке и Федеральной резервной системе. Через свою всемирную сеть они, среди прочего, инспирировали следующие события: убийство Авраама Линкольна; Англо-бурскую войну; создание Израиля (первый шаг к контролю над ближневосточной нефтью); революцию в России («удачный удар по России посредством Соединенных Штатов, финансовой руки всемирной элиты, во многом управляемой Ротшильдами»); финансирование Гитлера… И даже плавающий курс доллара при президенте Никсоне – их рук дело. Сегодня, утверждает Айк, Ротшильды и их помощники из консервативной партии и прессы замышляют монополизировать всемирные запасы энергии – отсюда их интерес к приватизации электричества, угля и газа.
Беглые поиски в Интернете открывают изобилие таких же странных теорий заговора. «Очерк корпоративного и банковского влияния» Дона Аллена призван доказать «линейную связь» между Ротшильдами, Английским банком и Федеральной резервной системой. В «А-альбионик Рисерч Уикли» Джеймс Доэрти утверждает, что опознал «всемирный денежный картель» или «Империю Сити», которые действуют в интересах «короны» посредством «легендарных» торговых банкиров Английского банка, в том числе Варбургов, Ротшильдов и Бэрингов. В «Письменах для Америки» приводится более изощренная версия утверждений Айка об экономическом обосновании, стоящем за поддержкой Ротшильдами сионизма, «единственной целью» которого, очевидно, является «обеспечение постоянного и безопасного доступа к обширным природным ресурсам на Дальнем Востоке». В том же духе написана и «Нация заговора» Шермана Г. Скольника. Там повторяется утверждение, что Ротшильды «организовали убийство президента Линкольна», поскольку его «послевоенная политика должна была положить конец их спекуляциям». Кроме того, Скольник повторяет, что «Ротшильды… финансировали приход Гитлера к власти как бастион против Советского Союза», добавив в виде «разъяснения», что «Ротшильды тесно сплетены с католической церковью и, совместно с традиционной мафией и американским ЦРУ, стакнулись с Банком Ватикана, который занимал пронацистскую позицию».
Такие сюрреалистические пасквили не ограничиваются Интернетом. В книге телепроповедника и политика-республиканца Пата Робертсона «Новый мировой порядок», вышедшей в 1991 г., утверждается, что Ротшильды «запятнали себя оккультизмом… просвещенного масонства» и что «Пол Варбург, создатель Федеральной резервной системы, был агентом Ротшильдов». Выходец из совершенно другой политической среды, Халид Мухаммад – бывший помощник Луиса Фаррахана, лидера радикальной афроамериканской организации «Нация ислама» – повторяет предположение, что «Ротшильды… финансировали Гитлера» и «помогали» в его антисемитской политике; так же как – ну, разумеется! – «приобрести контроль» над Английским банком и Федеральной резервной системой. Можно подумать, что серьезная история банка должна всячески избегать ссылок на такого рода чушь. Однако невозможно проводить всестроннее научное исследование предмета, беззаботно делая вид, будто таких мифов не существует.
Таким образом, отчасти целью данной книги является замена мифологии о Ротшильдах исторической реальностью, насколько возможно «реконструировать» ее из существующих документальных источников. Некоторые читатели наверняка зададутся вопросом, почему этого не сделали раньше. В самом деле, почему лишь крошечная доля книг, посвященных Ротшильдам, на самом деле основана на серьезных архивных исследованиях? С одной стороны, богатые и успешные семьи часто обращаются к помощи наемных писателей, которые стремятся заработать деньги, в который раз пересказывая старые, уже вышедшие в тираж мифы и анекдоты. Еще одна причина – в том, что до недавнего времени было совсем непросто получить доступ к соответствующим документам. К сожалению, обширный архив Франкфуртского дома, в который входило также все, что сохранилось от Неаполитанского дома, был уничтожен в 1912 г., за исключением немногочисленных ранних документов, пересланных в Париж4. Часть архива Венского дома в 1938 г. конфисковали нацисты; в конце войны архив оказался в руках советских властей вместе с различными бумагами, принадлежащими членам французской ветви семьи, захваченными в годы немецкой оккупации. Эти материалы в годы холодной войны были похоронены в московском «трофейном» архиве КГБ и лишь в 1990 г. стали доступны зарубежным исследователям в Центре хранения историко-документальных коллекций5. Когда граф Корти в 1927–1928 гг. писал свой двухтомный труд о «возвышении» и «правлении» Ротшильдов, ему приходилось полагаться главным образом на австрийский государственный архив и опубликованную переписку, мемуары и дневники политиков XIX в. Архив Лондонского дома до 1978 г., как правило, оставался закрытым для ученых, хотя члены семьи и такие близкие к ним люди, как Люсьен Вольф, пользовались находившимися там документами для написания ряда важных монографий.
С другой стороны, архив Французского дома – основа монументального двухтомного труда Бертрана Жилля, опубликованного в 1960-е гг., – после национализации в 1981 г. банка Ротшильдов находится в Национальном архиве. Учитывая богатство материала, которое находилось в Париже и Лондоне после того, как семья ослабила ограничения, странно, как мало с тех пор проводилось серьезных исследований. В основном социальная и политическая история английской ветви династии и горстка статей и монографий на довольно узкие темы служит сравнительно малым урожаем для таких важных – более того, во многом уникальных – документальных коллекций. Даже том очерков «Ротшильды: европейская семья», написанный к выставке 1994–1995 гг., прошедшей с большим успехом в Еврейском музее Франкфурта, содержит довольно мало произведений, основанных на новых архивных исследованиях. Книга Полин Превост-Марсийяси, посвященная архитектуре Ротшильдов, – единственная на сегодняшний день книга, автор которой успешно воспользовалась всеми главными документальными коллекциями Ротшильдов в Лондоне, Париже и Москве.
Впрочем, можно привести еще одно объяснение такому малому количеству научных трудов. Оно заключается в обширности материалов. Архивы содержат поистине огромное количество писем и документов. «Мы, Ротшильды, – закоснелые писаки, – напоминала Шарлотта де Ротшильд своим детям в 1874 г., – и жить не можем без писания и получения писем». Что правда, то правда! Самыми важными в лондонском архиве являются так называемые «личные письма» (серии XI/109), переписка между партнерами банка в период 1812–1898 гг. Эти письма занимают 135 коробок. Из них я ссылался в тексте примерно на пять тысяч. (Для сравнения, в базе данных писем из всех архивов, которую полностью или частично цитировали я и мои помощники, содержится около 13 тысяч статей.) Частота личной переписки – ее можно считать личной в том смысле, что, за немногими исключениями, с их содержанием были знакомы лишь отправители, адресаты и иногда клерки-переписчики, – значительно варьировалась в зависимости от объема операций, политических новостей, количества партнеров в различных отделениях и времени года. Иногда партнеры в Париже в спокойную неделю отправляли всего по два-три письма; но на пике активности три партнера могли писать по одному-два письма в день. Вот простой пример: в марте 1848 г. лондонские партнеры получили по меньшей мере 60 важных приватных писем от своих партнеров на континенте. Такие письма часто бывали весьма пространными. В первые годы существования компании Амшель и Соломон имели обыкновение писать братьям по пять-шесть раз в неделю. В их посланиях политические новости, финансовые сведения, деловые запросы и ответы перемежаются семейными сплетнями и личными жалобами. Можно сказать, что тогдашние письма заменяли телефонные переговоры: в них часто содержатся сведения такого рода, которые нынешние бизнесмены редко доверяют бумаге. Кроме того, следует подчеркнуть, что письма Ротшильдов были нетипичными по меркам XIX в. Во-первых, поскольку партнеры, как правило, находились не так далеко друг от друга в географическом смысле, немногие конкуренты Ротшильдов переписывались таким образом на регулярной основе. Маловероятно, чтобы сравнимые по объему связки писем хранились в архивах других банков. Во-вторых, благодаря прочным семейным связям в личных письмах, как правило, содержатся самые важные и надежные политические сведения. В 1840-х гг. Джеймс не преувеличивал, уверяя, что он может «ежедневно» видеться с королем Луи-Филиппом: во времена политических кризисов именно так и было. Его письма в Лондон, которые я цитирую довольно часто, представляют собой один из самых примечательных источников по финансовой и политической истории XIX в.
Архив оставляет лишь два повода для сожаления. В серии XI/109 имеется значительный и непонятный пробел, относящийся к периоду 1854–1860 гг., а после 1879 г. переписка сходит на нет, хотя письма из Парижа в серии XI/101 продолжаются вплоть до 1914 г. Что серьезнее, почти все копии исходящих писем от лондонских партнеров (если они вообще делались) были уничтожены по приказам последующих старших партнеров. Письма, относящиеся к периоду 1906–1914 гг., занимают всего восемь коробок. Поэтому письма Натана можно считать поистине драгоценными – они довольно редки по сравнению с тысячами писем его братьев. Досадно мало писем от его старшего сына Лайонела; до 1906 г. почти нет писем от его внуков. Следует также заметить, что сохранилось сравнительно мало неделовых писем партнеров; более того, первый лорд Ротшильд потребовал, чтобы после его смерти всю его личную переписку сожгли (хотя мне удалось найти несколько писем в архивах тех политиков, кому он писал). Если временами история банка «Н. М. Ротшильд и сыновья» делает крен в сторону континентальных родственников, это неизбежное следствие неравномерности источников. Нам повезло в том, что сыновья Натана (особенно
Нат) проводили на континенте много времени, и сохранились их письма «домой» родителям и братьям; но они, разумеется, не заменяют писем из Лондона. Для сравнения, мне не удалось найти ничего, кроме случайных образцов еще более обширной общей и приватной переписки от различных агентов Ротшильдов – особенно тех, которые находились в главных центрах в Мадриде, Брюсселе, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Мехико и Сан-Франциско. Сохранилось довольно много рутинных деловых писем от представителей мелких и средних фирм, которые выступали в роли «корреспондентов» или время от времени вели дела с Ротшильдами; и снова мне хватило времени только на то, чтобы бегло просмотреть часть писем, которые иногда приходили даже из Калькутты, Шанхая, Мельбурна и Вальпараисо.
Еще одна трудность, которая объясняет, почему письма из серии XI/109 до сих пор не использовались историками в полной мере, заключается в том, что, вплоть до конца 1860-х гг., все представители второго поколения и ряд ключевых фигур третьего поколения партнеров (а также некоторые агенты фирмы) переписывались друг с другом главным образом на юдендойч, или раннем идише, диалекте немецкого, который записывался древнееврейскими буквами. Отчасти так произошло потому, что идиш был первым языком членов семьи. В то же время Ротшильды не хотели, чтобы их личную переписку читали посторонние. Даже современным знатокам иврита с трудом удается расшифровывать относительно архаичный шрифт, которым пользовались братья. Поэтому мои предшественники в основном полагались на переводы редких писем или отрывков, подчас весьма вольные, сделанные группой беженцев из Германии, нанятых в помощь исследованию в 1950-е гг. (так называемые материалы «Т»), или на письма, написанные детьми Натана на довольно разборчивом английском. Однако героический труд Мордекая Закера, который перевел часть писем, а часть – начитал на диктофон, устранил для меня это препятствие, сделав впервые доступным «девственный» исторический источник первой степени важности.
Зная, что посторонним не так легко прочесть их корреспонденцию, Ротшильды писали друг другу более или менее откровенно – огромное преимущество для исследователя! Их письма отличаются уникальной прямотой и интимностью. Партнеры высказывались откровенно, а подчас даже оскорбительно; они, как правило, не скрывали своего отношения к монархам и министрам, с которыми им приходилось иметь дело, а мнения их редко бывали лестными. Тон писем разговорный, подчас грубоватый. Сразу заметен контраст с официальными, сухими, деловыми письмами, посланными из одного Дома Ротшильдов в другой, или с гораздо более тщательно составленными письмами к политическим друзьям или деловым партнерам за пределами узкого круга партнеров и членов семьи. Если рассматривать их в связке с другими архивными источниками, перечисленными в библиографии, письма Ротшильдов открывают пласт реальности, во многих отношениях более интересный, чем самые причудливые мифы.
Ученые-историки любят участвовать в историографических дебатах. Ротшильды служат темой для стольких дискуссий, что утомительно углубляться далее простого перечисления, что я, послушный долгу, сейчас и делаю. Пять домов Ротшильдов составляют раннюю версию того, что позже стало известно как «многонациональная компания»: историкам бизнеса, возможно, небезынтересно будет узнать больше о том, как работала фирма в виде международной частной компании. Специалисты по истории экономики много лет стараются оценить вклад банков в индустриализацию; по этому вопросу здесь можно найти богатый материал, особенно в том, что касается роли Ротшильдов в развитии европейских железных дорог. Кроме того, история Ротшильдов хорошо иллюстрирует разницу в подходе к банковскому делу в Великобритании, Франции и Германии, по той очевидной причине, что различные ветви семьи работали в каждой стране сходными, хотя и не идентичными, способами. Книга также проливает свет на часто обсуждаемый вопрос о европейском экспорте капитала: сторонникам парадигмы Гобсон/ Ленин, возможно, захочется сравнить ее с представленными здесь фактами. Мне хотелось бы думать, что книга также внесет свой вклад, пусть и косвенный, в некоторые более технически изощренные дебаты в еще молодой отрасли финансовой истории. Боюсь, что мой труд не может служить «образцовой» историей банка. Прекрасно сознаю, что я не написал ничего об «асимметричной информации», «нормировании кредита» и «управлении портфелем», но надеюсь, что люди, заинтересованные в таких вещах, не будут совсем разочарованы теми разделами книги, которые посвящены прибылям, убыткам и балансовым отчетам. По крайней мере, эти данные сейчас можно сравнить с другими, опубликованными в трудах по истории других банков, – задача, к которой я лишь приступил.
Надеюсь, что специалисты по социальной истории сочтут книгу полезным вкладом не только в старую дискуссию о классах, но и в более модные дискуссии о структуре семьи и отношениях между полами в среде богатой элиты: хотя партнерами банкирского Дома Ротшильдов могли быть исключительно мужчины, я старался не забывать об их матерях, женах и дочерях, чьи способности, как справедливо указала Мириам Ротшильд, не уступали, а зачастую и превосходили способности Ротшильдов-мужчин.
Специалисты по еврейской истории, возможно, заподозрят, что перед ними очередная книга о семье, которую довольно часто рисовали черными красками; смею надеяться, что, будучи атеистом из семьи кальвинистов, я не слишком неверно истолковал все более сложные отношения между «исключительной семьей» и их «единоверцами». Не думаю, что переоценил важность той роли, какую Ротшильды сыграли в современной истории евреев. Хотя это не моя сильная сторона, я надеюсь удовлетворить историков культуры, уделив должное внимание современным аллюзиям на Ротшильдов в «высокой» и «низкой» литературе, а также постарался не забыть о роли членов семьи как коллекционеров произведений искусства и покровителей многих выдающихся архитекторов, писателей и композиторов XIX в. Книга также может пригодиться специалистам по политической истории, особенно тем, кто интересуется Францией, Великобританией и Германией. Сознаю, что мог неверно истолковать некоторые самые неясные аллюзии на мир высокой политики во Франции XIX в. в письмах Джеймса и его племянников; но я прошу специалистов по французской истории поправить меня, проведя собственное исследование соответствующей переписки. Может быть, по здравом размышлении, книга больше всего понравится тем немодным ученым, которые по-прежнему интересуются историей дипломатии. Они найдут в книге довольно много материалов (больше, чем я первоначально собирался написать), посвященных бельгийскому нейтралитету, Шлезвиг-Гольштейну, «восточному вопросу» и причинам различных войн, которые велись (или которые удалось предотвратить) в период между сражениями при Ватерлоо и на Марне. Необходимо помнить, что именно дипломатию Ротшильды считали самым важным делом после финансов или, точнее, неотделимым от них.
Всем этим различным слоям читателей приношу свои извинения за многочисленные опущения: из-за того, что книга должна была быть написана за три года (процесс занял почти пять лет), остались письма, которые я не прочел, книги, которые я просто пролистал, архивы, которые я не посетил. Решая, что взять, а что опустить, я отдавал первенство документам до сих пор неизвестным или известным только отчасти. Если какой-либо архив уже был хорошо «просеян» предыдущим историком, я предпочитал не идти по следу, чтобы не рисковать увековечивать ошибки. Таким образом, мой труд следует считать чем-то вроде программы исследований: особенно требует дальнейшего изучения лондонский архив. Очень надеюсь, что вскоре в свет выйдут многочисленные монографии, в которых будут исправлены мои грубые мазки и, несомненно, появится больше подробностей.
То, что книга может хотя бы претендовать на широту охвата, само по себе должно утешать читателя, не принадлежащего к ученым кругам; надеюсь, что такие читатели простят мне абзацы, которые выдают профессию автора, точно так же, как читатели-банкиры или читатели-евреи простят мне неизбежные ошибки и фальшивые ноты. Если моя книга как-то помогает воссоздать экономическую, социальную, культурную, политическую историю и историю дипломатии и в процессе сделает понятнее и мир XIX в., и «исключительную семью», значит, автор прошел весь путь от пункта А, где он начал, до пункта Б, где он надеялся закончить.
Часть первая
Отец и сыновья
Глава 1
«Наш благословенный отец»: истоки
Да, мой дорогой, все сводится к следующему: чтобы что-то сделать, ты должен кем-то быть. Мы считаем Данте великим, но за его спиной была многовековая цивилизация; Дом Ротшильдов богат, но для достижения такого богатства понадобилось не одно поколение. Все подобные вещи лежат глубже, чем думаешь.
Гете, октябрь 1828 г.
Путешественник, попавший во Франкфурт XVIII в. и проходивший по главному мосту Заксенхойзер, ведущему к воротам Фартор, едва ли мог пропустить «Юдензау» – «Еврейскую свинью» (см. ил. 1.1). Непристойная фреска на стене изображала группу евреев, поклоняющихся разъяренной свинье. Пока один из них сосет ее сосцы, второй (в одежде раввина) задирает ей хвост, чтобы третий (также раввин) пил ее экскременты. На происходящее одобрительно взирал «еврейский дьявол». Подняв голову, путешественник увидел бы и вторую, еще более отвратительную, фреску: мертвый младенец, чье растянутое тело истыкано ножами, а под ним девять кинжалов. «В Великий четверг в год 1475, – гласила надпись, – младенец Симеон, двух лет от роду, был убит евреями». Скорее всего, речь идет о деле Симона Трентского, который предположительно стал жертвой «ритуального убийства», вымышленного ритуала, по которому евреи убивали христианских младенцев, чтобы замешать их кровь в мацу.
Такое наглядное выражение антиеврейских настроений ни в коем случае не было уникальным: изображения евреев, которые поклоняются свинье, можно встретить на многочисленных гравюрах и в печатных листах начиная с XIV в., а миф о ритуальном убийстве получил хождение в Германии в XV в. Однако франкфуртские фрески были примечательны – по крайней мере, в глазах самого прославленного сына города, Иоганна Вольфганга фон Гете – тем, что они стали «не плодом личной враждебности, но воздвигнуты как публичный монумент». «Юдензау» и убитый ребенок были официально одобренными символами давней традиционной враждебности к врагу в пределах вольного имперского города6.
Первые упоминания о еврейской общине во Франкфурте датируются серединой XII в., когда община насчитывала от 100 до 200 человек. Ее история отмечена периодическими преследованиями со стороны нееврейского населения. В 1241 г. более франкфуртских евреев были убиты в так называемой «битве евреев» («юдепшлахт»). В последующие десятилетия община восстановилась, но всего сто лет спустя, в 1349 г., произошел второй погром. В обоих случаях сыграл роль распространенный в народе милленарианизм: зачинщики первой «битвы» боялись, что евреи заключили союз с монгольской ордой; во втором случае страхи разжигали члены ордена флагеллантов, или «бичующихся», которые уверяли, что евреи навлекут на город чуму.
Впрочем, имелись и вполне земные причины, по которым и император Священной Римской империи, который в 1236 г. провозгласил евреев «слугами нашими и слугами нашей казны» (servi nostri et servi camerae nostri), и муниципальные власти поощряли евреев, которые желали поселиться в городе. Евреи были источником налоговых поступлений и кредита (в законах, запрещающих ростовщичество, для них было сделано исключение). «Защита» и ограниченные привилегии предлагались им в обмен на звонкую монету. Однако защита и ограничения шли рука об руку. В 1458 г., по приказу императора Фридриха III, евреев ограничили пределами гетто (от итальянского слова «боргетто», или пригород). Они должны были селиться на одной узкой улице на северо-восточном краю города, ограниченной с двух сторон воротами. 110 жившим в городе евреям это заключение на улице, получившей название Юденгассе (Еврейский переулок), казалось «новым Египтом». С другой стороны, из-за постоянных нападок местных жителей гетто становилось своего рода убежищем. Обвинения в ритуальном убийстве в 1504 г. и попытка объявить евреев еретиками пять лет спустя продемонстрировали членам общины их беззащитность. То же произошло в 1537 г., когда большинство жителей Франкфурта перешло в лютеранство, – враждебность Лютера по отношению к евреям общеизвестна. Юденгассе оказывалась своего рода убежищем в опасном мире. С 1542 по 1610 г. ее население выросло с примерно 400 до 1380 человек (параллельно во Франкфурт из Нидерландов мигрировали гугеноты). Экономическое и социальное недовольство, совпавшее с этими притоками населения – или вызванное ими, – вылилось в еще одну вспышку насилия местных жителей против еврейской общины, так называемые «бунты Феттмильха», названные в честь их предводителя – лавочника Винсенца Феттмильха. Впрочем, многочисленные грабежи на Юденгассе в тот раз не сопровождались массовыми убийствами (евреев выгнали из города), а после короткого периода народного правления мятеж подавили имперские войска. Феттмильха и других предводителей бунта повесили, и евреи вернулись назад в гетто, убедившись, что по-прежнему находятся под защитой императора.
1.1. Анонимная гравюра начала XVIII в. Симон Трентский и «Юдензау»
На практике, как и прежде, «защита» выливалась в необычайно строгие правила, которые местные власти подробно изложили в «Штеттигкайт», законе, который зачитывался вслух каждый год в главной синагоге. По его условиям, которые оставались в силе до самого конца XVIII в., еврейское население ограничивалось всего 500 семьями; количество свадеб урезалось до 12 в год, а вступать в брак можно было лишь по достижении 25 лет. Не более чем двум евреям из других мест разрешалось селиться в гетто каждый год. Евреям запрещалось возделывать землю, торговать оружием, специями, вином и хлебом. Им запрещалось жить за пределами Юденгассе; до 1726 г. они обязаны были постоянно носить заметные знаки различия (два концентрических желтых кольца для мужчин и полосатое покрывало для женщин). По ночам, по воскресеньям и в дни христианских праздников гетто запирали. В остальное время евреям запрещалось ходить по городу больше чем по два человека в ряд. Им запрещалось находиться в парках, тавернах, кофейнях и на променадах, устроенных вокруг живописных городских стен; в городскую ратушу они обязаны были входить с черного хода. Городской рынок им разрешалось посещать только перед закрытием; на рынке они не имели права трогать овощи и фрукты. Выступая в суде, евреи приносили особую присягу, которая напоминала всем присутствующим о «наказаниях и проклятиях, которые Господь наложил на проклятых евреев». Если на улице еврей слышал слова «Jud, mach mores!» («Еврей, исполняй свой долг!»), он обязан был – пусть даже слова эти произнес просто мальчик – снять шапку и посторониться. А если еврей выезжал за пределы Франкфурта – на что требовался специальный пропуск, – возвращаясь, он обязан был заплатить пошлину в двойном размере по сравнению с неевреями. Кроме того, в обмен на такую «защиту» каждый еврей платил подушный налог.
Все это означало, что франкфуртские евреи проводили большую часть своей жизни за высокими стенами и воротами Юденгассе. В наши дни практически ничто не напоминает об этой улочке, похожей на тюрьму. В течение XIX в. власти Франкфурта снесли на ней все, кроме пары зданий, а то немногое, что осталось, сровняли с землей американские бомбардировщики в мае 1944 г. Однако фундаменты части старой улицы недавно раскопали, и теперь можно получить приблизительное представление о том, какая страшная скученность царила в гетто. Извилистая Юденгассе вела от ворот Бёрнхаймер на севере к еврейскому кладбищу на юге; ее длина составляла всего около четверти мили, а ширина – не более двадцати футов, причем местами ширина составляла меньше десяти футов. Отведенная под гетто в те времена, когда евреев в городе было чуть больше ста человек, улочка была ужасно перенаселена: в 1711 г. на ней проживало не менее 3024 человек. Для того чтобы разместить многочисленных обитателей на таком небольшом пространстве, требовалась немалая архитектурная изобретательность: дома были всего восьми футов шириной, но в каждом из них было не менее четырех этажей. Кроме того, за каждым рядом домов возводили дополнительные постройки. Неизбежной опасностью был пожар. В 1711, 1721 и 1774 гг. сильные пожары уничтожали всю Юденгассе или ее значительные части. Можно сказать, что жизнь в гетто была одновременно и дорогой, и дешевой. Дорогой – потому что спрос на жилье значительно превышал предложение. Четырехкомнатный дом на севере Юденгассе стоил столько же, сколько платил отец Гете за двадцатикомнатный особняк на Гроссе Хиршграбен; дешевой – потому что антисанитария, отсутствие света и свежего воздуха сокращали продолжительность жизни. В 1780-е гг., по приблизительным подсчетам, смертность среди евреев на 58 % превышала смертность среди неевреев. Один путешественник в 1795 г. писал, что «большинство франкфуртских евреев, даже те из них, которые находятся в расцвете лет, похожи на ходячих мертвецов… Их мертвенно-бледные лица резко отличают их от всех остальных горожан самым печальным образом». Позже, после того, как стены вокруг Юденгассе частично снесли, ее до известной степени романтизировали такие художники, как Антон Бургер; более того, она стала чем-то вроде достопримечательности, привлекавшей туристов Викторианской эпохи (среди англичан, посетивших ее, были Чарлз Гревилл и Джордж Элиот). В то же время молодому Гете окрестности Юденгассе казались ужасающими трущобами:
«Отсутствие простора, грязь, толпы народу, ужасный выговор – все вместе производило самое неприятное впечатление даже на прохожего, который просто заглядывал за ворота. Прошло много времени, прежде чем я отважился пойти туда один, и я не испытывал никакого желания возвращаться… в эту толпу. Все эти люди чем-то торговали вразнос, все беспрестанно покупали и продавали».
Гораздо лучше был знаком с гетто поэт Людвиг Бёрне, который (под именем Иуды Лёва Баруха) рос там в 1780-е и 1790-е гг. Вспоминая прошлое скорее с гневом, чем с ностальгией, он называет Юденгассе «длинной темной тюрьмой, в которую не проникал яркий свет XVIII в… Перед нами тянется необычайно длинная улица, рядом с нами места хватит лишь на то, чтобы развернуться кругом, когда нам того захочется. Над нами больше нет неба, которому требуется солнце, чтобы распространиться в своей широте; неба не видно, видно только солнечный свет. Отвратительный запах окружает нас повсюду, и одежда, которая должна укрывать нас от заражения, служит также для того, чтобы ловить слезы сострадания или скрывать злобную улыбку, с какой глазеют на нас евреи. Продвижение сильно замедляет необходимость переступать через кучи мусора; зато можно не спеша понаблюдать за происходящим. Мы осторожно идем вперед, стараясь не наступить на детишек. Они плавают в сточной канаве, ползают в грязи, бесчисленные, как черви, выведенные солнцем из навозной кучи. Разве можно отказывать детям в их маленьких желаниях? <…> Если считать детские игры образцом последующей взрослой жизни, колыбель этих детей должна стать могилой для всякого начинания, всякого достатка, всякой дружбы, всякой радости в жизни. Вы боитесь, что эти высокие дома рухнут на нас? О, не бойтесь ничего! Они надежно укреплены, клетки, в которых сидят птицы с подрезанными крыльями, они покоятся на краеугольном камне вечной враждебности, прочно заделанные изобретательными руками жадности и скрепленные цементом пота замученных рабов. Не сомневайтесь. Они стоят прочно и никогда не упадут».
Как заметил Бёрне, даже в «просвещенные» времена, когда другие немецкие города ослабляли ограничения, наложенные на евреев, Франкфурт упорно отказывался приводить в исполнение эдикт о терпимости императора Иосифа II (1782); городские власти приказали конфисковать тираж юдофильской пьесы «Натан мудрый». В 1769 и 1784 гг., когда еврейская община подавала петиции, чтобы евреям разрешили покидать гетто по воскресеньям, просьбу отклонили, сочтя ее попыткой «уравнять себя с христианскими жителями»7. Как и ранее, такую политику до некоторой степени навязывало городскому совету большинство горожан-неевреев. Что характерно, в 1788 г., когда еврею – учителю математики позволили жить и преподавать за пределами гетто, последовали столь шумные протесты, что пришлось отозвать разрешение; еврею-врачу, подавшему сходную просьбу в 1795 г., решительно отказали. В основном по той же причине – как утверждается в жалобе, подписанной семью ведущими еврейскими купцами города, – правила, регулирующие выходы за пределы Юденгассе по праздникам и воскресеньям, в 1787 г. не смягчили, а, наоборот, сделали более строгими, введя сложную систему удостоверений личности:
«Как человеческое существо, каждый еврей обладает теми же правами, что и любой другой, и по справедливости ищет защиты у своего монарха. К сожалению, низшие классы до сих пор столь склонны к предрассудкам своих отцов, что сомневаются в том, что евреи – такие же люди, как и они сами. Они всячески жестоко обращаются [с евреями], и многие старики выглядят довольными, когда их сын плохо обращается с евреем. Даже солдаты потакают этой наказуемой тирании. Разве не воспримут они [новую систему] как приглашение для бесчисленных оскорбительных поступков? Они воспользуются малейшим расхождением в одежде, прическе, бородах и тому подобное как поводом для учинения самых строгих осмотров у городских ворот. Малейшая неточность позволит им арестовывать еврея и вести его на гауптвахту, как обычного вора».
Однако в такой упорной и систематической дискриминации повинны не только предубеждения предков. Важную роль сыграло то, что представители нееврейских торговых кругов очень боялись экономической конкуренции, которая, как они считали, возникнет в случае эмансипации еврейского населения. То, что в трущобах вроде Юденгассе все же появлялись учителя математики и врачи, доказывает, что гетто было не таким закрытым, каким казалось. Как обнаружил сам Гете, когда все же набрался смелости и вошел в гетто, евреи, «в конце концов, люди – изобретательные, услужливые, и невозможно не восхищаться даже тем упорством, с каким они придерживаются своих традиций». Несмотря на мрачные условия, в которых они жили, а отчасти и благодаря им, франкфуртских евреев с культурной точки зрения никак нельзя было считать низшими слоями общества.
Конечно, культура Юденгассе была незнакома нееврею Гете. Это была ярко выраженная религиозная культура, когда ритм жизни по-прежнему диктовался религиозными законами галахи. Каждое утро и каждый вечер служка, шульклоппер, созывал мужчин в синагогу, стуча в двери специальной колотушкой. По воспоминаниям одного английского туриста, суббота «в их молитвенных книгах живописно называется «невестой», и ее встреча каждую неделю… напоминает свадебный обряд. В ее честь столы накрывают белыми скатертями, зажигают светильники. Даже в самых бедных лачугах на стол ставят что-то праздничное». В гетто работали три начальные школы (хедеры) и одно высшее учебное заведение, в котором готовили раввинов (ешива). Образование было, по меркам того времени, консервативным: детей учили читать Тору, основы Моисеевых законов, затем переходили к комментариям Раши и, наконец, к Талмуду, своду правовых и религиозно-этических положений иудаизма, содержащему предписания о соблюдении религиозных обрядов. В общине имелись собственная пожарная дружина и больницы, свое кладбище и добровольные общества помощи бедным.
И все же, несмотря на окружающие гетто высокие стены и несмотря на сравнительно ограниченное влияние еврейского просвещения на франкфуртскую общину (по сравнению, например, с берлинской общиной), культура Юденгассе отнюдь не была замкнутой. Хотя неевреи иногда презрительно хмыкали, слушая речь обитателей гетто, позже Генрих Гейне утверждал, что франкфуртские евреи говорили «на самом настоящем языке Франкфурта, на котором одинаково превосходно изъясняются его обрезанные и необрезанные жители». Конечно, он слегка преувеличивал, что вполне простительно. Те евреи, которым все же удавалось получить не только религиозное, но и светское образование – как, например, вышеупомянутый врач, – умели говорить, читать и писать на хохдойч. Однако, судя по сохранившимся письмам Майера8 Амшеля Ротшильда, сам он писал на грубом и часто неграмотном немецком языке с примесью иврита; а в письмах сыновьям он записывал немецкие слова древнееврейскими буквами, как и они в переписке друг с другом. И все же юдендойч, диалект немецкого языка, на котором изъяснялись обитатели Юденгассе, нельзя назвать идишем польских или российских местечек. По всей вероятности, многочисленные франкфуртские купцы-неевреи также писали по-немецки не слишком грамотно. Когда франкфуртские евреи покидали Юденгассе, чтобы вести деловые операции, то есть заниматься наиболее доступной им сферой деятельности, между ними и купцами-неевреями не существовало непреодолимого языкового барьера.
В большей степени, чем многие немецкие города в XVIII в., Франкфурт был городом предпринимателей. Расположенный на пересечении нескольких крупных торговых путей, связывавших города Южной Германии (Страсбург, Ульм, Аугсбург и Нюрнберг) с ганзейскими портами на севере (Гамбургом, Бременом и Любеком) и связывавших Германию в целом со странами атлантического побережья, Балтики и Ближнего Востока, Франкфурт процветал благодаря двум ежегодным ярмаркам, которые проводились осенью и весной. Такие ярмарки устраивались в городе начиная со Средних веков. А благодаря широкому разнообразию монет, имевших хождение в Европе вплоть до конца XIX в., коммерция в городе развивалась рука об руку с банковским делом, в особенности с куплей-продажей иностранной валюты и куплей-продажей векселей (куплей-продажей долговых расписок, порожденных более сложными операциями). Вдобавок – что в некоторых отношениях еще важнее – Франкфурт выступал в роли финансового центра для князей, эрцгерцогов и курфюрстов, правивших многочисленными мелкими государствами в регионе. Доходы, получаемые от земель и подданных (арендная плата, налоги и т. д.), и расходы по содержанию дворов (величественных резиденций, садов и развлечений) делали этих правителей крупнейшими клиентами доиндустриальной немецкой экономики, пусть даже большинство из них были значительно беднее своих современников – английских аристократов. Характерно, что большинство из них тратили больше, чем получали, что создавало выгодные, хотя подчас и рискованные возможности для немецких банкиров.
Наверное, самым успешным банкирским домом до 1800 г. был дом Симона Морица и Иоганна Филиппа Бетманов, которые привезли в Германию из Амстердама систему «частичных долговых обязательств» (парциальных облигаций), по которой крупный заем дробился на более мелкие порции и продавался широким кругам инвесторов. Вполне характерной операцией для того времени можно назвать заем, который банкирский дом братьев Бетман предоставил императору Священной Римской империи. В 1778 г. Бетманы ссудили ему 20 тысяч гульденов (около 2 тысяч ф. ст.), выпустив в счет займа 20 облигаций по тысяче гульденов, которые и перепродавали инвесторам. Собранные таким образом деньги – за вычетом своей солидной комиссии – они затем передали в имперское казначейство в Вене, а впоследствии добились быстрой выплаты процентов из Вены держателям облигаций. В 1754–1778 гг. братья Бетман разместили займов на общую сумму почти в 2 млн гульденов, а за следующие пять лет – и не менее 54 отдельных займов на общую сумму почти в 30 млн гульденов. Другие франкфуртские банкиры, особенно Якоб Фридрих Гонтард, проводили такие же операции.
Ни Бетманы, ни Гонтард не были евреями. Однако не приходится сомневаться, что к концу XVIII в., когда речь заходила об обмене иностранной валюты и всевозможных займах, самыми предприимчивыми дельцами считали именно евреев. После более чем вековых ученых размышлений на данную тему по-прежнему трудно объяснить, почему так произошло. Любые преимущества, которые получали евреи над финансистами-неевреями, могли стать лишь косвенным следствием их системы образования. Так, Майер Амшель Ротшильд однажды вспоминал, что «в юности я был… очень активным купцом, но я был неорганизованным, потому что раньше я изучал [Талмуд] и не узнал ничего [о деловых операциях]». Возможно, то, что евреи входили в тесно спаянные группы «чужаков», сыграло свою роль, когда началось создание кредитных систем. Может быть, их деловая этика неотделима от иудаизма. Но то же самое с равным успехом можно утверждать и применительно к другим религиозным меньшинствам, как сделал Макс Вебер, который неубедительно противопоставлял «протестантскую этику» с типично еврейским «политически и спекулятивно ориентированным… капитализмом париев». Наиболее удовлетворительным ответом, наверное, может служить следующий: из-за того, что для них были закрыты почти все области экономической деятельности, евреям пришлось сосредоточиться на торговле и финансах. Вместе с тем их конкуренты-неевреи, работавшие в тех же сферах, скорее всего, намеренно преувеличивали степень «еврейской угрозы» для их фирм. Франкфуртские банкиры-неевреи уже в 1685 г. жаловались, что «евреи вырвали у них из рук торговлю векселями», что привело к запрету евреям появляться на фондовой бирже. Через 12 лет городской совет не в последний раз попытался запретить евреям арендовать склады на Фаргассе, главной улице города.
Наверное, самый печально известный конфликт такого рода связан с Йозефом Зюссом-Оппенгеймером, который из поставщика двора герцога Карла Александра Вюртембергского превратился в крупную политическую фигуру, став своего рода тайным советником, а в 1733 г. – посланником во Франкфурте, где привилегированное положение позволило ему жить за пределами Юденгассе, в роскоши гостиницы «Золотой лебедь». Через четыре года Оппенгеймера казнили, признав его виновным в том, что он обладал чрезмерной политической властью и подрывал положение вюртембергских княжеств. Впрочем, Оппенгеймер, «еврей Зюсс» из позднейшей антисемитской легенды, был лишь одним из самых известных еврейских придворных купцов. К середине XVIII в. франкфуртские евреи становились поставщиками курфюршества Пфальц, Майнцского курфюршества, Великого герцогства Гессен-Дармштадт, королевства Пруссия, императорского двора в Вене, а также Гессен-Касселя и Саксен-Веймара. Например, Лёв Вер Исаак в 1755 г. был придворным поставщиком графства Нассау-Саарбрюккен, а Давид Мейер Купл бросил вызов власти семьи Канн, когда примерно в то же время стал поставщиком императорского двора. Такие люди образовали богатую и привилегированную элиту в пределах Юденгассе.
Майер Амшель
Именно в этом во многом, хотя и не до конца сегрегированном мире родился Майер Амшель Ротшильд. Он родился либо в 1743, либо в 1744 г. О его родителях, дедах и более отдаленных предках почти ничего не известно. Однажды Бенджамин Франклин заметил, что в жизни неизбежны только смерть и налоги; именно эти явления связаны с записями о самых первых Ротшильдах. Следует сразу же отметить, что предков Майера Амшеля, скорее всего, даже не называли Ротшильдами (буквально «красный щит»). Известно, что Изак, сын Элханана, в 1560-е гг. построил дом, который получил название «У красного щита» («Цум ротеп шильд»), по-видимому, в честь щита, который часто вешался над входом в дома. Как правило, обитатели Юденгассе прозывались в соответствии со своими адресами. Позже внук Изака, Нафтали Герц (который умер в 1685 г.), оставил дом «У красного щита» и переселился в другой дом, известный под названием «У грелки» («Цум хинтерпфанп»). Таким образом, можно предположить, что членов этой семьи могли называть «Хинтерпфанны». Однако, хотя сын, внук и правнук Нафтали Герца по-прежнему назывались «Ротшильдами», в документах встречается также прозвище «Бауэр». Вероятно, лишь в следующем поколении, к которому принадлежал Майер Амшель, прозвище закрепилось в качестве фамилии, хотя Майер Амшель мог сменить ее еще раз после того, как переехал еще в один дом, известный под названием «У зеленого щита» («Цум грюнен шильд»).
О ранних Ротшильдах можно сказать лишь то, что они были набожными и довольно удачливыми мелкими дельцами, которые, среди прочего, торговали сукном. За пять лет до своей смерти в 1585 г. Изак, живший «У красного щита», имел облагаемый налогом доход в 2700 гульденов, а когда он умер, на надгробном камне вырезали упоминание о его «добродетели», «праведности» и «честности». Сто лет спустя его правнук Кальман, меняла, который, кроме того, торговал шерстью и шелком, имел облагаемый налогом доход, почти вдвое превышавший доход прадеда. Судя по всему, его сын Мозес, дед Майера Амшеля, успешно развил дело отца, продолжив процесс устойчивого подъема по социальной лестнице. Его первой женой стала дочь сборщика налогов, второй женой – дочь врача. К сожалению, нам почти ничего не известно об экономических достижениях отца Майера Амшеля, Амшеля Мозеса, хотя то, что семья по-прежнему жила в скромном доме «У грелки» с конторой на первом этаже, кухней на втором и тесными спальнями на третьем, предполагает в лучшем случае слияние, а в худшем – застой. Судя по длинной и чрезмерно хвалебной надгробной надписи, семья ко времени его смерти пользовалась прочным уважением в пределах гетто – но только и всего.
Амшель Мозес был, очевидно, человеком прилежным и любящим науку: если верить надгробной надписи, он «посвящал предписанное время изучению Торы». Возможно, именно поэтому после того, как его сын Майер Амшель окончил начальную школу во Франкфурте, отец отправил его в раввинское учебное заведение в Фюрте. Какими бы ни были его мотивы, дело было вовсе не в том (как ошибочно полагают некоторые историки), что Майер Амшель должен был стать раввином. Коэн, написавший краткую и хвалебную биографию Майера Амшеля вскоре после его смерти (и, скорее всего, знавший его лично), утверждает, что он только затем «изучал свою религию… чтобы стать хорошим евреем». Впрочем, занятия Майера Амшеля в Фюрте вскоре прервались из-за преждевременной кончины его родителей в 1755 и 1756 гг. Когда мальчику исполнилось всего двенадцать лет, его отец и мать стали жертвами эпидемий, которые периодически косили немецкие города.
После смерти родителей он мог бы вернуться к старшей сестре Гутельхе и двум братьям, Мозесу и Кальману. Однако его послали в Ганновер изучать зачатки бизнеса в компании Вольфа Якоба Оппенгейма (предположительно, делового партнера его отца). Те годы сформировали его характер, потому что именно тогда он впервые вступил в непосредственный контакт с привилегированным миром придворных поставщиков. Конечно, Майеру Амшелю почти наверняка было известно об этой сфере деятельности: в конце концов, Зюсса-Оппенгеймера казнили всего за шесть лет до его рождения. Более того, нам известно, что Зюсс участвовал по крайней мере в одной операции с векселями с дедом Майера Амшеля. Но теперь мальчик мог с близкого расстояния увидеть, что значит быть «придворным евреем», поскольку дед Оппенгейма, Самуэль, был придворным поставщиком австрийского императора, а его дядя был поставщиком кельнского епископа. Именно в Ганновере Майер Амшель начал приобретать опыт, который впоследствии помог ему самому добиться статуса придворного поставщика. Он начал торговать редкими монетами и медалями; его клиентами становились аристократы-коллекционеры. Для того чтобы совершать операции в этой области, необходимо было знание сложной системы нумизматической классификации Самуэля Мадая.
Примерно в 1764 г. Майер Амшель вернулся во Франкфурт – по закону о месте жительства он обязан был так поступить по окончании срока ученичества. В родном городе он быстро нашел применение полученным знаниям. Через год после возвращения ему удалось продать редкие медали знатному клиенту, чье будущее положение сыграет для Ротшильдов весьма важную роль. Принято считать, что первая операция Майера Амшеля с Вильгельмом, наследным принцем Гессен-Касселя, была сущим пустяком. Если предположить, что он был «евреем Мейером», упомянутым в отчетах о суммах, истраченных на личные нужды Вильгельма за июнь 1765 г., операция обошлась в 38 гульденов и 30 крейцеров – в самом деле пустяк, одна из многих мелких покупок, которые принц делал у различных посредников после 1763 г., когда создавал свою знаменитую коллекцию медалей и монет9. Тем не менее этого – вместе с «поставками различных товаров», отчетов о которых не сохранилось, – оказалось достаточно, чтобы удовлетворить просьбу 1769 г. о даровании Майеру Амшелю статуса придворного поставщика. Он получил статус через надлежащий срок, в сентябре того же года. Год спустя он закрепил свое положение. В августе 1770 г., в возрасте 26 лет, он женился на Гутле, 16-летней дочери Вольфа Соломона Шнаппера, придворного поставщика герцога Саксен-Мейнингенского. Вдобавок к выгодам объединения с ее отцом, брак принес Майеру Амшелю очень нужный ему новый капитал в виде приданого в 2400 гульденов. Их брак оказался первым в череде тщательно просчитанных брачных союзов. Он заложил фундамент для процветающего родства, игравшего не менее важную роль, чем покровительство особ королевской крови, полученное благодаря званию придворного поставщика.
В последующие годы Майер Амшель – первоначально в компании со своим братом Кальманом, до смерти последнего в 1782 г., – постепенно стал во Франкфурте ведущим торговцем не только монетами и медалями, но и всевозможными предметами антиквариата. За его операциями можно проследить по тщательно составленным каталогам, которые он рассылал все более широкому кругу клиентов-аристократов. В 1780-е гг. в перечень товаров, которыми он торговал, входили не только немецкие, но и древнегреческие и древнеримские монеты, а также ряд других антикварных товаров и «диковинок» такого сорта, какие богатый коллекционер мог выставлять наряду с коллекцией монет: резные фигурки, драгоценные камни и т. п. Общая стоимость товаров для продажи в каждом каталоге варьировалась от примерно 2500 до 5000 гульденов. Если клиент проявлял интерес к тому или иному товару из каталога, Майер Амшель посылал его на осмотр, а позже, если клиент желал совершить покупку, начинал переговоры и иногда продавал ниже цены, указанной в каталоге. Согласно сохранившимся отчетам о тратах на личные нужды, до 1790 г. принц Вильгельм не был постоянным покупателем Ротшильда, но после этой даты он совершал покупки почти каждый год. В число других клиентов входил покровитель Гете, герцог Веймарский.
Может показаться удивительным, что основой состояния Ротшильдов стала продажа антиквариата по каталогу аристократам-нумизматам; однако не приходится сомневаться в том, что без капитала, который удалось скопить Майеру Амшелю на покупке и продаже «диковинок», у него не было бы средств для того, чтобы заняться банковским делом. С первого взгляда довольно трудно понять, насколько успешно он торговал антиквариатом: с 1773 по 1794 г. его налог на имущество был неизменен и составлял 2 тысячи гульденов. Однако записи в «десятинных книгах» (Maaserbuch или Zehentbuch), в которых он пунктуально вписывал свои благотворительные пожертвования (десятую часть ежегодного дохода, согласно иудейским законам), позволили его позднейшему биографу Бергхофферу предположить, что годовой доход Майера Амшеля в 1770-е гг. должен был составлять около 2400 гульденов – примерно такой же, как и у семьи Гете, и гораздо больше, чем зарабатывал к тому времени местный чиновник вроде сборщика налогов. На основании этих и других доступных цифр Бергхоффер примерно оценивал общее состояние Майера Амшеля в середине 1780-х гг. в 150 тысяч гульденов (около 15 тысяч ф. ст.).
Кроме того, нам известно, что Майер Амшель настолько разбогател, что в 1787 г. переехал в другой дом. Вскоре после возвращения во Франкфурт Майер Амшель и два его брата приобрели в полную собственность дом «У грелки», выкупив долю дальних родственников, с которыми дом делили их родители. Еще через 20 лет Майер Амшель продал брату Мозесу свою долю – 3/8 дома «У грелки» – за 3300 гульденов. В начале 1783 г. он купил гораздо более просторный дом «У зеленого щита» за 11 с лишним тысяч гульденов10. По меркам нееврейской семьи, такой, например, как семья Гете, этот второй дом также был очень маленьким и тесным: всего в 14 футов (чуть более 4 м) шириной, с комнатами такими узкими, что кровати можно было ставить только у боковых стен под определенным углом к улице. Дом можно считать захудалым и по меркам следующих поколений Ротшильдов: сыновья Майера Амшеля вспоминали прошлое без всякой ностальгии, говоря о тех днях, «когда мы все спали в одной комнатушке на чердаке». Однако по меркам Юденгассе такой дом был просто превосходным. Расположенный на середине улицы – прямо напротив средних, западных ворот – он был перестроен после пожара 1711 г. и, что необычно для того времени, имел собственный водяной насос. На втором, третьем и четвертом этажах было по две узких комнатки в три окна, с печью и стенными буфетами. Окна одной комнатки выходили на улицу, а второй – во двор. Спустившись по черной лестнице, можно было попасть в маленький дворик с небольшой деревянной пристройкой, в которой размещалась уборная. Необычным (и полезным) дополнением служили также два погреба. В первый из них можно было спуститься через люк в прихожей. Во второй, более просторный погреб, общий с соседним домом, попадали через потайной ход под лестницей. Два погреба не сообщались между собой11. Семье очень пригодились все комнаты, пусть и тесные. Майер Амшель и его супруга оказались необычайно плодовитой парой даже по меркам конца XVIII в. Судя по всему, Гутле Ротшильд рожала практически каждый год начиная с 1771 г., следующего после их свадьбы, и до 1792 г. Из девятнадцати детей выжили десять: Шёнхе (1771), Амшель Майер (1773), Соломон Майер (1774), Натан Майер (1777), Изабелла, или Бетти (1781), Брюнле, или Бабетте (1784), Кальман, или Карл (1788), Готтон, или Юлия (1790), Еттхен, или Генриетта (1791) и Якоб, или Джеймс (1792)12.
Лишь после рождения самого младшего ребенка Майер Амшель начал заниматься делом, которое правильно будет назвать банковским. В некоторых отношениях переход оказался естественным. Торговец антиквариатом с растущим кругом поставщиков и клиентов, естественно, время от времени предоставляет некоторым из них кредит. Уже в 1790 г. Майер Амшель назван одним из кредиторов Йозефа Касселя в ближнем городке Дойц, хотя и на скромную сумму в 365 гульденов. По этим же причинам торговля монетами и медалями неизбежно свела его с гессенским монетным двором: принц Вильгельм, один из его главных клиентов, часто заказывал чеканку новых медалей. Например, в 1794 г. Ротшильд предложил продать гессенскому военному казначейству партию серебра «по наилучшей цене».
Однако скорость, с какой росло богатство Майера Амшеля в 1790-х гг., свидетельствует о настоящем разрыве с прежней сферой его деятельности. В начале 1790-х гг. Майер Амшель Ротшильд считался всего лишь процветающим торговцем антиквариатом. К 1797 г. он стал одним из богатейших евреев Франкфурта, причем главным образом он занимался именно банковскими операциями. Свидетельства такого прогресса вполне недвусмысленны. В 1795 г. официальный доход Майера Амшеля, облагаемый налогом, удвоился и составлял 4 тысячи гульденов. Год спустя он перешел в группу лиц, имеющих наивысшие доходы: его имущество стоило более 15 тысяч гульденов. В том же году его записали десятым самым богатым человеком на Юденгассе, и его доход, подлежащий налогообложению, составлял 60 с лишним тысяч гульденов. Во многом благодаря Майеру Амшелю к 1800 г. Ротшильды стали одной из одиннадцати самых богатых семей на Юденгассе. Примерно в то же время он арендовал большой четырехкомнатный склад за пределами Юденгассе. Кроме того, он нанял на работу уроженца Бингена Зелигмана Гайзенхаймера, талантливого счетовода, владевшего несколькими языками. Кроме того, о его растущем благосостоянии свидетельствует щедрое приданое, какое Майер Амшель смог дать дочерям, когда те начали выходить замуж. Когда его старшая дочь в 1795 г. вышла за Бенедикта Мозеса Вормса, она получила в приданое 5 тысяч гульденов; кроме того, после смерти родителей она должна была получить наследство в 10 тысяч гульденов. Через год, когда его старший сын женился на Еве Ганау, ему досталась доля в семейной компании стоимостью в 30 тысяч гульденов.
Что означала такая доля, видно из одного из важнейших документов, которые были обнаружены в недавно открытом московском «трофейном» архиве: самый ранний известный баланс компании Майера Амшеля Ротшильда, составленный свыше 200 лет назад, летом 1797 г. Тогда общие активы компании оценивались в 471 221 рейхсталер, или 843 485 гульденов, общие задолженности – в 734 981 гульден. То есть, по словам самого Майера Амшеля, «общий баланс капитала, хвала Господу» (Saldo meines Vermogens, Gott lob) составлял 108 504 гульдена (примерно 10 тысяч ф. ст.). Этот примечательный документ заслуживает самого пристального рассмотрения, так как из него становится ясно, что Майер Амшель уже в тот период был больше международным торговым банкиром, чем считалось ранее. Очевидно, в «актив» баланса не включили личную собственность Майера Амшеля, поскольку семейный дом там не значится. В графе «мой капитал» записан капитал его компании. Почти все перечисленные активы находились либо в форме государственных облигаций различных типов, либо личных займов и кредитов, предоставленных самому широкому спектру других компаний. Имелись и денежные обязательства – в них входили суммы, которые Майер Амшель был должен такому же широкому спектру учреждений и частных лиц.
География кредитной сети Майера Амшеля была довольно широкой уже на том раннем этапе. Судя по раннему балансу, он вел дела с фирмами, расположенными не только в непосредственной близости от Франкфурта (например, в Касселе и Ганау), но и в более отдаленных землях Германии, от Гамбурга и Бремена до Регенсбурга, Аугсбурга, Лейпцига, Берлина и Вены, а также Амстердама, Парижа и Лондона. Более того, в дополнение к именам, которые можно было ожидать найти в таком списке кредиторов и должников (например, зять Майера Амшеля Вормс и его будущий зять Зихель), в нем фигурируют названия нескольких крупных нееврейских банков, в том числе банков Бетманов, Де Нёвилей и Брентано (последнему Майер Амшель задолжал много денег). В числе вкладчиков банка Ротшильда был и прославленный коллекционер Иоганн Фридрих Штедель; его вклад составлял 17 600 гульденов. И, наконец, балансовый отчет служит свидетельством новых отношений с правительством Гессен-Касселя, которому Ротшильд был должен около 24 093 гульденов. Не случайно в списке кредиторов представлены отдельно имена двух гессенских сановников – Луиса Гарнира и Карла Будеруса.
По любым меркам экономический взлет Майера Амшеля можно считать стремительным. Более того, он так быстро добился столь огромного успеха, что успех до некоторой степени обгонял его возможности. В 1797 г. Майер Амшель с ужасом обнаружил, что один из его самых младших служащих – юноша по имени Гирш Либман – обманным путем присвоил крупную сумму практически у него под носом. Частично сохранившиеся протоколы последовавшего за тем судебного разбирательства позволяют взглянуть изнутри на хаотичное состояние дел в его стремительно развивавшейся компании в тот период. По словам Майера Амшеля, Либман, проработавший у него около трех лет, украл из его банкирского дома от 1500 до 2000 золотых каролинов (примерно 30 тысяч гульденов).
Кража стала возможной по трем причинам. Во-первых, Майер Амшель позволял Либману покупать и продавать товары на свой счет, чтобы дополнить скудное жалованье – полтора гульдена в месяц за вычетом арендной платы за комнату, которую Либман делил с другими служащими. Более того, в одном случае Ротшильд даже ссудил ему небольшую сумму, чтобы помочь расплатиться за жилье. Никто особенно не удивился тому, что Либман старался пополнять свое жалованье, пусть даже пополнение это шло с неизменным успехом. Во-вторых, в банкирском доме не было сейфа для ценностей и вообще почти не предпринимались меры безопасности. Так, сундук с деньгами, стоявший в главной комнате конторы, часто оставляли открытым в течение рабочего дня. Судя по всему, служащие и клиенты приходили и уходили когда им заблагорассудится. Поэтому никто поначалу не замечал пропажи монет, банкнот и других ценностей. И, в-третьих, система бухгалтерии Майера Амшеля была прискорбно примитивной: когда он в конце концов подал иск против Либмана, то не сумел документально подтвердить, сколько всего было украдено. Прошло довольно много времени с тех пор, как Либман начал воровать, прежде чем хватились пропажи. И только когда в контору пришел один местный брокер и заявил, что Либман хотел купить у него семена, у Майера Амшеля зародились подозрения. Он допросил молодого человека, и тот сознался, что так ему велел говорить Либман для отвода глаз; на самом же деле он пришел купить австрийский вексель, стоивший около 1220 гульденов, который Либман предложил ему продать. Только тогда Майер Амшель понял, откуда у его служащего деньги на золотые часы и сшитые на заказ рубашки. Дальнейшие розыски подтвердили его подозрения: Либман не только тратил деньги на себя, но также посылал их своим родителям, жившим в Бокенхайме. Прежде его родители были «ужасно бедны», но вдруг им удалось дать сестре Либмана приданое в 500 гульденов. Когда вора арестовали, среди его вещей нашли восемь монет по талеру и имперский казначейский билет, а также несколько серебряных ложек, золотую солонку, золотую кружку и несколько медалей, что противоречило его уверениям в собственной невиновности. Еще одно доказательство вины, сам того не желая, представил родной отец Либмана, который предложил вернуть 1000 гульденов, которые дал ему сын, и еще 500 гульденов, если Ротшильд откажется от своего иска. В конце концов, после продолжительного допроса, Либман во всем сознался.
Либман путался в показаниях о кражах; вначале он утверждал, что брал деньги мелкими суммами на протяжении длительного времени. Затем заявил, что просто унес два мешка с монетами из сундука в конторе, пока второй сын Майера Амшеля, Соломон, беседовал с какими-то клиентами. Так или иначе, судя по протоколам судебного разбирательства, к 1797 г. компания приносила такой доход, что даже сам Ротшильд не знал счета деньгам: как он сам признавался на суде, мешки с монетами валялись по всей конторе, часть ценностей хранилась в незапертом сундуке, часть лежала на полу. И у него дома, по его словам, всегда было много денег вследствие «обширных деловых операций». В последующее десятилетие операции стали еще шире.
Двойная революция
В «Биографических заметках Дома Ротшильда», написанных через много лет после смерти Майера Амшеля, Фридрих фон Генц чрезмерно восхвалял его деловую хватку. «Тем не менее, – благоразумно добавлял фон Генц, – для реализации даже самых выдающихся личных качеств иногда требуются исключительные обстоятельства и решающие события». Его утверждение можно назвать вдвойне истинным.
События эпохальной значимости, последовавшие за созывом Людовиком XVI Генеральных штатов во Франции в 1789 г., не сразу повлияли на жизнь таких немецких евреев, как Майер Амшель Ротшильд и его близкие. Но когда революция наконец достигла Франкфурта, ее последствия оказались основательными – более того, буквально потрясающими. Первые толчки последовали в октябре 1792 г., всего через десять недель после коронации последнего императора Священной Римской империи Франциска II, когда французские войска временно оккупировали Франкфурт. Конечно, не следует преувеличивать значимости этой на первый взгляд символической смены режимов. Французские войска в прошлом уже оккупировали Франкфурт (в ходе Семилетней войны). Судя по всему, новое иноземное вторжение так же не радовало городскую еврейскую общину, как и остальных жителей Франкфурта. Более того, хотя в 1791 г. Национальное собрание Франции уравняло евреев в правах с остальными гражданами, что влияло и на судьбы франкфуртских евреев, сиюминутные последствия французской оккупации были откровенно негативными. В июне 1796 г., после поражения австрийской армии при Лоди, Франкфурт подвергся такому тяжелому обстрелу победоносных французских войск, что почти половина домов на Юденгассе была уничтожена огнем13.
Вместе с тем военное потрясение имело свои преимущества. Из-за уничтожения Юденгассе франкфуртский сенат вынужден был ослабить ограничения, связанные с местом жительства. Сенат разрешил примерно двум тысячам человек, оставшимся без крова из-за пожара, в течение полугода жить за пределами Юденгассе. Судя по всему, именно вследствие такого послабления Майеру Амшелю удалось снять склад на Шнургассе. Позже нашествие французов привело к настоящему, пусть и временному, улучшению в юридическом статусе франкфуртских евреев. Его предвестником стала эмансипация евреев в тех частях Рейнской области, которые аннексировали французы. Одним из тех, кто на этом выгадал, стал Гайзенхаймер, нанятый Майером Амшелем счетовод. Из того, что имело более непосредственную значимость, война предоставила Майеру Амшелю новые источники дохода. В компании с Вольфом Лёбом Шоттом и Веером Немом Риндскопфом он заключил контракт на поставки хлеба и денег австрийской армии в ходе операций в регионе Рейн-Майи.
Не только Великая французская революция изменила жизнь и судьбу Майера Амшеля. Такое же, если не более важное влияние оказал на него в 1780-х гг. первый этап английской промышленной революции. Хотя Майер Амшель к концу 1790-х гг. уже начал выстраивать свой банковский бизнес, он по-прежнему торговал монетами; пусть и не в таких крупных масштабах, эта отрасль существовала даже после его смерти. Кроме того, наряду с банковским делом он пробовал вторгаться в другие, потенциально прибыльные сферы деятельности. Из них в конце XVIII в. самым прибыльным было производство тканей – отрасль, порожденная английской промышленной революцией. В особенности резкий рост (частично) механизированного хлопкопрядения, ткачества и окрашивания в Ланкашире предвещал беспрецедентные и поистине революционные перемены в темпах экономического развития. Хотя такая индустриализация была рассредоточена по различным регионам и секторам – настолько, что ее результаты почти не заметны в цифрах совокупного национального дохода, экстраполированных современными специалистами по экономической истории, – ее последствия ощущались во всем мире. Они были заметны в Африке, откуда прибывали рабы для работы на хлопковых плантациях, в Америке, где, собственно, выращивали хлопок, и в Индии, где традиционной национальной текстильной промышленности вскоре пришлось столкнуться с мощной конкуренцией со стороны домашних фабрик и более крупных предприятий, расположенных в Ланкашире и Ланарке. Эти фабрики оказали мощное влияние и на Германию, где в 1790-е гг. стремительно рос спрос на более дешевые и качественные британские ткани – шали, платки, клетчатые ткани, марлю, муслин, плотный муслин, стеганые ткани, канифас, вельвет и пр. Майер Амшель, как и многие другие немецкие дельцы, угадал здесь уникальную и в высшей степени выгодную возможность. На рубеже XVIII и XIX вв. около 15 еврейских фирм в одном только Франкфурте ввозили в страну английские текстильные изделия, и многие из них учредили примерно в то же время свои постоянные представительства в Великобритании. В 1799–1803 гг. не менее восьми немецких купцов с этой целью обосновались в Манчестере.
Именно на таком фоне необходимо рассматривать решение послать в Англию Натана, третьего по старшинству. Он уехал в конце 1790-х гг. Точная дата и причины его отъезда из Франкфурта долго служили источником путаницы среди историков. Хотя некоторые считают, что Натан прибыл в Англию в 1797, 1799 или 1800 г., большинство сходятся на том, что он приехал туда в 1798 г. Последнюю дату почти ничто не подтверждает. Из балансового отчета, указанного выше, известно, что Майер Амшель начал вести дела с лондонскими фирмами начиная по крайней мере с 1797 г., но в весьма ограниченном масштабе. И только в феврале 1800 г., когда он направил первое письмо в лондонский банкирский дом «Харман и К» с просьбой о кредите, он начал расширять свой бизнес в Англии. Первое документальное подтверждение присутствия Натана в Англии также датировано 1800 г. Вольф цитирует письмо от 29 мая, в котором Натан просит знакомого снять «помещение с двумя кроватями в каких-нибудь хороших меблированных комнатах» для себя и своего «управляющего». Кроме того, у нас есть письмо Майера Амшеля к Харману, датированное 15 июня, в котором упоминается, что «Натан скоро будет у вас», а также письмо Натана от 15 августа из Лондона (обратным адресом значится Корнхилл, 37). Из этого Уильямс делает вывод, что Натан приехал в Лондон в 1800 г., лето провел в Лондоне, а затем переехал в Манчестер. Однако так быть не могло. Не только первое письмо Натана, адресованное Харману, послано из Манчестера; у нас имеется также несколько более поздних писем, в которых Натан недвусмысленно заявляет, что он приехал в Манчестер год назад, в 1799 г. Поэтому вполне разумно предположить, что до 1799 г. Натан не приезжал в Манчестер, хотя они с отцом начали расширять операции в Англии лишь в следующем году. Впрочем, возможно, – хотя и маловероятно, – что Натан впервые пересек Ла-Манш в 1798 г. и несколько месяцев провел в Лондоне, откуда проследовал на север.
Почему Натан поехал в Англию? За отсутствием серьезных доказательств большинство историков руководствуются собственным отчетом Натана о его эмиграции, который он передал члену парламента Томасу Фауэллу Бакстону в 1834 г. В отчете он уверяет, что решение покинуть Германию было его собственным.
«В том городе, – пишет он, – нам всем не хватало места. Я торговал английскими товарами. Туда приехал один крупный предприниматель, который подчинял себе весь рынок; он был человеком выдающимся; мы радовались, если он что-то нам продавал. Я его чем-то обидел, и он отказался показывать мне образцы. Это было во вторник; я сказал отцу: «Я поеду в Англию». Я не умел говорить ни на одном языке, кроме немецкого. В четверг я отправился в путь…»
Не стоит думать, что его версия событий – полный вымысел. Натан был человеком чрезвычайно честолюбивым и вспыльчивым; кроме того, он был обидчивым и переносил свое отношение на дела. Вполне можно себе представить, что он в самом деле ответил оскорблением на оскорбление. Однако в некоторых отношениях его воспоминания об обстоятельствах своего отъезда способны ввести в заблуждение. Возможно, он невольно романтизировал свой путь «из грязи в князи»; может быть, он приукрашивал события, развлекая гостей после ужина (последнее больше отвечало его характеру). Во всяком случае, кажется маловероятным, чтобы его отец хотел и даже мог доверить ему такую большую сумму, какая фигурирует в письме Натана Бакстону – 20 тысяч фунтов, что примерно вдвое превышает цифру чистых активов, показанную в балансе за 1797 г. Однако, какой бы «стартовый капитал» ни увез с собой Натан, мысль о том, что он не просто исполнял приказы отца, кажется маловероятной.
По политическим причинам вскоре появилась необходимость скрывать тот факт, что Натан выступает агентом франкфуртской фирмы. Поэтому некоторые историки считали, что, прибыв в Англию, Натан начал успешно действовать независимо от отца и братьев. Но свидетельство, найденное в архиве компании за тот период, недвусмысленно подтверждает: первоначально Натан принимал приказы из Франкфурта. Более того, в 1801 г. к нему на помощь прислали старшего брата Соломона. Вести дела самостоятельно Натан начал потом и лишь постепенно. Ряд ранних писем Натана из Лондона и Манчестера подписаны: «по доверенности Майера Амшеля Ротшильда». Судя по всему, отец и сын регулярно переписывались, хотя из их корреспонденции почти ничего не сохранилось. Натан часто писал по поручению отца в лондонские банкирские дома «Соломон Соломоне» и «Харман и К», которые оказывали Ротшильдам страховые и банковские услуги.






