Любовь Куприна Гуреев Максим
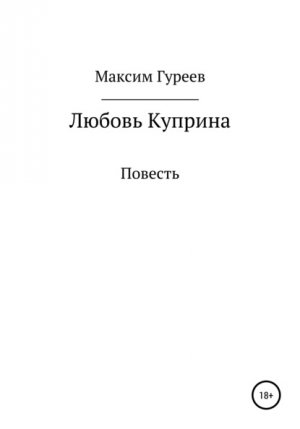
– Ну вот и славно, – улыбнулся Рыбников, – есть тут одно неплохое место, «у Шимона» называется, там нашего брата боятся и уважают, а народ собирается разный, местный «высший свет» в том числе, если такое вообще возможно в этом захолустье.
Саша поднял глаза – со стены на него с усмешкой, исподлобья смотрел государь Александр III. Спокойное, сосредоточенное выражение лица его гипнотизировало, лишало воли, останавливало течение всяческих мыслей в голове, оказывалось тем самым командным голосом, перед которым хотелось унижаться, искать расположения или испрашивать благословения.
Это был тот же самый взгляд, которым самодержец в свое время окидывал Московский гарнизон и юнкеров Александровцев, выстроившихся на пути его следования в Кремль.
Он видел всех и каждого. По чьим-то лицам мазал взглядом небрежно, а в чьи-то пристально вглядывался. Делал в этом случае духовому оркестру знак, чтобы он перестал играть, и в полной тишине смотрел в глаза неизвестного ему человека, как будто хотел всмотреться в самую его суть, в самую глубину его, извлечь на поверхность сокровенные думы, выпытать из него все.
Ужас ощутил низкорослый, большеголовый юнкер в очках, кровь ударила в голову, холод поднялся откуда-то из глубины живота, когда понял, что именно он является предметом подобного августейшего препарирования. Да-да, был совершенно уверен в том, что государь остановил свой взгляд на нем, и не смел смотреть в ту сторону, где остановился царь.
И это уже потом, вернувшись в казармы, юнкер Саша Куприн записал в блокнот о себе в третьем лице – «он упал на мостовую и зарыдал, не имея более сил сдерживаться, товарищи бросились к нему, но он продолжал кататься по земле, бормоча слова благодарности и признательности тому, кто смотрел на него сейчас пристально и безучастно, он отбивался от помощи пытавшихся его поднять на ноги друзей, огрызался, молил оставить его в покое, потому что испытывал в эту минуту наивысшее блаженство сердечного умиления и не имел сил и желания прерывать его, пусть и став такими образом посмешищем для всех Александровцев, тут же заиграл духовой оркестр, видимо, чтобы как-то сгладить неловкую паузу, а он затих, слушая эту бравурную музыку, и так продолжал лежать на мостовой, не чувствуя ни холода, ни боли, потому что, падая на землю, разбил себе лицо, и один его глаз заплыл».
Куприн перевел взгляд с портрета Александра III на улыбающегося штабс-капитана Рыбникова, он что-то говорил ему и при этом активно жестикулировал, затем стал смотреть на подоконник, на котором стоял графин с водой, и наконец на карту местности, прибитую к стене и напоминавшую застиранную столовую скатерть в разводах пролитого на нее соуса и красного вина вперемешку с фрагментами вылинявшего орнамента. По этой скатерти можно было водить указательным пальцем, пытаясь разобрать нечитаемые названия населенных пунктов или сориентироваться на местности.
Вчера подпоручик К стоял на пустой железнодорожной платформе, думал, куда ему идти, делал первые шаги, блуждал в густом тумане, который клубился после дождя, а на пути попадались только рельсы, уходящие за горизонт, чахлые, закопченные деревья, покосившиеся сараи, угольные склады, да красного кирпича здание вокзала. Нет, не узнавал эту местность, конечно, не понимал, как из нее выбраться, хотя на карте она и была отмечена в масштабе две версты на дюйм.
А тут вдруг выяснилось, не без Рыбникова, конечно, что заведение «у Шимона», куда направились из полковой канцелярии, находилось как раз недалеко от железнодорожной станции.
– Тут все рядом, городишко-то маленький!
По дороге штабс-капитан рассказывал о себе. Был он родом из Оренбурга, где по завершении Неплюевской военной гимназии был зачислен в полк. Довелось послужить на Кавказе, и вот теперь переведен сюда. Полковой быт, который он описывал с иронией, по его словам, сводился к кутежам и лихим выходкам господ офицеров, после которых как правило либо отправляли на гауптвахту, либо увольняли в запас. Второе было менее предпочтительно, потому как навсегда лишало возможности продолжать ходить между жизнью и смертью за казенный счет.
– Между жизнью и смертью? – переспросил Куприн.
– Да, смею заверить вас, смертоубийства разнообразят рутину гарнизонной жизни. Будоражат кровь. А вопрос, «кто будет следующим», дает сильнейший стимул к успешному прохождению службы.
– И вам приходилось в этом участвовать?
– Неоднократно. Не далее, как на прошлой неделе стрелялись в Березуйском овраге, это в двух верстах от города. Поручик Панин – наповал, я был его секундантом, а его визави сейчас под трибуналом.
Куприн слушал Рыбникова, и в его воображении рисовалась картина безрадостная, сродни той, что он уже ни раз мог видеть и раньше, когда, освободившись от условностей и правил, как он от строгого надзора маменьки, некто испытывает от нахлынувшей на него свободы те же мучительные чувства, что и при ее отсутствии. Скука от возможности позволить себе все оказывается невыносимей запретов и ограничений, которые есть хотя бы возможность обойти.
Итак, опасность противостоит беспечности.
Беспечность суть безразличие.
Безразличие есть отрицание жизни.
Отрицание жизни сродни лицедейству, когда уже невозможно понять, кто ты есть на самом деле, и тебя как бы уже и нет, но есть «он», ты в третьем лице, за которым кто-то наблюдает со стороны, не испытывая к нему ни жалости, ни сострадания.
Актер Проскуровской антрепризы Моисей Приоров, завсегдатай еврейского заведения «у Шимона», так описал произошедшее в тот вечер:
– Он вошел в зал в сопровождении известного местного дуэлянта и скандалиста штабс-капитана Рыбникова. К тому времени в заведении было несколько компаний, весьма, надо заметить, бурно проводивших время. Заметив меня, Рыбников, так как мы были с ним давно знакомы, пригласил к их столу и представил своего приятеля подпоручика Александра Ивановича Куприна, прибывшего для прохождения службы в наш 46 Днепровский полк. Мы поздоровались. Завязался разговор, но, когда выяснилось, что я актер, лицо подпоручика неожиданно побледнело, а взгляд его стал напряженным и недружелюбным. Я отнес это на счет большого количества выпитого моими собеседниками и хотел продолжить нашу до того момента непринужденную беседу, но месье Куприн прервал меня и сообщил, что не желает находиться за одним столом с лицедеем, потому что его матушка – Любовь Алексеевна или Александровна, сейчас уже и не скажу точно, считала актерскую профессию бесовской, а самих актеров прислужниками сатаны. Я попытался возразить подпоручику, но это вызвало еще большую его ярость. Подпоручик вскочил из-за стола и бросил в меня тарелку. Я был вынужден ответить. В завязавшейся потасовке я оторвал погон на правом плече Куприна, за что он вызвал меня на дуэль на пистолетах. Дело сладилось довольно быстро, и через полчаса мы уже были в Березуйском овраге. На предложение Рыбникова помириться, господин Куприн ответил отказом, хотя я был готов обнять его.
В свете привезенных с собой ручных керосиновых ламп он выглядел возбужденным и готовым довести начатое дело до конца, а судя по тому, что он о чем-то постоянно спрашивал у штаб-капитана, было видно, что стреляться он собрался впервые. Наконец прозвучала команда «сходитесь». Не сделав и шага мне навстречу, он поднял револьвер и выстрелил. Подумав, что убит, я рухнул на землю.
И занавес упал вслед за мной.
3
Дворники дрались в свете уличного фонаря, таскали друг друга за бороды, матерились, путались в брезентовых фартуках, норовили ударить в лицо, хватали за отвороты зипунов, пытались повалить друг друга на землю.
Игнатий Иоахимович смотрел на них с отвращением, на их потные уродливые лица, на их раскиданные по мостовой шапки, которые они топтали сапогами. Представлял себе, как эти дворники, устав в конце концов от этой бессмысленной потасовки, поднимут свои пропахшие табаком ушанки-шапки с земли, отряхнут их, напялят на себя и очумеют.
– Мерзость-мерзость, какая мерзость, – повторял про себя Игнатий Иоахимович,
кутаясь в воротник шубы, переходя с быстрого шага на бег, чтобы хоть как-то спастись от ледяного пронизывающего ветра с реки. Несколько раз правда чуть не упал, но успел схватиться за шершавую от облупившейся краски стену дома, за медную ручку парадного подъезда, за чугунный поручен, обнял фонарный столб, но устоял на ногах. Со стороны он, вероятно, производил нелепое впечатление, но так как это было ранее мартовское утро – темное, промозглое, то никто не мог видеть бегущего человека в шубе, за которым от одного фонарного столба до другого гналась его тень, догоняла, потом отпускала, вновь настигала, и это продолжалось до бесконечности. Вернее сказать, до пересечения со Старо- Невским.
Здесь Игнатий Иоахимович наконец остановился, чтобы отдышаться.
Сырой холодный воздух тут же и сжег гортань.
Закашлялся до слез.
Почувствовал озноб.
Сплюнул на землю сгусток какой-то бурой горячей жижи.
Огляделся по сторонам – никого, и свернул в первую по ходу подворотню, чтобы почти сразу упереться в глухую кирпичную стену без окон, что терялась в стылой вышине, в крышах и печных трубах.
Оказался тут – на дне прямоугольного колодца, где было тихо и безветренно, где можно было переждать приступ лихорадки, забравшись с головой внутрь безразмерной шубы.
Так и поступил Игнатий Иоахимович, привалившись к каменной приступке.
Всю ночь накануне он не спал. Не мог уснуть от волнения, от мыслей, которые гнал от себя, даже разговаривал с ними, вопрошал, и они ему отвечали как ни странно, не соглашались с ним. В конце концов смог забыться, лишь когда открыл сочинение Якоба Арминия из Утрехта «О предопределении».
«И пришли они к мудрецу, чьего имени никто не знал и чьего лица никто не видел, потому что он жил внутри каштана, в который попала молния. Голос мудреца можно было слышать сквозь трещины в коре, через них внутрь дерева поступал воздух. Так как подобных щелей было великое множество, а каштан огромен, то казалось, что голос мудреца звучал отовсюду. Многие приходили к каштану, возраст которого насчитывал несколько веков, но не всем отвечал живущий в нем мудрец. Одних он прогонял грозным молчанием, других, напротив, привечал и даже напутствовал следующими словами – Можно совершать многие труды и питать многие надежды, но лишь в том случае свершится задуманное, когда усвоишь закон предопределенности будущего, которое неведомо никому из смертных, а знаки его начертаны в горних селениях. Что должно произойти, то и произойдет, и никакое усилие воли не исправит Божественного замысла, и никакой ум не усвоит смысла происходящего в веках. Живущий сейчас живет сейчас и заботится о насущном, имея скудные знания о прошлом, и порой ошибочно думая, что прозревает будущее. Но он есть лишь часть общего предначертания, Божественного плана, и признаться в этом себе натуре сильной и гордой непросто. Но как же тогда поступать? Как печься о грядущем, как воспитывать детей, чья жизнь устремлена в завтрашний день? Повторюсь, необходимо научиться видеть в невидимом сущее, а в обыденном вечное. В первую очередь, смотри внутрь себя, соблюдай верность внутреннему голосу. Не тому, что пришел извне и поселился как разбойник в тайниках твоей души, а тому, что был твоим от рождения и является свойством всякого сотворенного по образу и подобию Божию…»
Игнатий Иоахимович выглянул из воротника шубы – со Старо-Невского донеслось лошадиное ржание и крики, видимо, кто-то под утро возвращался из ресторации домой, но вскоре все стихло.
Посмотрел на часы – до встречи на конспиративной квартире оставалось пятнадцать минут.
– Пора, – проговорил, трогая губами мех. Почувствовал, что озноб прекратился, уступив место волнению. Знал, что главное вовремя начать себя успокаивать, заговаривать эту волну возбуждения, иначе потом будет поздно, и может случиться припадок.
– Как там дальше у Якоба Арминия? – с этим вопросом к самому себе пересек проспект и через проходные дворы двинулся в сторону Тележной улицы, – если не ошибаюсь, вторым навыком он называет знание своей родословной, когда родители и прародители повторяют один и тот же путь и нет никакого смысла пытаться его переиначить, что заведено испокон веков, то и произойдет, главное, видеть предзнаменования и не повторять ошибок отцов и дедов, а еще научиться смирять страсти, из которых вершится беззаконие, которые ввергают в безумие.
Игнатий Иоахимович то замедлял шаг, то ускорял его, так и волнение, плескавшееся в нем как жидкость, то затихало, то нарастало.
Почему оно нарастает? Потому что он испытывает страх перед многими обстоятельствами – на конспиративной квартире будут другие люди, его арестуют и будут пытать, он заблудится и не придет на место вовремя, он перепутает слова стихотворения Нестора Кукольника, являющиеся паролем, и дверь перед ним захлопнется, все закончится смертоубийством.
Почему оно затихает? Потому что Игнатий Иоахимович уверен, что произойдет то, что должно произойти, ведь все предопределено, начертано в скрижалях бытия, и сейчас ему главное справиться с самим собой, победить самого себя.
Поправлял воротник пальто и входил в подъезд дома номер 5 по Тележной улице.
Гулкая тишина парадного.
Сияние перил.
Мраморная лестница.
Дверь на втором этаже открыл чахоточного вида господин в темно-синем сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Показалось, что он был ему тесен и как бы выдавливает его из себя.
– Я здесь опять! Я обошел весь сад!
По-прежнему фонтаны мечут воду… – проговорил Игнатий Иоахимович.
– По-прежнему Петровскую природу
Немые изваянья сторожат… – прозвучало в ответ.
Темно-синий сюртук неловко затопотал на месте, задвигался, пропуская гостя в квартиру:
– Прошу вас, по коридору и направо.
Половицы паркета заскрипели под ногами.
Игнатий Иоахимович вошел в довольно просторную комнату, окна которой были наглухо зашторены. Включенная настольная лампа выхватывала своим желтым светом лишь часть пространства – шкафы с книгами, диван, стоящие вдоль стен стулья, на одном из которых сидела молодая женщина. При появлении гостя, она встала ему навстречу, протянула руку и как-то по-мужски, может быть потому что голос ее был хриплым и низкими, что никак не вязалось с ее внешностью, представилась:
– Елена Григорьевна.
Игнатий Иоахимович назвал свое имя.
– Знаю, наслышана о вас, – быстрые живые глаза ее оценивали собеседника, причем, делали это довольно бестактно и во многом надменно. От этой откровенной попытки добраться взглядом до самой его сути гостю стало не по себе, и он почувствовал закипающее внутри себя странное, тягостное волнение, какое раньше он никогда не испытывал, переживание совсем иного свойства, нежели те, что посещали его в последнее время.
Игнатию Иоахимовичу ничего не оставалось, как метаться взглядом по ее лицу, плечам, груди, узкой талии, натыкаясь при этом постоянно на ее руки – тонкие, спокойные, предназначенные для плавных движений, являющиеся продолжением всей ее фигуры, но в то же время существующие отдельно. Музицирующие руки.
Вальсирующие руки.
– У вас уставший вид, вы плохо спали? – Елена Григорьевна сделала несколько шагов назад и пригласила гостя к столу, – присаживайтесь.
– Вообще не спал.
– Волнуетесь?
– Нет, просто зачитался, – соврал Игнатий Иоахимович и сразу осознал, что эта женщина понимает, что сейчас он говорит неправду.
– Очень интересно. И кем же вы так зачитались? Надеюсь, не Достоевским?
– Нет, «О предопределении» Якоба Арминия из Утрехта. Не любите Федора Михайловича? – набрался смелость Игнатий Иоахимович.
– Терпеть не могу.
– Почему же, позвольте полюбопытствовать?
– Страдание вовсе не очищает душу, как нас учит господин Достоевский, оно уродует ее, приучает любить уродство, даже наслаждаться им, терпеть собственное ничтожество. А я ненавижу уродство, любезный Игнатий Иоахимович.
И он сразу вспомнил двух дерущихся в подворотне дворников, и сразу захотел воскликнуть вслед за Еленой Григорьевной – «я тоже не выношу уродства»!, но промолчал, и совершенно неожиданно для себя проговорил каким-то чужим, не своим голосом:
– А как же жалость к страдающему?
– К страдающему себе? – голос Елены Григорьевны стал еще глуше, черты лица ее обострились, кончики губ задрожали, и она неожиданно громко, даже вульгарно расхохоталась. Затем встала из-за стола, подошла к книжному шкафу, достала из некого небольшого размера коробку, запечатанную по углам сургучом и протянула ее Игнатию Иоахимовичу.
– Это вам. А теперь, прощайте, хотя, может быть, встретимся еще когда-нибудь, и вы мне расскажете о предопределении, было бы очень интересно послушать…
Дверь захлопнулась, и он остался стоять один на лестничной площадке, подсвеченной сквозь окна лестничных маршей слабым мерцающим светом мартовского сияния.
Все произошло так быстро, почти мгновенно.
Волнение, налетевшее на Игнатия Иоахимовича как ураган, отступило.
А в ушах еще звучал смех это странной женщины, лица которой он так и не разглядел, потому что испугался посмотреть ей глаза, в то время как она смотрела на него беспрестанно и бесстыдно.
Наклоняла при этом голову к левому плечу.
Щурилась.
В ней было что-то восточное, а потому тягостное и в то же время завораживающее.
Ее пальцы двигались, как будто она перебирала клавиши фортепьяно, а руки совершали плавные движения в такт воображаемой мелодии.
Игнатий Иоахимович держал в руках небольшого размера коробку, обклеенную почтовой бумагой и запечатанную по углам сургучом.
Он держал бомбу.
Переходя на обратном пути Старо-Невский, обратил внимание на афишу, в верхней части которой были крупно выведено указание года – 1881.
«Скорее всего, это была какая-то театральная антреприза или концерт известной певицы», – пронеслось в голове. Не останавливаясь, прошел мимо, но, дойдя до Лиговки, его вдруг осенило – бесконечность слева направо и справа налево. Это и есть третий навык, по мысли Якоба Арминия, навык постижения смысла цифр, последовательное расположения которых содержит в себе некий тайный иероглиф, раскрыть значение которого может лишь посвященный.
Единица – символ начала.
Восьмерка – символ бесконечности.
Бесконечность, возвращающаяся к своему началу.
Повторение одного и того же, чему означено начало, но не поставлен конец.
Значит, сегодня произойдет то, что откроет новую бесконечность, и никто не сможет ее остановить, пока не исчерпается ее предопределенность.
Игнатий Иоахимович вышел к Екатерининскому каналу и посмотрел на часы.
До начала нового отсчета времени оставалось полчаса…
Когда Любовь Алексеевна узнала, что в Петербурге убили царя, то сразу представила себе своего супруга, погибшего от рук бунтовщиков, растерзанного, со всклокоченный бородой, лежащего на полу среди разбросанных бумаг и переломанной мебели. Так и государь умирал в перепачканной кровью снежной каше на берегу Екатерининского канала, а кругом разносились вопли, лошадиное ржание, кто-то полз по мостовой, у кого-то были конвульсии, а сквозь дым проступали чумазые лица прохожих, оцепеневших от вида разорванных взрывами человеческих тел.
Взяла за правило каждый день спускаться в библиотеку Вдовьего дома и там просматривать свежие газеты, чтобы знать, как идет судебный процесс над цареубийцами. Отдавала таким образом дань Ивану Ивановичу Куприну, чья гибель во время холерного бунта так и осталась безнаказанной. Ведь ходила же в полицейский участок и требовала арестовать разбойника по фамилии Анисимов, но ей отвечали, что в уездном городе Наровчат Пензенской губернии числится только Анисин Петр Флегонтович, 1802 года рождения, ключарь Покровского храма, и никакого Анисимова тут нет. Но Любовь Алексеевна не верила, настаивала, унижалась, плакала, упрашивала, говорила, что эту фамилию ей сообщил сам покойник, и потому тут не может быть никакой ошибки.






