Мужчина мечты. Как массовая культура создавала образ идеального мужчины Дайхаус Кэрол
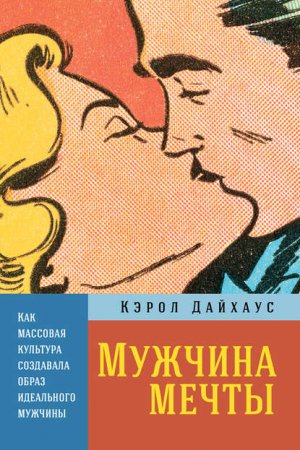
Технологии развивались, место немого кино заняли звуковые фильмы. Возник еще один критерий сексуальной привлекательности: голос. Звезды радиоэфиров 1920-х годов, когда-то захватившие танцполы, теперь господствовали и в гостиных[239]. Джин Остин нежно пел о радостях домашней жизни в «Моих голубых небесах» (My Blue Heaven); бархатный баритон Джека Смита в «Шепоте» (Whispering) умолял девушку «дать еще один шанс». Между исполнителями и аудиторией возникали новые формы близости. Пришло время новых донжуанов: Руди Валле, Расса Колумбо и Бинга Кросби[240]. Летом 1929 года молодая журналистка Марта Геллхорн отправилась в театр «Парамаунт» в Бруклине, чтобы посмотреть ревю с участием Руди Валле. Стоило ему запеть «Целую вашу руку, мадам» (I Kiss Your Hand, Madam), как его «вкрадчивый нежный голос» тут же вознес женскую часть аудитории «на вершину Парнаса»[241]. С чем это связано? – недоумевала журналистка[242]. Дело было не в привлекательной внешности Руди и не в искусной простоте его одежды. Но и не только в его голосе. Скорее всего, в первую очередь такое сильное впечатление на женщин производили нежные слова песни – каждой казалось, что полные надежды мольбы о любви посвящены лично ей[243]. Расса Колумбо называли «Валентино вокала»[244]. Со стороны критиков-мужчин на него сыпались оскорбительные комментарии: один даже назвал Валле «парнем с членом в голосе»[245]. Но они упускали суть. Подобные песни помогали женщинам чувствовать себя обожаемыми и неотразимыми, заставляющими мужчин буквально молить об отношениях.
Двадцать лет спустя эстрадных певцов сменили поп- и рок-исполнители. Стили менялись, и вместе с ними менялись представления о мужественности. Конец Второй мировой войны привел к отмене всеобщей воинской повинности: в Великобритании она была упразднена с 1960-х[246]. В США этого не произошло: например, даже Элвис Пресли получил свою знаменитую повестку в 1957-м. На место коротких стрижек приходили длинные волосы; сурово сжатые губы привлекали меньше, чем выражение юношеской экзистенциальной тревоги. Полные тоски, жалобные песни Джонни Рея заставляли женщин плакать вместе с ним и сочувствовать его чувствительности, будто запертой в мужском теле. Артисты, готовые раскачать систему, и певцы в образе симпатичных плохишей могли плеснуть масла в огонь женской страсти, стоило им только взмолиться о любви. Такая двойственность – жесткий стиль и мягкое сердце – легла в основу многих послевоенных историй звездного успеха.
Молодые исполнители, способные свести девушек с ума, приносили огромные деньги. Это высмеивалось в мюзикле Вульфа Манковица «Эспрессо Бонго» (Espresso Bongo, 1958): Джонни, циничный и меркантильный «менеджер», намеревается использовать простого рабочего парня Берта Руджа и превратить его в «Бонго Герберта»[247]. Герберт, «надежда Хокстона», выступает со скиффл-группой The Beasts, участники которой «жаждали пиццы и аплодисментов»[248]. Год спустя на экраны вышла киноверсия «Эспрессо Бонго» с худым Лоуренсом Харви в роли Джонни. «Пухлый парень по имени Клифф Ричард» примерил «скучную и неприятную роль юного барабанщика… на пути к славе», – вскоре написал критик The New York Times[249]. В изображении Манковица музыкальная индустрия безжалостна и работает по принципу «человек человеку волк». В текстовой версии «Эспрессо Бонго» описана сцена, в которой Джонни наблюдает: на Берта «как на лакомую косточку, пускает слюни стая псов-менеджеров»[250]. Однако встречались и более приятные агенты, которые вели себя по отношению к Джонни как добрые дядюшки и даже испытывали к нему отцовские чувства.
Ларри Парнса по прозвищу «Лондонец» часто называют первым британским менеджером в поп-музыке[251]. В конце 1950-х Парнс, который начал свою карьеру как фотограф-фрилансер (он снимал Джона Кеннеди), вознамерился превратить Томми Стила (урожденного Томи Хикса) в британского Элвиса Пресли. Парнс помог Стилу поработать над своим внешним видом и отказаться от образа стиляги в пользу имиджа опрятного любимца всей семьи. Джонни Роган, историк популярной музыки, обращает внимание, что в 1950-х британская пресса обычно называла стиляг хулиганами, и «в глазах многих рок-н-ролл был синонимом хулиганства и венерических заболеваний»[252]. Позже пути Парнса и Кеннеди разошлись, но в сотрудничестве с Томми Стилом Парнс приобрел много опыта и впоследствии вывел на сцену целый комплект не таких прилизанных парней, будущих звезд. Их сценические псевдонимы сформировали образ соседского парня, бунтаря в кожаной куртке: среди них были Билли Фьюри (или Билли Ярость, урожденный Рональд Уичерли), Марти Уайлд (Дикий Марти, урожденный Рег Смит), Винс Игер (Винс Жаждущий – Рой Тейлор), Джонни Джентл (Джонни Нежный – Джон Аскью) и т. д. Парнс холил и лелеял своих протеже, утверждая, что заинтересован в их успехе как отец. В одном из интервью во время «комплексного тура» с рок-выступлениями по всей стране, которые Парнс активно продвигал, он подчеркнул, что чувствует особенную ответственность за организацию регулярного питания ребят в дороге. Однако благодаря своему деловому чутью он заработал прозвище «Мистер Парнс, Шиллингс и Пенс», и его часто в шутку сравнивали со Свенгали, называя кукловодом, умело манипулирующим своими мальчиками[253].
В 1962 году под эгидой Канадского национального управления кинематографии вышел короткий документальный фильм «Одинокий мальчик» (Lonely Boy) режиссеров Вольфа Кёнига и Романа Кройтора, в котором анализируется маркетинговый образ молодого канадского певца Пола Анка – подростка-сердцееда[254]. Фильм демонстрирует «поразительное превращение эстрадного артиста в кумира». В «Одиноком мальчике» Анка признается, что в детстве был «толстячком», который много времени уделял своей внешности. Но он сбросил вес, упорно ухаживал за волосами, сделал пластику носа. Анка работал под руководством менеджеров – Ирвина Фельда и «Дяди Джули», руководителя ночного клуба «Копакабана» в Нью-Йорке. Анка был вечно окружен молодыми девушками в цветастых льняных платьях. Стоило ему коснуться подбородка одной или двух наиболее расчувствовавшихся девчонок, как плач переходил в истерику. «Я действительно уверен, что Пол станет величайшей звездой, какую только видывал свет», – торжественно заявляет Фельд, предупреждая Анка, что тот больше «не принадлежит себе, а принадлежит миру». Кажется, Анка это полностью устраивает; хотя в последней сцене он кажется совершенно изнуренным, когда пытается хоть немного отдохнуть в своей машине по дороге на очередное мероприятие. А на фоне звучит его хит, «Одинокий мальчик» (Lonely Boy).
Этот фильм повлиял на картину британского кинематографиста Пола Уоткинса «Привилегия» (Priviledge, 1967): Пол Джонс исполняет в ней роль поп-идола, которого доводят до полусмерти менеджеры, спекулянты и злые силы в церкви и правительстве[255]. Пол Джонс играет Стива Шортера – страдающего персонажа, который напоминает святого Себастьяна. Его пронзают стрелы славы и коммерческих интересов других людей. Девочки, как обычно, рыдают от восторга, когда он появляется на сцене в наручниках и молит о свободе. Фильм получился довольно странным, однако местами пророческим. Безусловно, это было выражение мощной критики поп-менеджмента и звездного культа. В конце фильма Шортер срывается и начинает оскорблять публику, собравшуюся посмотреть, как на престижной церемонии «нашему платиновому мальчику» вручат серебряный приз. «Вы поклоняетесь мне как какому-то богу. Я ненавижу вас! Я человек, я человек, я человек!» – пронзительно кричит он.
Музыкальный менеджмент и индустрия связей с общественностью быстро менялись. С каждым годом находились все более сложные пути маркетингового продвижения – и использования – молодых певцов, вознесенных волнами женского обожания на вершины славы. Питер Уоткинс высмеял эту тенденцию в сцене, где Стивен Шортер стал рекламным лицом торгового совета по продаже яблок при спонсорской поддержке министерства сельского хозяйства: изобразил рыцаря в блестящих доспехах, окруженного актерами второго плана в странных костюмах яблок. Следом на него набросились представители государственной церкви, которая стремилась улучшить свою репутацию, проведя «Неделю христианского крестового похода». В рекламе всюду американские флаги, горящие кресты и массовое пение гимна «Иерусалим». Сюжет может показаться неправдоподобным, однако спустя три года после выхода фильма народное движение христианского возрождения действительно организовало Фестиваль света – митинги в Трафальгарском парке и концерты в Гайд-парке, лицом которых стал Клифф Ричард, поп-звезда и герой рекламных кампаний[256].
В 1950-х предприниматели вроде Ларри Парнса и «Полковника» Тома Паркера, менеджера Элвиса Пресли, проявляли невероятную изобретательность. Сообразительность и коммерческое чутье Паркера вскоре превратились в легенду[257]. Став менеджером Элвиса, он получил чек на $40 000 от Хэнка Сейперстейна, киноторговца с Беверли-Хиллз. Эти деньги должны были помочь превратить имя Элвиса в бренд. Начала выпускаться бесконечная линейка продуктов, посвященных Элвису: браслеты с подвесками, оранжевая губная помада оттенка «Hound Dog» (в честь одноименной песни), шарфы, бумажные куколки, светящиеся в темноте фигурки и пластиковые гитары. Аланна Нэш, биограф «Полковника» Паркера, рассказывала, как тот придумал одновременно продавать на улице рядом с концертными площадками бейджики с надписями «Я ненавижу Элвиса» и «Я люблю Элвиса»[258]. Рассказывали, что первый фан-клуб Элвиса так быстро собирал наличные, что ни у кого просто не хватало времени проводить их через банк. Какое-то время Элвис был беспредельно благодарен «Полковнику» Паркеру. Его эксплуататорские условия работы с певцом стали скандально известны намного позже (так, он забирал себе 50 % прибыли)[259].
Эксплуатация коммерческого потенциала популярных певцов вскоре перестала кого-либо удивлять. К журналам для подростков прилагались вырезные фигуры и постеры, колонки со сплетнями, трафареты для футболок, кружки и брелоки для ключей. К первому номеру журнала Roxy, вышедшему в 1958-м, прилагалась небольшая пластиковая брошь в форме гитары Томми Стила[260]. Подростковый журнал Boyfriend пестрил рекламой Клиффа Ричарда. В 1959-м к октябрьскому номеру, «посвященному дню рождения Клиффа», прилагалась фотография и брелок с «его» камнем[261]. Границы привлекательности поп-звезд постоянно пытались расширить, выставляя их приверженцами семейных ценностей. Например, Марти Уайлда всегда позиционировали как мальчика, обожавшего свою мать[262]. Поговаривали, что Винс Игер тренировался целоваться со своей сестрой и надеялся найти возлюбленную, которая будет ее не хуже[263]. И хотя масштаб современных маркетинговых стратегий значительно изменился, многие из них зародились именно в 1960-х.
Мужчины-звезды продолжали жить в легендах даже после своей смерти – как, например, тот же Байрон. Сегодня память о них хранится на официальных сайтах. Их имена коммерчески эксплуатируют, превращая в бренды, приносящие деньги даже после смерти знаменитости. Официальный сайт Элвиса Пресли предлагает поразительно широкий спектр товаров в магазине «ShopElvis»[264]. Компания Elvis Presley Enterprises, которую основала бывшая жена Элвиса, Присцилла Пресли (она же ею поначалу и управляла), заведует Грейслендом, теннессийским особняком поп-звезды, который с 1982 года открыт для посещения и привлекает толпы туристов со всего мира. Поместье кумира подростков Джеймса Дина процветает и в двадцать первом веке, получая прибыль от рекламы других брендов, например джинсов или камер[265]. Совсем недавно появилась реклама дизайна карточки VISA, специально от Джеймса Дина, – предназначенная тем, кто желает каждый раз, доставая бумажник, демонстрировать свою любовь к этому певцу[266].
Некоторые любимые женщинами знаменитости грелись в лучах обожания, наслаждались своим звездным статусом и всеми соответствующими ему привилегиями. Но определенное беспокойство все равно ощущалось всеми и всегда. Столпотворения фанаток представляли физическую опасность для звезд кино и популярных исполнителей, равно как и для их предшественников – звезд дневных театров. За их машинами и номерами в отелях постоянно следили, туда проникали без приглашения. Их одежду воровали, а то и вовсе срывали прямо с них. Сэр Дирк Богард утверждал, что перед премьерами ему приходилось зашивать себе ширинку – настолько сводила поклонниц с ума его игра в романтических фильмах[267]. Можно ли сказать, что популярность отрицательно сказывалась на профессионализме? Самые знаменитые женщины иногда заявляли, что привлекательность мешает им получить статус «серьезных» актрис. Например, Бетт Дейвис заявляла: ей хотелось бы, чтобы мир запомнил ее как «серьезную актрису и больше ничего… мне не нужны всякие гламурные штучки для девочек»[268]. В своей книге «Звездный механизм» (The Star Machine) историк кино Джанин Бейсингер заявляла, что всепоглощающая красота Тайрона Пауэра мешала ему строить карьеру серьезного актера: ему слишком легко давались роли объектов женского желания, его слишком просто было низвести до уровня идеального продукта для продажи[269].
Не унизительно ли это – считаться объектом сексуального влечения для толп задыхающихся женщин? Критики-мужчины часто рассуждали именно так. Например, газета The Times опубликовала разгромный материал о британском певце Фрэнки Вогане, невероятно популярном у женщин в 1950-х[270]. Автор высмеивал пропагандистскую машину Фрэнки Вогана, которая присвоила певцу статус «новейшей модели» мужественности, словно речь шла о «последней модели американского автомобиля». Он писал: «Мистер Воган поет, но это, в общем, почти не важно. Его задача – стимулировать эротические ощущения. Исключительно этой цели служат его смуглая привлекательность и сильный голос»[271].
В 1974 году поп-идол Дэвид Эссекс снялся в ленте английского режиссера Майкла Эптеда – фильме «Звездная пыль», вышедшем под слоганом «Покажите мне парня, который никогда не мечтал быть рок-звездой, и я покажу вам лжеца»[272]. Как и «Привилегия», этот фильм должен был продемонстрировать внутреннюю пустоту славы. По сюжету рок-исполнитель Джим Маклейн (Дэвид Эссекс), даже несмотря на поддержку сочувствующего менеджера (в исполнении Адама Фейса), ненавидел тот факт, что его превратили в объект потребления, что он потерял контроль над собственной жизнью. Он жалуется: «Я ведь артист, а не чертов музыкальный автомат». Горькое чувство отчуждения подталкивает его к употреблению наркотиков, он впадает в депрессию и умирает. Исполнители взрослели, и по понятным причинам роль идола подростков им надоедала. Сам Дэвид Эссекс, у которого на протяжении 1970-х была целая армия юных обожательниц, много лет спустя признался, что от репутации любимца девочек-подростков он не мог избавиться вплоть до среднего возраста. И все равно в новостях его всегда представляли именно так. Сам же Эссекс предпочел бы, чтобы его знали как «актера и композитора, которого в 1999 году наградили орденом Британской империи за деятельность в качестве посла благотворительной организации Voluntary Services Overseas»[273].
Во времена резких социальных изменений, когда мнения разных поколений по поводу ценностей не совпадали буквально ни в чем, критика стиля выступлений исполнителей-мужчин бывала особенно резкой. Например, в 1960-х, когда в Великобритании отменили воинскую повинность, юноши стали отращивать длинные волосы и носить одежду, которая была слишком уж цветастой и даже женственной – на вкус старшего поколения. Автор «Подростковой революции» (The Teenage Revolution, 1965), публицист Питер Лори, был одним из многих, кого тревожила эта тенденция перехода к «унисексу»[274]. Он пытался понять, что же все это значит. Можно ли сказать, что эта тенденция символизирует упадок мужественности? Лори полагал, что всему виной девушки. Он утверждал, что с исторической точки зрения мы оказались в необычной ситуации: теперь в распоряжении женщин был «избыток доступных для замужества молодых мужчин», и они могли выбирать любого на свой вкус[275]. Молодые женщины заняли влиятельную позицию – стали потребительницами мужчин и товаров. Лори считал, что именно они стали причиной подростковой революции:
Они навязали мальчикам уважительное отношение к моде, аккуратности и спокойному поведению. Они в свое удовольствие избирают и свергают поп-звезд; в приступе притворного – а иногда и непритворного – дионисийского сумасшествия они ревут и рвут на себе волосы; любимец, попавший в толпу девочек-подростков, будет заласкан едва ли не до смерти, с него сорвут одежды, у него вырвут волосы – и разберут все это на сувениры[276].
Тревоги Лори перекликаются с переживаниями мужчин 1920-х годов, которые точно так же боялись, что девочки станут мужеподобными – и тем самым лишат мужественности юношей. Кроме того, мы слышим те же самые тревоги в отношении деструктивного потенциала женской страсти[277].
Лори утверждал, что в 1960-х пинап-журналы вроде Fabulous (который добился огромного успеха на британском печатном рынке в 1964-м) перевернули представление о сексуальном превосходстве и объективизировали мужчин, а вовсе не женщин[278]. Однако не всегда удавалось удачно выставить мужчин в качестве сексуальных объектов. В апреле 1972 года в редакции британской версии журнала Cosmopolitan решились поместить на центральный разворот фотографию обнаженного мужчины. Редакторы предположили, что женщины так негодовали, когда их рассматривали в качестве сексуальных объектов, просто потому, что им «не разрешали ответить аналогичным комплиментом»[279]. Выбор редакции пал на Поля дю Фе, выпускника литературного факультета, работавшего на стройке, – обладателя красивого тела и приятной расслабленной манеры поведения. С 1968-го он был женат на писательнице и телеведущей Жермен Грир, хотя по взаимному согласию они быстро стали жить раздельно. Их брак продлился буквально несколько недель. Судя по всему, умные женщины находили Поля дю Фе привлекательным – позже за него вышла замуж писательница Майя Энджелоу. Он придерживался правильных взглядов, уважал независимость женщин и в целом производил «впечатление мужчины, который разбирается в женщинах». Однако, рассказывая о разрыве отношений с Грир, дю Фе отметил, что их ожидания в отношении друг друга оказались неправдоподобно традиционными:
Я представлял себе, что брак позволит мне получать чай в постель каждое утро, а она – что выходит замуж за «огромного широкоплечего мужчину, который прижмет ее к своей груди, затянутой в твидовый костюм, заглянет в глаза и оставит на ее застывших в ожидании губах вкус рая или ожог страсти»[280].
Но внимание публики недолго было направлено на Поля дю Фе. Его образ не покорил женского воображения. Намного большего успеха в пинапе для женщин в 1980-х и 1990-х добился итальянец Фабио Ланцони, одновременно напоминавший викинга с обнаженным торсом и мускулистого супергероя из комиксов[281]. Издательство Avon Books нанимало Фабио в качестве модели для обложек любовных романов с названиями вроде «Сердце не обмануть» (Defy Not the Heart), «В плену у негодяя» (Scoundrel’s Captive) и «Беспощадный гром» (Savage Thunder). Вышло бесчисленное количество обложек с его блестящим бронзовым торсом и длинными светлыми локонами, развевающимися на ветру[282]. Его тело возвышалось над ослабевшими женщинами в полуобморочном состоянии. Изображения Фабио – а вместе с ними и книги – отлично продавались. Фабио богател, купаясь в лучах славы. И лишь иногда переживал, что образ с картинок не дает женщинам увидеть его реального. Он настаивал: «Я тоже человек, как и все остальные. Но они обращаются со мной как с фантазией»[283].
Стандарты красоты со временем менялись. В 1900-х бодибилдера и шоумена Евгения Сандова часто называли «безупречным мужчиной», воплощением «греческого идеала»[284]. Во время его выступлений женщины бросали на сцену украшения, а после выстраивались в очередь, чтобы потрогать мускулы Евгения[285]. Но по современным стандартам Сандов, пожалуй, слишком коренаст и дороден. Спустя четверть века после расцвета карьеры Фабио Ланцони модная эстетика снова изменилась; теперь воплощением женских представлений о физически совершенном мужчине называют бывшего профессионального футболиста Дэвида Бекхэма и супермодель Дэвида Ганди. И Бекхэм, и Ганди ассоциируются с рекламой и продакт-плейсментом. Они будто бы моделируют определенные стили жизни. Стиль Ганди – изысканный, сложный, аристократический. У Бекхэма сразу бросается в глаза отличная физическая форма и в то же время почти женственная чувственность: он достаточно уверен в своей мужественности и не стесняется рекламировать украшения, ходить с косичками или «конским хвостом» на голове. Кроме того, привлекательность Бекхэма для женщин во многом связана с семейными ценностями: преданность жене и детям буквально вытатуирована по всему его телу.
Ганди и Бекхэму приходилось сниматься в рекламе широкого спектра продуктов: от спортивных товаров до нижнего белья и высокой моды. Оба совершали набеги на рынок парфюмерии. А запахи, конечно же, это и есть материя мечтаний. Бой-бенды, например One Direction, ставили свою подпись под разнообразными ароматами с названиями вроде «Наш миг» (Our Moment), «Между нами» (Between Us), «Ты и я» (You and I). Запахи с нотками цветов и сахарной ваты, романтические названия – все как бы намекает на влюбленность и юность, на особую личную связь между девушкой-подростком, которая пользуется духами, и объектом ее преданной любви. Ароматы, которые представляли Ганди и Бекхэм, более зрелые, они рассчитаны на взрослых мужчин: предполагается, что эти запахи привлекут женщин[286].
Духи, тела, одежда, воображаемый стиль жизни – все это обычно обусловлено сложным сочетанием культурных предпосылок. Тем не менее даже этого оказывалось недостаточно некоторым женщинам, чтобы действительно разжечь фантазии, мечты и желания. Нет, их любимым персонажам нужна была еще и особенная история.
4
Когда-то давным-давно…
Прекрасный принц, рыцари и красавцы регенты
В 2004 году песня «Однажды явится мой принц» (Someday My Prince Will Come), прозвучавшая в диснеевском мультфильме «Белоснежка и семь гномов» (Show White and the Seven Dwarfs, 1937), заняла девятнадцатое место в списке лучших саундтреков по версии Американского института кинематографии[287]. Поколения девочек с удовольствием слушали сказки про прекрасных принцев, которые сажают девушек на белых коней и, окутав вечной любовью, увозят в свои замки. Что нужно сделать, чтобы выбрали именно тебя? На самом деле, ничего особенного. Уснуть на кушетке или же в хрустальном гробу и ждать поцелуя. Может быть, сделать немного работы по дому. Может быть, что-то и посложнее – если вам, как и Золушке, не повезет со злобной мачехой и жестокими сводными сестрами. А может, и работать особенно не придется – если вас, как и Белоснежку, окружат милые одомашненные лесные жители, белки и синешейки, которым не терпится прибраться и вытереть пыль. Рано или поздно прекрасный принц вас найдет. Ваша неотразимая красота и доброта поразят его на балу, или же он на верном коне продерется через ежевичные чащи, спасет вас и увезет в закат. Образы Белоснежки, Спящей Красавицы и Золушки неоднократно воплощались в разных сюжетах, однако основная линия истории всегда была узнаваемой и глубоко проникала в сердца и умы зрительниц.
Так кто же он, этот прекрасный принц? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, он появился во французских сказках семнадцатого века: le roi charmante был героем «Синей птицы» (L’Oiseau Bleu) мадам д’Онуа[288]. Термин постоянно использовался в конце девятнадцатого века, иногда – для описания образа идеального любовника. В 1891 году The New York Times опубликовала небольшую страшную историю о пожилой бездомной женщине: когда ее заметили, она копалась в грязи под ногами у лошадей, собирая опавшие лепестки роз. «На безупречном итальянском» женщина объяснила репортеру, что «о своей торжествующей молодости не сожалела совсем, совсем, только скучала по розам, которые прекрасный принц присылал ей в Милане каждое утро»[289]. Использование термина нередко подразумевало иронию, особенно если применял его мужчина. Годом раньше в The New York Times рассказали «историю о розах и мошенничестве», в которой молодой мужчина, «прекрасный принц во плоти, перед которым все женщины падали ниц», одурачил четырех дам из одного отеля, внушив им, что хочет на них жениться[290]. Каждую он попросил за ночь обдумать его предложение и за завтраком прикрепить к поясу красную розу, если ответом на его предложение будет согласие. После этого «легкомысленный кавалер» уехал на полночном поезде в Нью-Йорк. Утром, увидев друг у друга розы, женщины решили сравнить любовные записки…
В воображении юных девушек прекрасный принц символизировал красоту, элегантность и мужество. Благородное происхождение играло очень большую роль, при этом принцу для Золушки не нужно было иметь какую-то особенную индивидуальность или демонстрировать развитие характера – лишь бы он (или его бумажник) нашел обладательницу туфельки. Одежда и внешность в целом были важны, потому что символизировали титул, манеры и многие другие достоинства. Для девушек, живших в Викторианскую эпоху, национальными героями были адмирал Нельсон и герцог Веллингтон. Их изображения попадались всюду: бюсты, портреты, статуэтки, рисунки на чайниках и даже на крышках банок для печенья. Молодые леди вздыхали по Нельсону: в моду вошло ношение камей, украшенных его изображением, веера и платья из тканей с золотыми якорями[291]. Поклонение героям было частью культуры. Предполагалось, что оно вдохновляет на подражание, а потому в целом имеет положительный эффект[292]. Конечно же, девушки и мечтать не могли о том, чтобы уподобиться великим мужчинам. Тем не менее перед героями можно было благоговеть, превращая их в идеал мужественности, можно было сравнивать с их образами потенциальных мужей. Историк Кейт Уильямс показала, что даже несмотря на физическую непривлекательность Нельсона, а также отсутствие у него глаза и ноги он стал объектом сексуального желания многих женщин[293]. И Веллингтон, между прочим, тоже. Дочери семейства Бронте выросли в благоговении перед ним[294]. Их ранние литературные работы, по большому счету, можно считать фанфиками, посвященными деяниям Веллингтона. Для Шарлотты герцог стал настоящим наваждением, «полубогом», образцом странствующего рыцаря и преданного возлюбленного[295].
На портретах Нельсона кисти Лемюэля Эбботта и сэра Уильяма Бичи мы видим красивое бледное лицо с выражением «гордой решимости», но при этом с мягкими и полными губами. На портрете Эбботта, выставленном в Национальном морском музее, на Нельсоне сияет золото и разнообразные награды: звезда и лента ордена Бани, орден Полумесяца от правителя Османской империи и, что самое главное, инкрустированное брильянтами украшение в форме пера на шляпе[296]. Этот плюмаж (украшение для головного убора) подарил ему султан Селим III в честь героической победы в битве при Абукире[297]. Одно из самых известных изображений герцога Веллингтона – портрет работы Томаса Лоуренса примерно 1815 года, который теперь выставлен в Эпсли-хаусе[298]. У герцога скрещены руки – еще один штрих, добавляющий образу гордости и решительности. У него мужественные черты, подбородок оттеняет «трехдневная щетина». Он просто неотразим в фельдмаршальской форме, украшенной орденом Подвязки и орденом Золотого Руна. Впрочем, высокомерное выражение лица отражает его презрение к подобным безделушкам.
Рыцарские и военные знаки отличия всегда символизировали отвагу. Украшения и орнаменты из золотой тесьмы, кушаки и эполеты указывали на высокий ранг и королевское (или по крайней мере благородное) происхождение. Казаки, гусары и кавалеристы носили невероятно эффектную форму, и об их привлекательности для женщин сложили не одну легенду. Выдуманный сэром Артуром Конан Дойлом бригадир Жерар хвастался: стоило его роте прибыть в новое место, и все население начинало бегать «со всех ног: женщины – в нашу сторону, а мужчины – в противоположную[299]». Казаки носили кители впечатляющего кроя, гусарам выдавали узкие кожухи с золотыми галунами, меховые шапки и ботфорты. В «Орле» (The Eagle, 1925), немом фильме по произведению Александра Пушкина, Рудольф Валентино был одет в соблазнительную форму Дубровского, русского офицера, чья мужественность пробудила страсть самой Екатерины Великой. Сногсшибательная форма Дубровского с оплетенными лентами газырями (гнездами для патронов) на груди, – творение Адриана (художника по костюмам Адриана Гринберга), чей талант раскрыла Наташа Рамбова: еще до того он создавал поразительные костюмы для фильма «Святой дьявол» (Sainted Devil, 1924), который сегодня, к сожалению, безвозвратно утерян[300].
Костюмы принцев создавались на основе реальных романтических и военных прототипов, ведь история – богатый источник вдохновения. Романтика, связанная со стилями одежды прошлого, сохранялась в образах принцев всегда. Принцы и кавалеристы могли надеть что угодно и не утерять при этом мужественности. В костюмированных постановках их мужественность только подчеркивали украшенные перьями шляпы, камзолы с лентами и гофрированные рубашки с воланами на рукавах. В восемнадцатом веке мужчины носили напудренные парики, расшитые атласные жилеты, шелковые чулки и блестящие пряжки на обуви. Но, как известно, в 1800-х все изменилось[301]. Последователи Красавчика Браммела, законодателя мод в эпоху Регентства, одевались спокойнее[302]. Больше не использовались парики, пудра, вышивка. Их место заняли темные вещи удлиненного кроя. Особенно романтичные личности могли позволить себе рубашки с воланами – но истинная знать отныне использовала только безупречно белые, аккуратно повязанные шейные платки.
После Французской революции чрезмерная пышность одежды стала осуждаться общественностью. В Великобритании индустриальная революция изменила модели работы и обусловила свои порядки, режим и ритм повседневной жизни. Отчасти в силу этого в середине девятнадцатого века повседневная мужская одежда стала более мрачной и суровой. Что, в свою очередь, только подпитывало мечты о романтическом прошлом. Королева Виктория любила, когда супруг Альберт наряжался в принца ее фантазий. Ландсир написал их портрет в карнавальных костюмах для бала в 1842 году: на нем Альберт изображен в богатом средневековом одеянии – в алых чулках, пурпурной мантии и золотой парче[303]. На другом портрете того же периода Альберт одет в сшитый на заказ бархатный костюм, а на ногах его потрясающие красновато-коричневые сапоги до колен. Он одет так, словно собирается играть в «Вольном стрелке», но решил отдохнуть в гостиной Виндзорского замка в окружении семьи, собак и кучи дичи[304]. Он – принц-охотник, настоящий добытчик, его волшебные пули подстрелили даже зимородка: младшая дочь Альберта, принцесса Вики, играет с ним в углу. А королева смотрит на него с обожанием.
Исторический полет фантазии позволял измерить свободу современных ожиданий, поиграть с представлениями о гендере и личности. Художники по костюмам в театре и кинематографе всегда вдохновлялись историей. Наташа Рамбова представила Рудольфа Валентино настоящим щеголем королевских кровей в напудренном парике и атласном наряде – таким он явился перед зрителями в фильме «Месье Бокэр» (Monsieur Beaucaire, 1924). А британский дизайнер Элизабет Хаффенден создала мечтательные и выразительные костюмы для фильма о Красавчике Браммеле в 1954-м[305].
Принцы должны были быть галантными – кстати, изначально это слово употреблялось в значении «вычурный» или «впечатляющий»[306]. Они должны были быть обходительными (в смысле обхаживать леди), демонстрировать рыцарство. Хотя рыцарство – явление средневековое, и было не очень понятно, как можно проявить рыцарские качества столетия спустя. Споры о мужественном поведении, которые, очевидно, велись уже в произведениях Сэмюэла Ричардсона и Джейн Остин, в начале девятнадцатого века распространились еще шире по мере роста популярности книги «Жизнь в Лондоне» (Life in London) журналиста и спортивного комментатора Пирса Игана[307]. История изначально публиковалась как серия сюжетов и представляла собой хронику приключений двух молодых мужчин, Джерри Хоутона и Соринтиана Тома, в Лондоне в эпоху Регентства. Тогда мужественность определялась разнообразными наградами. Пирс Иган подчеркивал, что его герой Том вовсе не паинька. Автор заявлял, что Том совсем не похож на сэра Чарльза Грандисона, которого он считал простофилей, «едва ли не боящимся пятнышка грязи» и «никогда не нарушавшим установленных в обществе правил, никогда не поступавшим плохо»[308]. Но вместе с этим Том не был ни Ловеласом, ни героем вроде Джозефа Эндрюса Филдинга[309]. Он любил выпить, не гнушался азартных игр, с удовольствием ввязывался в перебранки. Но в то же время очень заботился о своей одежде, выглядел модно и богато. Нам ясно говорили: Том не денди, «он был любим, но не был героем-любовником»[310]. Его персонаж должен был понравиться не только женщинам, но и мужчинам.
Насколько позволительно было мужчинам погружаться в этот образ принца с элегантными манерами и одеяниями, чтобы нравиться женщинам, но выглядеть при этом слишком уж женственно? В эпоху Регентства стали совершенно очевидны тревоги, связанные с денди и ветреными девушками, а также традиционно британские предрассудки в отношении всего французского – как по определению слишком модного. Однако споры по этому поводу велись даже столетие спустя, они сопровождали создание фильмов и исторических романов. Возобновление тревог, связанных с мужественностью и манерами в начале двадцатого века, особенно бросается в глаза в двух немых фильмах: «Месье Бокэр» от студии Paramount и «Красавчик Браммел» от студии Warner Brothers, посвященных денди эпохи Регентства. Эти же вопросы поднимались в раннем романе Джорджетт Хейер «Перерождение Филиппа Джеттана» (The Transformation of Philip Jettan), в 1923-м вышедшем в издательстве Mills and Boon.
Фильм «Месье Бокэр» основывается на романе Бута Таркингтона о молодом французском принце крови, герцоге Шартрском, которого сыграл Рудольф Валентино. Бокэр – отличная партия для юной принцессы Генриетты (Биби Даниелс), он – «повелитель сердец» и «воплощение мечтаний». Однако тревоги и недопонимание, связанные с браком по расчету, приводят к тому, что герцог бежит в Англию. Он переодевается в скромного брадобрея и обустраивается в модном городе Бате. Там он связывается с плохой компанией азартных игроков и других паразитов на теле общества, а потом влюбляется в леди Мэри, «первую красавицу Бата». Леди Мэри ничего не знает о его истинном происхождении, а потому отказывает ему из-за слишком низкого происхождения. В конце концов он разочаровывается в своих иллюзиях и возвращается во Францию, в объятия своей первой возлюбленной.
Фильм, как и роман, поставил под вопрос представления о знатности и мужской чести, отношении к женщинам и настоящей любви. Декорации и костюмы были роскошными: критики-современники писали о том, что они очаровательны, как полотна Ватто[311]. Валентино сногсшибателен в напудренном парике и придворном платье образца восемнадцатого века. Эпизоды оголения торса и поигрывания мускулами должны были защитить его от обвинений в чрезмерной миловидности. «Звезду завернули в шелка и ленты; Валентино превратили в настоящую валентинку. Тем не менее он заставил трепетать сердца многочисленных женщин», – писал критик в журнале Photoplay[312]. Однако фильм приняли хуже, чем ожидалось. Многие считали, что в этой роли Валентино был слишком женственным и потерял свое обаяние. Эмили Лейдер, биограф Валентино, обращала внимание, что обвиняли в этом в первую очередь Наташу Рамбову. Ее упрекали в том, что она подталкивает мужа браться за «надушенные роли», которые на вкус публики были слишком фальшивыми и недостаточно мужественными[313]. Вскоре появилась даже пародия на «Месье Бокэра» – американская короткометражка «Месье Все Равно» (Monsieur Don’t Care, 1924), в которой Стэн Лорел исполнил роль «Рубарба Вазелино»[314].
Сценарий фильма «Красавчик Браммел» (Beau Brummel, 1924) с Джоном Берримором и Мэри Астор в главных ролях основывается на пьесе американского драматурга Клайда Фитча. Он также касается вопросов стиля, романтики и мужественности[315]. Браммел, принц моды, всегда одевается прилично и со вкусом – в отличие от рожденного в королевской семье, но ужасно воспитанного принца-регента. Берримору достались умопомрачительные костюмы. Сначала он предстает перед зрителями в сногсшибательном образе гусара, тогда как на регенте слишком откровенные штаны с высокой талией. Когда героя Берримора заставляют расстаться с его настоящей возлюбленной, Марджери (Мэри Астор), происходит трогательная сцена в саду, где напоследок он мужественно набрасывает на себя тяжелый плащ, после чего мы видим, как аккуратно он промакивает полные слез глаза, чтобы не размазать тушь.
В этом фильме Берримор заметно переигрывает: известно, что, даже несмотря на влечение к коллеге по фильму (в то время у них с Мэри Астор был роман), в этой роли ему было некомфортно. Его брат Стивен вспоминал: Джон постоянно переживал, что после этого фильма его станут называть «хорошеньким мальчиком»[316]. Не нравилась ему и «роль слабака», эмоционального Питера Иббетсона, в крайне успешной бродвейской постановке по одноименному рассказу Джорджа дю Морье, вышедшей в 1917 году. Из-за этих ролей Берримор сыграл свою следующую роль – шекспировского Гамлета – с недвусмысленной мужественностью. Хорошо известно: он хотел, чтобы его Гамлет получился настолько мужественным, что «когда я буду уходить со сцены, будет слышно, как стучат мои железные яйца»[317].
Молодая английская писательница Джорджетт Хейер опубликовала роман «Перерождение Филиппа Джеттана» (The Transformation of Philip Jettan, 1923) в издательстве Mills and Boon под псевдонимом Стелла Мартин. Позже роман переиздали в Heinemann – без последней главы и под названием «Пыль и мушки» (Powder and Patch). Действие в книге происходит в восемнадцатом веке, и эта история также посвящена вопросам мужской привлекательности. Златовласой Клеоне Чартерис нравится Филипп Джеттан, местный землевладелец. Он мог бы стать для Клеоны отличной партией, но на ее утонченный вкус слишком уж неучтив. Ее симпатии меняются, когда она встречает мистера Банкрофта, поразившего ее своей городской изысканностью. Внешность Банкрофта производит потрясающий эффект на все деревенское население Сассекса, в котором выросла Клеона. Местные жители выходят на улицу, чтобы взглянуть на его элегантный плащ бледно-абрикосового цвета, на его расшитый камзол и модные туфли с красными каблуками. Филипп в ярости. В ответ на манерность и жеманность Банкрофта он только расправляет плечи. На его взгляд, пышные кружева намного уместнее смотрятся на женском запястье, чем на мужском; «тошнотворные духи» Банкрофта и его «жирные мягкие руки» вызывают у Филиппа отвращение[318]. Однако Клеона просто очарована, она все больше убеждается, что Филипп – неотесанный мужлан.
Дальше история выстраивается вокруг через не хочу принятого Филиппом решения поработать над манерами и изменить свой стиль, научиться фехтовать и съездить в Париж. Такое решение озадачивает Клеону. Что-то неодолимо мужское привлекает ее в характере Филиппа – Джорджетт Хейер называет это «способностью к власти»[319]. После того, как у возлюбленного ее детства появляется чувство стиля и культурный капитал, его привлекательность вырастает. Более того, теперь он нравится и другим женщинам. Клеона ревнует, но чувство гордости не дает ей открыться. Филипп просит совета у светской дамы, леди Малмерсток, которая знает, чего хотят женщины. Она рекомендует Филиппу демонстрировать мужественную решительность и властность. Благодаря этому совету Филипп берет ситуацию в свои руки, и Клеона наконец бросается в его объятия.
Филипп Джеттан – ранняя версия «героя Хейер», образа, в котором писательница старалась совместить «властность» с нежностью и утонченным вкусом[320]. Современным читателям властность нравится не всегда, однако эта схема долгое время работала, особенно когда применялась на фоне личностного развития героя, предполагавшего его постепенную адаптацию к женским пожеланиям. Таким образом, перед нами – нечто большее, чем классический романтический сюжет, в котором герой смягчается под влиянием настоящей любви. Теперь ему нужно отречься от грубости, показать свою чувствительность, способность понимать и уважать желания женщины. Как в 2013 году заметил один читатель, опубликовавший свой отзыв на Amazon’s Goodreads, Джеттана «превратили в Золушку»: новый облик обретает принц, а не служанка-посудомойка[321].
Всех своих героев Хейер писала по формуле. Она сама говорила, что всех их можно разделить на две категории: «Марк I» и «Марк II»[322]. Первых она описывала так: «бесцеремонный дикий тип с отталкивающим нравом»; вторые были учтивы, хорошо одеты и богаты. Впрочем, типы могли частично пересекаться. В ее работах нередко встречались привлекательные герцоги и маркизы из восемнадцатого века, которые могли похвастаться не только утонченным вкусом, манерами и изысканной одеждой, но и стальными нервами. Такой герой появляется на первой странице «Теней былого» (These Old Shades, впервые опубликован в 1926 году) – его светлость герцог Эйвон. Эйвон «манерно» идет по ночному Парижу в сапогах с высокими красными каблуками и длинном лиловом атласном плаще. Он носит драгоценные камни и напудренный парик, а в руках его красуется украшенная лентами трость[323]. Но за этим пижонским нарядом и внешней медлительностью скрывается острый ум, изобретательность, храбрость и сила. В контексте эпохи Регентства Эйвон превращается в графа Ворта, героя одной из самых любимых публикой книг Хейер, «Опасное богатство» (Regency Buck, 1935). Ворт немного угрюм и немногословен, но при этом заслужил статус «примера для подражания в мужской моде». Вот каким он впервые предстает перед читателями: «из-под самой модной бобровой шапки виднелись черные, тщательно уложенные как бы в естественном беспорядке локоны», галстук идеально накрахмален и уложен, а дорожный плащ украшен пятнадцатью пелеринами и двумя рядами серебряных пуговиц[324]. Героиня романа, Джудит Тэвернер, находит его красивым, но слишком «самоуверенным».
Все до единого благородные герцоги и аристократы в романах Хейер обладают одним качеством: они в совершенстве владеют искусством верховой езды. Сама этимология слова «рыцарь»[325] говорит о том, что рыцарство изначально ассоциировалось с навыками езды на лошади, а также вежливостью по отношению к дамам. Герои Хейер все знают о своих лошадях, что косвенно говорит нам и об их собственных социальных показателях и родословной: владение лошадьми «у них в крови». Часто герои Хейер оказываются «искусными наездниками». Она внимательно читала Пирса Игана. Том, герой Игана, был «идеальным героем с хлыстом», и его навыки «управляться с поводьями и лихо сворачивать на углах улиц в четырехместном ландо» описывались как недостижимый идеал[326]. Высшая степень умения водить экипажи приписывалась мужчинам, которые могли смахнуть ударом хлыста муху с уха ведущей лошади[327]. Хейер так глубоко погрузилась в социальную историю эпохи Регентства и руководства по стилю того времени, что в итоге сформировала базу знаний по верховой езде, уходу за лошадьми и управлению экипажами. Она разбиралась в сложностях, связанных с управлением скоростью лошади и удержанием ее в узде, и даже понимала, в чем заключалась исключительность Клуба четырех лошадей[328]. Хейер подробно описывала преимущества и недостатки, а также социальную значимость умения управлять ландо, парным двухколесным экипажем и фаэтонами. Умение управлять лошадью указывало не только на происхождение, но и на компетентность мужчины, его зрелость. Навыки верховой езды и управления экипажами могли успокоить любые сомнения в мужественности, связанные с чрезмерным интересом к моде. Мужчина, который мог управлять лошадью, умело контролировал жизнь. Мужчин, которые не умели ездить верхом или управлять экипажем, нельзя было назвать настоящими; они либо были незрелыми юношами, либо занимали низкое положение в обществе. А вот женщины могли позволить себе неумение обращаться с лошадьми. Когда Шарлотта в «Верхе совершенства» (The Nonesuch, 1962) призналась, что не любит лошадей, потому что их поведение кажется ей непредсказуемым и «они дергаются, если их похлопать», ее попутчики-мужчины расценили это как милейший признак ее женской хрупкости[329].
Более независимые героини Хейер (вроде Джудит Тэвернер из «Опасного богатства») умеют управляться с лошадьми и с радостью ездят верхом. У мужчин это вызывало уважение, но также могло спровоцировать попытки испытать навыки героини. Когда Джудит отказалась подчиняться авторитету своего опекуна и поучаствовала в неблагоразумной гонке экипажей, ей пришлось самой спускаться со своей высокой лошади и признавать, что она вела себя неправильно[330]. Образы лошадей и верховой езды часто использовались в романтической литературе для отображения гендерных отношений. В работах Джорджетт Хейер это часто приводило к возникновению незабываемых двусмысленностей. Например, когда Анцилла из книги «Верх совершенства» выехала на прогулку, ее воздыхатель, сэр Уолдо, воскликнул: «Хотел бы я, чтобы меня так оседлали!»[331]
Лошади и сексуальный интерес уже давно связаны традицией, которая простирается вплоть до дней придворного рыцарства и отсылает нас к «Рутширским хроникам» («Всадники», «Соперники» и «Поло») Джилли Купер (1980–1990-е)[332]. Мы можем вспомнить, как Рочестер впервые появляется перед Джейн Эйр: его лошадь поскальзывается на льду и всадник борется, чтобы восстановить контроль. Джейн, как мы узнаем, смертельно боится лошадей[333].
Отзвуки «Золушки» можно найти и в «Джейн Эйр». Здесь мы видим более правдоподобную версию сказки: принц на белом коне, готовый спасти героиню, появляется не так резко. Рочестер – воплощение страсти и неистовства, а вовсе не прекрасный принц. «Верх совершенства» Хейер – это тоже история Золушки, похожая на «Джейн Эйр». Анцилла (имя героини переводится как «рабыня») работает гувернанткой, однако происхождение и врожденное изящество отличают ее от других. Несмотря на низкий социальный статус, ей удается добиться симпатии со стороны сэра Уолдо, который, конечно же, богат и крайне привлекателен. Кульминация сюжета наступает, когда Анциллу приглашают на бал. Она переживает, что по нормам приличия ей лучше отказаться, однако посетить бал очень хочется. В конце концов она идет на поводу у своих желаний и присоединяется к празднеству, надев бледно-оранжевое платье и свободно уложив волосы. Она танцует вальс с сэром Уолдо. Это злит местных матрон, которые считают, что она прыгает выше головы и лишает их дочерей возможности произвести впечатление на потенциального жениха[334].
Компания Walt Disney выпустила мультипликационную версию «Золушки» в 1950 году. Мультфильм был успешен и помог студии восстановиться после тяжелых лет Второй мировой войны. «Мечта – это желание твоего сердца», – пела Эйлин Вудс, озвучившая главную роль. 1950-е и начало 1960-х – десятилетие мечтаний и надежд на светлое будущее. Люди устали от самоограничений и лишений. Британский популярный исполнитель Билли Фьюри в 1962 году выпустил хит под названием «Однажды в мечте». Он пел «Мечты сбываются, дорогая» с такой душераздирающей искренностью, что девушки тут же выстраивались в очередь, чтобы переехать в его волшебный замок и быть вместе и навсегда[335]. В эти годы история Золушки обрела особую привлекательность: сказка легла в основу сразу нескольких спектаклей и фильмов. Например, мюзикла «Хрустальная туфелька» (The Glass Slipper, 1955) от MGM с Лесли Карон и Майклом Уилдингом[336]. Золушка в исполнении Лесли Карон – чумазая вздорная проказница с фигурой, напоминающей песочные часы, которая раздражает окружающих постоянным хвастовством: «Однажды я буду жить во дворце». Из Майкла Уилдинга принц так себе. Он выглядит намного старше Золушки и неуклюже двигается в трико. Зато оба героя привели себя в порядок перед балом. Будучи наследником «Принца Чарльза» и его (безымянного) герцогства, затерянного где-то в горах, на свадьбу Уилдинг надевает белую парчу, отороченную лебяжьим пухом, и серебряные атласные штаны.
В 1950-х в США вышли первые романтические комиксы под названием «Любовь Золушки» (Cinderella Love)[337]. Потребительские товары, оформленные по сюжетам сказки, встречались повсеместно. Частично это были товары компании Disney: целое поколение девочек носило на руках часы с изображением Золушки. Продавались игрушечные заводные Золушки. В платьях цвета незабудок они держали за руки своих принцев. Когда игрушку заводили, парочка начинала вальсировать по кругу, если стояла на ровной поверхности. Но такие игрушки выпускались не только под эгидой Walt Disney: культурное значение и коммерческий потенциал истории Золушки были очевидны всем. Так, в 1946 году в рекламе топливной компании Shell появилась умненькая девушка в модном костюме: она выходила из кареты в форме тыквы, а лакеи почтительно ей кланялись[338]. В следующем году косметическая компания Revlon выпустила губную помаду и лак для ногтей с новым оттенком оранжевого – «Тыква Золушки»[339], а после Coty выпустили духи L’Aimant во флаконах в форме хрустальной туфельки[340]. Девушкам и женщинам постоянно предлагали представлять себя в образе Золушки – будто им было нужно только найти своего принца и вместе с ним вступить в мир бесконечной радости.
В послевоенные годы принцы, принцессы и все представители королевской семьи пользовались особенным вниманием публики. В ноябре 1947 года свадьба английской принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена, недавно ставшего герцогом Эдинбургским, транслировалась на канале ВВС для миллионов зрителей по всему миру. На принцессе было украшенное цветами платье от Нормана Хартнелла, которого, поговаривали, на этот дизайн вдохновила «Весна» Боттичелли[341]. Платье было выполнено из атласа цвета слоновой кости, с вырезом в форме сердца и украшениями из кристаллов и жемчуга. В то время в стране все еще действовала система нормирования товаров, и ходили слухи, что для покупки этой ткани потребовалось собирать карточки. Филипп надел свою военно-морскую форму и нес меч, подаренный ему королем, что должно было наводить зрителей на мысли о славной истории и бесстрашии. Мечом разрезали свадебный торт[342].
Сэр Генри «Чипс» Ченнон писал в своих дневниках, что молодожены были похожи на пару из сказки. Шарм Филиппа «колоссален, как и у всех Маунтбеттенов», – отметил Чипс после свадебного танца в 1948-м[343]. Молодой герцог «обеспечил балу успех». После коронации в 1953 году волшебные чары только усилились. Чипс писал, что «все жалуются на коронационный тромбоз. Люди больше ни о чем не говорят… целыми днями только и судачат о дворцах, тиарах, каретах, форейторах, мантиях и коронах»[344]. Хотя с Золушкой королеву никто не сравнивал, к аббатству она подъехала в золотой карете. Герцог надел парадную форму адмирала флота. Весь его костюм был расшит и украшен галунами, а золотые эполеты придавали ему особый шик. Ченнон отметил, что герцог был похож на «средневекового рыцаря»[345]. Филипп первым воздал должное Ее Величеству, поклялся быть ее «вассалом всю жизнь и почитать ее превыше всех на земле». Этот замечательный для Англии и «традиционных сил всего мира» день восхищал не только Чипса[346]. Все женские журналы только и писали о королевской свадьбе.
Мечты девушек о том, что однажды они найдут прекрасного принца – или тот найдет их сам, – только крепли. Рассказывая о своей матери, историк Кэролин Стидман описывала жизнь, полную разочарований и горечи от неисполнившихся мечтаний. Стидман понимала, что воображение ее матери разжигали сказки, фантазии, в которых король мог влюбиться в гусятницу[347]. «Она родилась в семье из среднего класса, и ей хотелось: юбку из коллекции “новый облик”, деревянный домик в деревне и выйти замуж за принца»[348]. В середине века журналы и газеты пестрили историями о женщинах с «обычным» происхождением, которым удалось привлечь внимание принцев – или по крайней мере мужчин, претендовавших на подобный статус, как бы сомнительно это ни звучало.
Конечно же, в реальности явным преимуществом для любой девушки – или женщины – были собственные деньги. Успешные бизнесвумен в индустрии косметики, Элизабет Арден и Элена Рубинштейн, вышли замуж за принцев. Свадьба Элизабет Арден и князя Майкла Эвлоноффа состоялась в 1942 году, правда их брак долго не продлился[349]. Брак ее соперницы, Элены Рубинштейн, заключенный в 1938 году с доброжелательным Артчилем Гуриель-Чкониа, оказался более успешным. Хотя жених был на двадцать лет моложе невесты, брак продлился до самой смерти Артчиля в 1955-м[350]. Восхитительно богатая Барбара Хаттон, наследница состояния Вулвортов, на протяжении жизни успевшая семь раз побывать замужем, трижды вступала в брак с самоназванными «принцами»[351]. В 1933 году она вышла замуж за Алексиса Мдивани, одного из трех братьев, получивших прозвище «Мдивани на выданье» благодаря своему успеху у богатых женщин. В 1947-м Хаттон вышла замуж за князя Игоря Трубецкого. А последним ее любимым в 1964-м стал «принц» Пьер Раймонд Доан винх на Чампасаак[352]. Чампасааки – королевская семья из Лаоса, землевладения которых расположены недалеко от Меконга. Однако С. Дэвид Хейман, биограф Хаттон, предположил, что статус и происхождение «принца» были куплены на деньги жены[353]. Неудивительно, что, когда ассистентка Барбары Хаттон решила рассказать о жизни своей бывшей работодательницы, она назвала свою историю «В поисках принца» (In Search of a Prince, 1988)[354]. В Великобритании и Северной Америке статьи о свадьбах «знаменитостей» с принцами постоянно попадали на страницы женских журналов. Журнал Woman’s Own так описал свадьбу кинозвезды Риты Хейворт и принца Али Хана в 1948 году: «Восхитительная история современной Золушки, которая выбралась из безвестности и вышла замуж за прекрасного принца-миллионера»[355]. А в 1956-м свадьбу Грейс Келли с принцем Монако Ренье называли сказкой, случившейся в реальной жизни[356].
Весь этот восторг по поводу прекрасных принцев в 1950-х годах совпал с пиком популярности одной из самых странных знаменитостей десятилетия, американского пианиста и шоумена Владзи Валентино Либераче. Мать Либераче назвала обоих своих сыновей в честь главного сердцееда ее молодости, Рудольфа Валентино, но завладеть сердцами женщин довелось именно Владзи (его также называли Уолтером или Ли). Женщины безгранично любили Либераче. Историк Марджери Гарбер назвала его «принцем, коронованным на Дне матери», хотя в ряды его фанаток входили женщины всех возрастов[357]. Мужчинам было сложно вынести его успех. По обе стороны Атлантического океана выходили критические отзывы, пропитанные неприязнью к стилю музыканта. В репортаже о его первом лондонском концерте, состоявшемся в 1956 году, The Times едко отзывалась о его нарядах, называя их «угрожающе избыточными», а про «черный костюм с вкраплениями золотой нити», который Владзи надел на свое телевизионное выступление, писали, что он «будто бы сплетен из лягушачьей икры»[358]. Тем не менее аудитория Фестивал-холла «состояла в основном из девушек и женщин всех возрастов, готовых при любом удобном случае завизжать или упасть в обморок»[359].
Этот отзыв The Times особенно интересен тем, что его автор будто бы заранее настроился почувствовать отвращение и был крайне удивлен, что исполнитель «не бахвалился и не пускал слюни, не тыкал в своих обожателей бриллиантами в форме рояля». Ему пришлось признать, что у Либераче «неплохое чувство юмора, и он готов посмеяться над самим собой»[360]. Но далеко не все журналисты пытались сохранить объективность – или хотя бы хладнокровие. Сила ненависти, которую некоторые мужчины питали к Либераче, очевидно проявилась в двух оскорбительных статьях Уильяма Коннора («Кассандра»), опубликованных в Daily Mirror в 1956 году. Либераче подал на автора в суд за клевету и получил 8000 на покрытие расходов и убытков[361].
Даже некоторая склонность к графомании не объясняет силу отвращения, которым брызжет Коннор в своих статьях. Он называл Либераче «кучей сиреневого вздора», обвинял его в «сюсюкании с матерью» и считал, что тот олицетворяет собой «самую большую сентиментальную блевотину современности». В самых известных пассажах его критика беспощадна: Либераче назван «смертельно опасной, подмигивающей, посмеивающейся, жмущейся поближе, хромированной, надушенной, светящейся, дрожащей, хихикающей, пахнущей фруктами, жеманной, покрытой льдом кучкой материнской любви», которая со времен Чарли Чаплина в 1921-м оказалась «самой популярной и влиятельной фигурой в Лондоне». Либераче, заключал Коннор, «это вершина секса – мужского, женского и среднего рода. Все, что он, она или оно когда-либо могут захотеть»[362].
Дальше в его работы можно не углубляться – и так понятно, что подобные оскорбления намного больше говорят о нем самом, чем о Либераче. Почему любовь мужчины к матери вообще так осуждалась? Как это чувство могло разрушить мужественность? Если Либераче так сильно любили, почему Коннор нападал на него, а не на его поклонников? И кого в этой ситуации скорее можно назвать извращенцем?
Коннор зашел еще дальше, когда начались слушания в Высоком суде. В отношении смыслов, в действительности вложенных в определения вроде «пахнущий фруктами» и «голубок», проводились сложные расследования. Коннору пришлось увиливать от обвинений в том, что его отвращение к некоторым породам собак (пуделям) возникло из-за того, что он ассоциировал их с определенными формами сексуального выражения или проститутками[363]. В деле фигурировало огромное количество парафраз и отказов выражаться буквально. Коннор писал о Либераче: «Должно быть что-то неправильное в том, что наши подростки, стремящиеся к сексу, и матроны среднего возраста, у которых секс уже в печенках сидит, – все влюбляются в эту сладкую гору звенящей трескотни»[364]. Но Либераче отвергал любые предположения о том, что его выступления были по своей природе сексуальны. Он считал, что женскую аудиторию привлекала его сентиментальность, уважение к зрителям и умение произвести впечатление. И, скорее всего, он был прав.
Когда изучаешь подробности этого разбирательства, больше всего бросается в глаза царившее в обществе замешательство. Некоторые качества, которые привлекали женщин в образе Либераче, заставляли мужчин подвергать сомнению его мужественность. Сначала никто этого не понимал, но на рассмотрение в суд тогда, по большому счету, попали сексуальные предпочтения самого Либераче. Когда в самом начале тяжбы его спросили, является ли он гомосексуалом, Либераче ответил: «Нет, сэр». Многие утверждали, что это – лжесвидетельство. Но, как показал внимательный биограф Либераче, Дарден Эсбюри Пайрон, его отречение от гомосексуальности легко объяснялось особенностями того времени[365]. Тогда в рамках культурных стандартов гомосексуальную ориентацию считали преступной, больной, отвратительной. На это явно указывают и статьи Коннора, в которых так часто упоминаются рвотные порывы автора. Гомосексуальность считалась противоположной мужественности. И если Либераче жил в мире, где гомосексуалов не считали мужчинами, выбора у него, на самом деле, просто не было. Он не лицемерил, скрывая свою нетрадиционную ориентацию, – он заботился о собственной безопасности.
Не менее благоразумным было его решение на время слушаний отказаться от своего яркого стиля. Либераче всегда появлялся в суде в намного более скромных костюмах, чем обычно. В 1956-м в The Times писали, что он называл себя «поклонником эффектности», поясняя, что «люди ждут от меня этого, иначе я одевался бы намного скромнее»[366]. В ходе слушания в 1959-м его адвокат Гилберт Бейфус предостерег присутствующих от глумления над американской публикой, которой такая эффектная внешность по вкусу, и от неосторожных заключений о том, что это несовместимо с мужественностью. В конце концов, в эпоху Регентства мужчины тоже любили приодеться. Бейфус напомнил слушателям, что люди до сих пор с удовольствием смотрят на эффектных охранников в Букингемском дворце, на рыцарей с подвязками, – да и присутствующие в зале вообще-то в париках[367].
В 1950-х внешность Либераче еще не была такой яркой, однако он уже напоминал джентльмена из восемнадцатого века или актера в роли прекрасного принца. В 1956 году Либераче даже обменялся костюмами с Элвисом[368]. У этих мужчин было что-то общее и помимо интереса к музыке. Они оба развивали и представляли на суд публики более «пышный» образ мужественности. И женская аудитория была от него в восторге. Экстравагантная парча Либераче, его меха и блестящие украшения вызывали у женщин восторг и даже, возможно, некоторую зависть: дамы с огромным удовольствием прощались с военной системой нормирования товаров. Во время выступлений Либераче в Манчестере и Шеффилде слышались грубые мужские выкрики: «Педик!» и «Уезжай обратно, гомик!». Но преданные поклонницы вдохновляли музыканта: Либераче хвастался, что получает от 6000 до 10 000 писем в неделю, а также большое количество предложений жениться и лавину валентинок[369]. Дамы любили его острый ум, его учтивость, да и очевидную привязанность и уважение к матери. Кстати, Элвис тоже обожал свою мать. Мужчинам вроде Уильяма Коннора это могло казаться тошнотворным и немужественным, но женщины смотрели на ситуацию иначе.
Можно провести определенные параллели между творчеством Либераче и другого культурного феномена того времени, английской писательницы романтического жанра Барбары Картленд. Лучше всего книги Картленд продавались в 1960–1980-х, и наиболее ярко она проявила себя в конце этого периода. Однако активно писать Барбара начала уже в послевоенные годы и продолжала плодотворно работать даже в старости, вплоть до самой своей смерти в конце века[370]. Ее публичное поведение, как и у Либераче, характеризовалось очень яркой гендерной окрашенностью: она изображала высшую степень женственности, которая несколько противоречила ее амбициозности и силе воли. В молодости Картленд была очень привлекательной, а с возрастом будто бы превратилась в пародию на саму себя. Со временем ее внешний вид становился все нелепее и в конце концов певратился в объект высмеивания критиков-мужчин: они соревновались в том, кто же опишет ее наиболее едко. Лаконичнее всех с задачей справился австрало-британский писатель Клайв Джеймс: «Волшебно накрашенные тушью, ее глаза были похожи на двух маленьких ворон, которые с размаху врезались в известняковый обрыв»[371]. Картленд носила пышные шелковые платья от Нормана Хартнелла – приторно-розовые или нежно-голубые. В качестве аксессуаров использовались экстравагантные шляпки с перьями.
Картленд, признанная «королева любовного романа», опубликовала больше 700 книг и благодаря своей продуктивности постоянно попадала в Книгу рекордов Гиннесса: в год она могла написать больше двух десятков книг. Ее романы перевели на тридцать четыре языка, они были известны по всему миру, хотя в 1980-х в Великобритании и США их популярность заметно снизилась. Формула романа Картленд хорошо известна. Героини, которых она называла своими «золушками», были невинны, чисты и красивы. Они влюблялись в герцогов и принцев – тоже красивых, богатых и мудрых в отношении житейских вопросов[372]. Картленд считала любовь явлением духовным и божественным. Она утверждала, что на протяжении всей писательской карьеры ее вдохновляло впечатление, еще с юности оставшееся у нее от книг Этель Делл, которая и научила ее верить в «истину любви»[373]. Картленд ассоциировала себя с «образом Золушки – красивой, но бедной молодой девственницы, которая танцует до заката и мечтает о принце»[374]. Хотя личная жизнь писательницы была непроста, со сложными отношениями с мужчинами, она считала себя невинной – словно у нее была некая «духовная девственность». «Я всегда казалась себе похожей на цветок, очень нежный и женственный, и всегда стремилась получить защиту сильного мужчины», – признавалась она своему биографу Генри Клауду[375].
Как и Либераче, Картленд была загадкой для окружающих. Либераче в своих выступлениях и Картленд в своих книгах формировали яркие гендерные репрезентации самих себя, лишенные при этом сексуальности. Оба придерживались – и даже пропагандировали – утешительное понимание сексуальных различий, корни которого уходили в жесткие ограничения послевоенного времени, когда мужчины были мужчинами, а женщины – женщинами и гендерные роли были ясно разграничены. Но в то же время их личности и действия ставили под вопрос всю эту гендерную парадигму. В их поведении было много отрицания. Либераче отрицал, что мужчины были для него сексуально привлекательны. А когда Картленд спрашивали, как же ее герои набирались сексуального опыта в мире девственниц, она резко отвечала, что этот вопрос ее «утомил»[376]. Она объясняла, что действие ее романов происходило в прошлом именно потому, что это позволяло героиням быть чистыми, невинными. А современное общество, на ее вкус, становилось слишком либеральным.
В 1970-х издатели стали намекать, что героини Картленд слегка устарели: были слишком непорочными, слишком неземными для современной публики. Но писательница не соглашалась. Мужские герои ее историй тоже не особенно менялись. В представлении Картленд мужественность предполагала шик, деньги и определенную отстраненность и даже жесткость по отношению к женщинам. Сколько бы она ни говорила о духовной составляющей любви, действительно привлекательный герой обязательно был богатым. Если у него не было дворца, он должен был владеть хотя бы сельским поместьем: Картленд часто говорила, что девушке везло, если ей удавалось выйти «замуж за человека, у которого есть ворота в свой парк»[377]. Рассуждения феминисток второй волны о том, что мужчины должны разделять с женщинами домашнюю работу, вызывали у нее непонимание и даже приводили ее в ужас. «Будьте мужчинами, отказывайтесь мыть посуду», – увещевала она на встречах с читателями[378]. Картленд считала, что мужчина, стоящий у раковины на кухне, лишается мужественности, становится продуктом женского – но ничуть не женственного – садизма[379]. Важную роль в формировании этой точки зрения играл социальный класс: для грязных дел у лордов и леди всегда были слуги.
Героями Картленд обычно были герцоги и принцы с разными титулами: герцог Букминистерский – в книге «Гордая бедная княжна» (Pride and the Poor Princess, 1981); умопомрачительный герцог Дарлингтон в «Страхе и любви» (Afraid, 1981); граф Рокбрук, который влюбился в простую деревенскую девушку по имени Пурилла в книге «Львица и лилия» (The Lioness and the Lily, 1981). Мужчины могли быть наследниками королевств, находившихся где-то в Центральной или Восточной Европе, на Балканах или в России. Так, в книге «Мегера и король» (The Hellcat and the King, 1977) мы знакомимся с королем Карании Миклошем; в «Страсти и цветке» (The Passion and the Flower, 1978) перед нами предстает князь Иван Волконский; а во «Влюбленном короле» (A King in Love, 1983) – Максимилиан, король Вальдастана. Конечно же, принцы заваливали героинь дорогими подарками. Очаровательный князь Иван подарил бедной Локите букет орхидей и инкрустированную бриллиантами брошь в форме бабочки, лежавшую в белой бархатной коробочке[380]. Картленд нравилась атмосфера конца восемнадцатого века, потому что после 1790-х мужчины перестали носить парики. Писательница признавалась: она «никогда бы не поверила, что мужчина в парике может привлекать как любовник»[381].
В 1950-х особую привлекательность книгам Барбары Картленд добавляли обложки от Френсиса Маршалла, которые выпускали сразу несколько издательств: New English Library (NEL), Corgi, NBantam и Pan[382]. До того Френсис Маршалл работал иллюстратором в британском Vogue. Его иллюстрации для обложек книг Картленд демонстрируют талант к изображению мрачных принцев с идеальной осанкой, которые возвышаются над мягкими податливыми Золушками. На его рисунке для книги «Очарованная вальсом» (The Enchanted Waltz; Arrow, 1955) изображена кружащаяся по залу пара, и принц просто блистателен в зелено-голубом фраке и шелковых чулках. Все двадцать лет у принцев в исполнении Маршалла были одни и те же черты: волевой подбородок и идеальная осанка. На обложке «Капризного ангела» (A Very Naughty Angel, 1975) принц с волосами цвета воронова крыла одет в отороченную соболем мантию, на нем красная шелковая лента и сапоги со шпорами. Меч наклонен под весьма двусмысленным углом, а зонтик милой спутницы стыдливо его касается.
К последней четверти двадцатого века истории про Золушек начали надоедать читательницам. Еще до возникновения движения за освобождение женщин мечты о прекрасном принце, который спасет от монотонности домашнего хозяйства, стали казаться просто нереалистичными. В настоящей жизни, а не в сказке, после замужества женщины 1950–1960-х вынуждены были вести борьбу за то, чтобы как-то успевать вести домашнее хозяйство и при этом работать[383]. Да и домашняя жизнь больше не казалась пределом мечтаний, даже состоятельная: она скорее отупляла и удручала. В то время активная сексуальная жизнь до брака все еще связывалась с определенными рисками и осуждалась; однако некоторые писательницы в своем творчестве изучали, как мужчины, брак и материнство становятся ловушкой для женщины. Среди этих писательниц была и Пенелопа Мортимер[384].
Название самого известного романа Мортимер, «Пожиратели тыкв» (The Pumpkin Eater, 1961), отсылает нас к детской прибаутке («Питер, поедатель тыквы: / У него была жена, / Но он не мог ее содержать, / Поэтому он спрятал ее в тыкву / И там ее и хранил»). Эта отсылка имеет глубокое метафорическое значение. Внутри тыквы мягкие и сочные, в них много семян. Женщина в тексте находится во власти собственного тела и плодородия. Мы чувствуем: автор намекает, что мужчины контролируют женщин, используя секс и беременность. Но съеденная тыква не превращается золотую карету, которая везет Золушку на бал, нет. Это – ее тюрьма.
Феминистки второй волны призывали женщин брать контроль над собственными телами и сексуальностью в свои руки; пассивность женских сказочных персонажей вызывала у них острый протест[385]. Некоторые даже взялись полностью переписывать сказки: чтобы сделать героинь более вздорными, с критическим отношением к шарму принцев[386]. «Золушка бросает прекрасного принца», – написали в Daily Mirror в статье 1987 года, посвященной отношению библиотек к несексистским книгам для детей, которые рассказывали о равных жизненных и карьерных возможностях для девочек[387]. Картленд, конечно же, была просто в ужасе. «Эти книги отвратительны. Девушки должны быть мягкими, милыми и нежными – полной противоположностью мужчинам», – говорила она журналистам[388].
Не только Золушка казалась глупой в традиционной интерпретации. В фильме «Туфелька и роза» (The Slipper and the Rose, 1976), продюсером которого стал Дэвид Фрост, должны были развиться характеры обоих персонажей – и Золушки, и принца. «Эдвард, принц Юфрании», роль которого исполнил Ричард Чемберлен, тревожится из-за чрезмерного давления родителей – те хотят, чтобы он вступил в брак, руководствуясь политическими соображениями. Для этого и организовали «бал невест». Принц называет это «выставкой домашних животных» и «отвратительным конкурсом красоты» (подобные определения часто использовали участники движения за освобождение женщин). И сам он чувствовал себя вещью – призом в этой гонке. Одетый в бархатные сюртуки разных оттенков серо-коричневого, янтарного и бледно-зеленого, Чемберлен отлично подошел на роль сексуального объекта. В менее формальной обстановке его герой предпочитал поэтичные кружевные рубашки с нежной цветочной вышивкой. Он словно олицетворял собою ответ на девичьи молитвы. Фильм добился определенного успеха в Великобритании, но не в Северной Америке. «Превратили хрустальную туфельку в свиное ухо», – писали в The New York Times[389]. Винсенту Кенби, критику из этой газеты, показалось, что в фильме «принца сделали какой-то лягушкой»; а пара Золушки и Эдварда «была похожа не на героев сказки, а на фотографию с банки арахисовой пасты»[390].
В Великобритании фильм «Туфелька и роза» в 1976 году показывали с позволения королевы – та его оценила[391]. Спустя пять лет леди Диана Спенсер подъехала к собору Святого Павла в карете c большими окнами; на ней было пышное платье из шелка цвета слоновой кости, украшенное старинным кружевом. За «сказочной» свадьбой робкой и красивой молодой женщины и Чарльза, принца Уэльского и наследника трона, следила телеаудитория со всего мира – в общей сложности 750 млн зрителей. Это событие снова вдохнуло жизнь в анахронизмы вроде восхищения тиарами, роскошными нарядами и королевским статусом. Феминистки переживали, что это плохо повлияет на молодых девушек. В The Times опубликовали статью Пенни Перрик под названием «Первоклассная хрустальная туфелька?» – автор беспокоилась, сумеет ли Диана стать примером для подражания, ведь она всего лишь милая воспитательница, которой посчастливилось завоевать сердце принца[392]. Но вскоре всем стало очевидно: королевский брак далек от идеала. Сложно было избежать новой волны критики по отношению к сказкам. Многие считали, что Диана разрушила представление о браке с членом королевской семьи как гарантии долгой и счастливой совместной жизни. Оказалось, что принц долгое время был влюблен в другую, замужнюю женщину. Наступило время болезненных признаний и актов эмоционального отмщения. Ничего личного не осталось: все тиражировалось и преувеличивалось стараниями мировой прессы. Барбара Картленд – на чьих книгах выросла Диана – очень из-за этого переживала. Она говорила, что в юности Диана читала только ее книги, которые, судя по всему, не принесли ей добра[393].
В представлениях о принце для Золушки возникли новые ироничные нотки. В том же году, когда состоялась королевская свадьба, британский поп-музыкант Адам Ант выпустил альбом под названием «Прекрасный принц» (Prince Charming), и его заглавный трек стал хитом номер один[394]. Работая с Малькомом Маклареном, менеджером панк-рок-группы Sex Pistols, Адам Ант (урожденный Стюарт Лесли Годдард) стал примером явления, которое позже стали называть «новым романтизмом». Его представления предлагали зрителям «шведский стол» проявлений мужественности. В видеоклипе на песню «Prince Charming» Ант предстает в образе Золушки-мужчины, такой уязвимый в своей грязной майке, которую волшебница-крестная (дородная стареющая блондинка Диана Дорс) превращает в сексуальный костюм денди-гусара. Он прибывает на бал в сверкающей низкой спортивной машине. Под гипнотические удары барабана Ант на люстре спускается к танцующим, а потом проходит через весь зал в обтягивающих серебряных кожаных штанах. Он целенаправленно подходит к большому зеркалу и разбивает его на кусочки. Кадры, в которых Ант предстает перед нами в образах Клинта Иствуда, Элиса Купера и Рудольфа Валентино, должны показать, из каких составляющих строятся многогранные представления современников о мужественности. В этом видео раскрывается культурная репрезентация гендера. Мужественность в нем самоуверенна, однако в ней есть место и для уязвимости: боязни быть осмеянным или страха женской прожорливости (уродливые сестры жадно поедают шоколадки в форме сердечек). Этот клип получился очень сильным и пришелся по вкусу как женской, так и мужской аудитории.
История Золушки переосмысляется снова и снова. В 2005-м Кеннет Брана адаптировал сюжет для киноремейка классического мультфильма 1950-х от Walt Disney. Авторы фильма переработали сюжет, впрочем остались близки к оригиналу: The Guardian сравнивает результат с «безвкусным», но «ярким, красивым и пахнущим лавандой пирожным» – лента привлекает исключительно своим старомодным романтизмом[395]. Но в последние десятилетия истории Золушек стали более жесткими: прекрасные принцы все реже спасают злополучных героинь, чтобы потом во веки вечные их защищать. С 1970-х произошло немало социальных изменений, в том числе подъем феминизма, уравнивание возможностей и изобретение более эффективных средств контрацепции. Все это позволило и женщинам, и мужчинам больше экспериментировать в отношениях. Теперь они чаще задумываются о том, какого именно партнера им хочется иметь да и хотят ли они вообще создавать длительные отношения[396]. Идея любви с первого взгляда стала казаться наивной. Когда повышается уровень образования женщин, они получают возможность себя обеспечивать, и образы Золушек и Спящих красавиц начинают перекраиваться – сказочные девушки становятся более решительными и скептически настроенными в отношении собственных мечтаний о принце.
Как и киноверсия «Принцессы-невесты» (The Princess Bride, 1987[397]), фильм «Чем дальше в лес…» (Into the Woods, 2014), основанный на сюжете одноименного бродвейского мюзикла, привносит в сказку элементы комедии[398]. В этой истории два принца: один влюбляется в Золушку, второй – в Спящую красавицу. Оба они нарциссы, озабоченные в первую очередь собственными любовными страданиями. Кульминация фильма – эпизод, в котором принцы, взбираясь на водопад, сдирают с себя рубашки, обнажают шикарные загорелые тела и при этом мелодраматично, соревнуясь друг с другом, поют о своих тревогах (по сценарию эта песня называется «Агония»). Мечты о любви с первого взгляда и на всю жизнь оказались пустыми: счастливого «жили-поживали и добра наживали» просто не существует. Принц Спящей красавицы вскоре начинает изменять своей возлюбленной. Она возмущается, но принцу все равно. «Меня воспитывали быть прекрасным, а не искренним», – нежно отвечает он.
5
Темные принцы, таинственные чужеземцы
Любовники из пустынь, преступники и вампиры
В 1959 году Дафна дю Морье опубликовала рассказ под названием «Опасный мужчина» (The Menace). Его главный герой – стареющая кинозвезда. Писательница объясняла: «На жаргоне киношников, а еще чаще у женщин, “опасный мужчина” значит сердцеед, любовник, человек с широкими плечами и вообще без бедер»[399]. Дю Морье всегда интересовало, что же привлекает женщин в мужчинах, и в этом рассказе она исследует стиль мужественности, который делал ее воображаемую кинозвезду, Бэрри Джинза, таким горячим в глазах поклонниц. Отчасти его успех обусловливался внешностью. «Но самое главное – у Бэрри был рот твердый и решительный, а под ним квадратная челюсть с ямкой на подбородке, сводившей с ума миллионы людей»[400]. Бэрри Джинз был немногословен, не любил общаться с женщинами и имел привычку натягивать на глаза свою мягкую фетровую шляпу. В его образе считываются отсылки к Джеймсу Кэгни, Джеймсу Мэйсону и Хамфри Богарту. Бэрри Джинз – эдакий мужчина в кубе, которого не обошла стороной мода на бифштексы с кровью, сон нагишом и прогулки в снегопад без пальто. Все повествование посвящено препарированию его суровой мужественности. В «реальной жизни» Бэрри живет под каблуком у суровой жены, которая контролирует его расписание и режим. Дю Морье задавалась вопросом: чем же была обусловлена мода на таких необщительных кинозвезд в межвоенные годы? Было ли мужчинам комфортнее держаться от женщин на расстоянии, отказываясь от ответственности за все заботы и сентиментальных ухаживаний? В истории дю Морье новые кинотехнологии – сенсорные программы, или «сенси», – регистрируют падение жизненных сил и сексуальной привлекательности Бэрри. Его спонсоры и пиар-отдел в панике, они пичкают беднягу стимуляторами, но ничего не помогает. В конце концов нужное воодушевление – что-то вроде психологической виагры – появляется из неожиданного и обыденного источника.
Дафна дю Морье выросла в театрально-литературной среде, а потому прекрасно знала подноготную мужественных образов. Воображение ее деда, Джорджа дю Морье, явило на свет наивного и преданного любовника Питера Иббетсона, а также манипулятора Свенгали[401]. Ее отец Джеральд, актер и менеджер, был любимцем женской аудитории[402]. Отношения в семье дю Морье были очень близкими и эмоционально сложными, члены семьи часто пользовались особым, известным только им одним кодовым языком. Маргарет Форстер, биограф Дафны, рассказывает, что под словосочетанием «опасный мужчина» писательница всегда подразумевала героя с определенной сексуальной привлекательностью[403]. «Пугающе опасный мужчина», соответственно, обладал сильной, внушающей тревогу привлекательностью.
Опасные мужчины действительно обладают особой сексуальностью. Известное описание Байрона, которое дала леди Каролина Лэм, пережило столетия, потому что оно лаконично и попадает прямо в точку. Она едва не сошла с ума от своей одержимости Байроном – во многом благодаря тому, что он был «злым сумасшедшим, с которым опасно иметь дело»[404]. Байронический герой задумчив и мрачен, он лелеет свою израненную чувственность и темные страсти, сочится тестостероном и очень привлекателен. Таков, например, Хитклифф из «Грозового перевала» Эмили Бронте, хотя его сложно в полной мере назвать героем – он слишком опасен в буквальном смысле слова, у него злые намерения. Мистера Рочестера из «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте с его распутным прошлым тоже можно отнести к типу опасного героя. Распутники казались особенно мужественными, крайне желанными, стоило им только в какой-то степени обуздать свои страсти и продемонстрировать потенциал к исправлению. Каждая женщина желает исправить распутника, считала Барбара Картленд, «каждая инстинктивно мечтает укротить дьявола чистотой своей любви»[405]. Картленд признавалась, что ее саму больше всего привлекали «высокие, темные и довольно трудные мужчины»[406]. Перевоспитать или поспособствовать изменению распутника в лучшую сторону мечтала и Кларисса Ричардсона, когда ее околдовал неразборчивый Ловелас. Однако реализовать эту мечту обычно получалось только у героинь текстов, авторами которых были женщины. В подобных произведениях девушки вдохновляли мужчин и управляли ими, поддерживая в самых сложных моментах. Таким образом мужественность превращалась в достижение, к которому приложила руку женщина. Так и в рассказе «Опасный мужчина» Дафны дю Морье: мужественность – это лишь отчасти выдумка, а отчасти результат работы целой группы помощников.
«Обольститель» (The Devil’s Cub), роман Джорджетт Хейер о неотразимом повесе, был впервые опубликован в 1932 году и с тех пор постоянно переиздавался[407]. Многие современные читатели считают роман лучшей из работ писательницы. Его главный герой, Доминик, маркиз Видаль, сын герцога Эйвона и его жены Леонии, персонажей более раннего романа Хейер («Тени былого»). Читателям дают понять, что у Эйвона была бурная молодость, но юный Видаль даже хуже отца. Он совершенно беспутен: много пьет, увлекается азартными играми и соблазняет женщин; любит жить в быстром темпе и еще быстрее водить. Он впервые предстает перед нами в первой главе, в сцене, где на его экипаж нападают разбойники. Видаль ловко бьет одного из них по голове и равнодушно бросает труп с проломленным черепом, чтобы не опоздать на вечеринку в Лондоне. Конечно же, Доминик ужасно красив. Волосы цвета воронова крыла, широкие плечи и рельефные ноги – просто находка для портного и камердинера, радость любимой мамочки[408]. Его заигрывания кажутся довольно безвредными, ведь пристает он только к распущенным женщинам классом ниже его. Доминик встречает свою половинку, энергичную Мэри Чаллонер, которая сначала пытается застрелить его, защищая свою честь, но постепенно учится любить его и управлять им. В ходе активного обсуждения «любимых героев Джорджетт Хейер», которое велось в интернете в 2012–2014 годах, некоторые читательницы признавались, что любили Видаля несмотря на его безрассудство и склонность к риску, а может быть, и из-за них[409]. Он – «герой, которому я очень и очень симпатизирую, хотя не должна бы», – написала читательница в одном из отзывов[410].
В романе «Нежданная любовь» (Venetia, 1958) Хейер погружается в исследование распутных байронических героев. Юную героиню романа, Венецию, представляют как девушку, которая
еще ни разу не была влюблена, и в двадцать пять лет ее надежды на пылкую страсть были весьма скромными. Единственным источником информации о романтической стороне жизни были книги, и если раньше она с уверенностью ожидала появления в своей жизни сэра Чарльза Грандисона, то здравый смысл очень быстро отучил ее от подобного оптимизма[411].
Читателей 1950-х такая характеристика героини не удивляла: в те годы возраст вступления в брак резко снизился. Молодые люди женились в совсем юном возрасте, и в двадцать пять лет девушки начинали волноваться о том, чтобы не остаться в старых девах[412]. Социальная жизнь Венеции скучна, у нее всего два невозможно «беспутных» ухажера: Эдвард Ярдли, унылый и стабильный мужчина, да Освальд Денни, слишком молодой мальчик, которому вскружил голову Байрон. Освальд укладывает волосы буйными прядями, повязывает вокруг шеи шелковые платки и упивается «темными страстями своей души»[413]. И Венеция, и автор относятся к нему терпеливо, с улыбкой. Чуть позже мы знакомимся с третьим мужчиной, лордом Деймрелем, владельцем соседнего поместья, где по рассказам местных жителей, постоянно происходят какие-нибудь распутства или стоит вульгарный шум. Здесь, по-видимому, до нас доносится эхо репутации самого лорда Байрона, известного своими шумными вечеринками в Ньюстедском аббатстве в начале 1800-х. Деймрель знакомится с Венецией неожиданно, когда та гуляет, собирая ежевику и наслаждаясь тишиной. Он высок и ладно сложен, «дерзок и вызывающ», едет на красивой серой лошади[414]. Его взгляд циничен, губы – как у байроновского Корсара – кривятся в улыбке. Он обвиняет Венецию в нарушении границы чужих владений, и та замирает на месте. А вот ее собаке, Фларри, мужчина тут же нравится[415]. Дальше сюжет развивается по правилам жанра, и вскоре у читателей не остается ни малейшего сомнения в том, что Деймрель будет единственным для Венеции.
Хейер умело играет со стандартными романтическими приемами и создает безупречную комедию нравов. Однако помимо этого она исследует стили мужественности, привлекательность байроновского прототипа как для мужчин, так и для женщин. Освальд только делает вид, что хочет быть похожим на Корсара, он это перерастет. Деймрелю же этот образ намного ближе. А вот его кузен и предполагаемый наследник Альфред – самый настоящий денди. В петлице он носит «цветок размером с капусту» и источает аромат масла для волос[416]. Но, что самое ужасное, на нем штаны «оттенка самой нежной примулы». Родственникам Деймреля, по-видимому, пришлось выбирать между «щеголем» и «повесой» в качестве наследника семейного состояния[417].
По законам жанра повесы должны меняться под влиянием девственниц с добрыми побуждениями, как бы неправдоподобно это ни звучало. Но Джорджетт Хейер пошла по иному пути. Венеция – персонаж проницательный. Она размышляет о двойных стандартах и о том, что мужчины и женщины по-разному переживают свою сексуальность; при этом девушка понимает, что некоторые женщины способны наслаждаться флиртом и даже рассматривать мужчин в качестве объектов желания. Ее мать – такая же светская женщина и просто игнорирует общественные нормы, которые мешают ей получать удовольствие. А может быть, целомудрие не всегда нужно считать главной добродетелью?[418] Привязанность Венеции к Деймрелю строится на дружбе, схожем чувстве юмора и физической привлекательности. Она смотрит на него сквозь розовые очки, но это не грозит ей опасностью. В любом случае, благодаря общению с Эдвардом Ярдли она поняла: слишком достойные люди бывают скучны. Она все ближе узнает Деймреля, начинает в него влюбляться и понимает, что «широкая осведомленность и доброта» мужчины дорогого стоят[419].
Привлекательность Байрона для современников отчасти определялась экзотикой, с которой был связан его образ. Экзотические образы в его стихах встречались постоянно. Широко известные портреты кисти Томаса Филипса изображают его в блистательном албанском платье и шелковом тюрбане красновато-коричневого цвета с золотом[420]. Байрон так радовался покупке этого костюма, что даже написал матери письмо, где назвал его «дивным». Поэт прекрасно понимал, какой у него сформировался образ, и знал, что этот костюм сделает его похожим одновременно на пирата-бербера и восточного султана[421].
Шарм чужаков намекал на другие миры: прошлые времена, все запретное и экзотическое; напоминал о восторге открытий и приключениях, связанных с воображаемым побегом от повседневности. По мере расширения британской экспансии в девятнадцатом веке привлекательность экзотики стала ощущаться на всех социальных уровнях. После смерти принца Альберта королева Виктория обнаружила, что ее привлекает мрачная и экзотическая фигура политика Бенджамина Дизраэли, англиканского неофита еврейского происхождения[422]. Воображение обоих будоражили истории Османской империи. Дизраэли называл Викторию своей «сказочной королевой», льстил ей титулом «императрицы Индии» и с рыцарским достоинством отправлялся в захватывающие дух внешнеполитические приключения[423]. Очарованная Виктория дарила ему примулы[424]. Когда в 1881-м Дизраэли умер, она прислала венок из примул с простой подписью: «Его любимые цветы»[425]. Привлекательностью еврейской экзотики пропитан роман Джордж Элиот «Даниэль Деронда» (Daniel Deronda, 1876). Молодой Деронда – красивый мужчина с таинственным прошлым, исключительной чувствительностью и неисчерпаемой моральной и духовной целостностью. Он относится к женщинам с уважением и стремится их защищать. Известные критики-мужчины вроде Генри Джеймса и Ф.Р. Ливиса не сочли этого героя романтичным[426].
Королева Виктория была близка и с Абдулом Каримом, мусульманином индийского происхождения, который служил при дворе с 1887 года. Он познакомился с королевой, когда ему было двадцать четыре года. Абдул был высок, строен и поразительно красив[427]. При первой встрече он поклонился и поцеловал ноги королевы. Он познакомил Викторию с карри, давал ей уроки урду и хинди. Королева называла его своим «мунши» (учителем или секретарем). Лаурицу Туксену она заказала написать портрет Карима маслом, а также заказала его портреты у художника-востоковеда Рудольфа Свободы и Генриха фон Ангели[428]. Такие близкие отношения между королевой и ее секретарем из Индии долгие годы провоцировали ревность и расистские комментарии, однако высоко ценились обоими участниками. Виктория была щедра с Каримом, одаривала его подарками и почестями. Когда королева умерла, Кариму по ее наказу было позволено присоединиться к похоронной процессии и видеть ее лежащей в гробу; однако после похорон Эдвард VII конфисковал у Карима все личные письма и выслал его[429].
Женщины разного общественного положения, скучающие в клетках домашнего хозяйства, мечтали о других мирах. Восток для жительниц Запада был плодородной почвой для фантазий – экзотический мир, в декорациях которого можно дать волю мечтам, находясь при этом на безопасном расстоянии. Королева Виктория никогда не бывала в Индии, хотя страстно коллекционировала индийские картины и произведения искусства и даже создала «комнату-Дурбар» в Осборн-Хаусе на побережье острова Уайт, декорирование которой доверили пенджабскому архитектору Бхаи Рам Сингху. Идея Востока вызывала в воображении мысли о сексуальном как у мужчин, так и у женщин: покладистые гурии и сексуальные рабы на заваленных подушками шелковых диванах, обитатели пустынь с ястребиным взглядом…
После смерти королевы Виктории подобные образы в кино и литературе стали появляться чаще и прорисовываться ярче. Шейх Э.М. Халл превратился в клише поп-культуры 1920–1930-х, однако свою мощь образ от этого не утратил. Э.М. Халл продолжила писать успешные романы в том же духе: «Сыновья шейха» (Sons of the Sheik, 1923), «Пустынный целитель» (The Desert Healer, 1925) и др. Луиза Жерар пошла по ее стопам и написала для издательства Mills and Boon книги «Раба султана» (A Sultan’s Slave, 1921) и «Сын Сахары» (Son of the Sahara, 1924). За следующие пятнадцать лет появилось огромное количество неизвестных писателей, публиковавших истории с подобными сюжетами в журналах вроде Peg’s Paper. Например, в 1939-м Peg’s Paper анонсировал «серию новых захватывающих публикаций» под названием «Зов Востока» (Call of East). На тот момент только вышла в свет «Невеста шейха» (Bride of a Sheik) – история об обреченной любви Джоан и «Ахмеда Бур Дина». Новый сюжет иллюстрировался изображением властной фигуры араба, возвышающейся над закованной в цепи девушкой. Ее волосы были уложены по последней моде, а соблазнительный свитерок идеально подходил к туфлям на высоком каблуке. «Он был безжалостен, он был прекрасен, – гласил слоган. – Она обожала его, но он родился на Востоке, а она – в Англии»[430]. Берберские и арабские костюмы стали новым символом мужественности, а мастерство верховой езды ценилось всегда. Шатры среди пустыни превратились в идеальные декорации для сцен пробуждения чувственности и знакомства с новыми, захватывающими дух удовольствиями. Очень важно было показать властность всех этих шейхов и принцев, доходившую иногда до того, что они заставляли своих женщин эти удовольствия получать. О дамской скромности придется позабыть, вряд ли кто-то обвинит вас в том, что вы поддались удовольствию. Очень важно также, что на самом деле контролировали все женщины – ведь мечтали-то именно они. Счастливый конец обычно был связан с тем, что у властного дикаря обнаруживались европейские или даже британские предки, происходило это обычно в самом конце книги. И хотя романы с представителями разных рас будоражили воображение читательниц, они редко заканчивались хорошо. Например, Ахмеда из «Невесты шейха» зарезала ревнивая рабыня Шелула, а Джоан в конце концов вернулась домой с крайне добропорядочным англичанином Дереком[431].
Одна из важных особенностей этого помешательства на Востоке – проекция желания на представителей небелых рас, которые представляются «другими», примитивными и экзотическими. С тех пор как в 1978-м Эдвард Саид опубликовал свой классический труд по этой теме, ученые вроде Билли Мелмана стали задаваться вопросом, почему мужчины и женщины ассоциируют Восток с разными вещами[432]. Австралийский ученый Сюй-Мин Део подробнейшим образом исследовала историю восточного романа, который возник еще в Средние века; а колониальная политика девятнадцатого века только подтолкнула его развитие[433]. В умах женщин политика в отношении воображения была многогранной и вмещала в себя как критику, так и восхваление патриархата. Западные женщины сочувствовали небелым женщинам в гаремах, жертвам ранних браков и индуистской традиции сати[434]. Но если мы разделим мужские и женские представления о темнокожих мужчинах, то уже не сможем обобщить, что западные люди считали их женственными. Белым женщинам зачастую казалось, что западные мужчины уступают любовникам из пустынь в чувственности и властной мужественности.
Сюй-Мин Део считает, что романы про шейхов стали менее популярны в 1930-х, однако потом снова завоевали свое место на книжных полках в 1970-х[435]. В Великобритании и США с новой силой расцвели мечты о налаженном быте – после ужасов войны в мечту превратилась даже простая домашняя гармония. Однако из общественного воображения любовники из пустынь полностью не пропадали никогда, и их образы иногда пробивались на поверхность, принимая весьма необычные формы. Например, в фильме «Каникулы в гареме» (Harum Scarum, 1965) Элвис Пресли слоняется по «Бабельстану» в бурнусе и с игриво завитыми под тюрбаном локонами. Он играет киноактера Джонни Тирона, решительно настроенного разрушить стереотип о восточных аутсайдерах. Герой Пресли влюбляется в прекрасную принцессу Шалимар[436].
Но покупатели любовных романов на массовом рынке Великобритании в 1960–1970-х изменились. Развивался туризм, и путешествия (по крайней мере, по Европе) стали доступны многим. Сногсшибательные итальянцы и испанцы стали конкурировать с арабами за место в любовных фантазиях женщин. Вайолет Уинспир, ставшая одной из самых популярных авторов издательства Mills and Boon в 1970-х, опубликовала книгу «Голубой жасмин» (Blue Jasmine, 1969). Это был один из первых ее романов. По сюжету героиня влюбляется в Касима бен Хусейна. Текст во многом был вдохновлен работами Э.М. Халл. Но в «Павлиньем дворце» (Palace of the Peacocks), другом успешном романе из раннего творчества Уинспир, привычные горизонты расширились и местом действия стал остров Ява[437]. Во многих последующих романах Уинспир герои имели европейское происхождение (например, в сагах про семьи Стефано, Романо и Мавраки). Интересно, что сама писательница жила в Саутенде и никогда в жизни не выезжала за пределы Великобритании[438].
В 1980–1990-е романы о пустынях пережили своеобразную эпоху возрождения, особенно на американском рынке – на фоне растущей политической нестабильности на Ближнем Востоке, международной напряженности и зависимости Запада от нефти. Сюй-Мин Део пишет, что романы Барбары Фейт – «Невеста бедуина» (Bedouin Bride), «Песнь пустыни» (Desert Song, 1984), «Пустынный песок» (Flower of the Desert, 1986), «Пустынный лев» (Lion of the Desert) и «Мужчина пустыни» (Desert Man, 1994) – по сути своей стали переосмыслением сюжетов и образов, связанных с Востоком. Фейт, по крайней мере в некоторой степени, оспаривала идею женского бессилия и изображала мусульманские семейные ценности в позитивном ключе[439]. Она предполагала, что художественная литература помогает менять американские стереотипы в отношении мусульманской культуры, основанные на представлении об арабах-злодеях[440].
Аналогичным образом можно оценить и работу английской писательницы Пенни Джордан, роман «Добыча ястреба» (Falcon’s Prey, 1982), опубликованный в издательстве Mills and Boon[441]. В этой истории героиня Фелиция связывается с относительно европеизированным арабом, Файсалом, но в итоге влюбляется в его дядю, шейха Рашида, который в отличие от племянника сохраняет верность традициям. Книга исследует различия в западных и восточных семьях, ценности и принятое в культуре отношение к женщинам. Автор создает образ большой семьи с Ближнего Востока, которая гарантирует своим членам защиту, но также и контролирует женщин. Однако в конце повествования побеждает клише: надменный и чрезмерно мужественный араб подчиняется любви относительно невинной европейской героини. По ходу книги Рашида раз пятнадцать называют «сардоническим» персонажем – это, пожалуй, самое заезженное определение в лексиконе писателей любовных романов. В невероятно успешном романе Ширли Конран «Кружево» (Lace, 1982) тоже присутствует араб, Абдулла, принц Сидона. Это богатый и невероятно привлекательный, но довольно пугающий герой с очень своеобразным эротизмом: его воображение и навыки как будто созданы для того, чтобы доставлять женщинам удовольствие[442]. Но на этом стереотипы заканчиваются, и счастливого конца не получается. Благодаря тому, что в «Кружеве» болезненное получение женщиной сексуальных знаний происходит в атмосфере независимости и эгоизма, роман получил статус «феминистского сексуального блокбастера»[443].
Но и у фантазий об экзотических темнокожих любовниках на киноэкранах и страницах любовных романов были определенные ограничения. В первую очередь они были связаны с тем, что создавались в основном для белых женщин: в западной культуре женщины с черной или даже не белой кожей редко выступали в роли сексуальных субъектов. Издательская компания Harlequin Enterprises в 2005 году создала дочернее отделение Kimani Press, основным направлением работы которого должен был стать выпуск книг со «сложными, душевными и чувственными афроамериканскими и мультикультурными героями и героинями». Уже в 2006-м Kimani выпустил первые любовные романы[444]. Но в двадцатом веке романтика и экзотическая расовая принадлежность редко пересекались, а если это происходило, то в основном подвергалось сильной стилизации – даже в воображении. В начале 1900-х задумчивый и прекрасный американский актер японского происхождения Сэссю Хаякава переживал, что его постоянно брали на однотипные роли экзотических злодеев или запретных любовников[445]. Романы с бронзовокожими арабами были очень эффектны, хотя (по крайней мере в первой половине века) у подобных любовных историй счастливый конец мог быть только в случае, если у мужчины обнаруживались западные предки. Шейх Э.М. Халл, как мы помним, оказался «потерянным» сыном английского лорда Гленкарилла[446]. Индийские принцы и раджи тоже подходили на роль романтических героев, если были достаточно богаты и разделяли традиционные для Британской империи ценности. Например, у них могло быть европейское образование, полученное в Итоне, Оксфорде или Кембридже.
Привлекательность образа жизни женщин, ищущих приключений и вступавших в крайне нетрадиционные отношения, стала очевидной после того, как книга Лесли Бланч «К диким берегам любви» (The Wilder Shores of Love, 1954) добилась невероятного успеха на литературном рынке[447]. Сюжет повествует о жизнях и желаниях четырех женщин: Изабель Бартон, Джейн Дигби, Эмми Дюбюк де Ривери и Изабель Эберхардт. Каждая из них обретает страсть и удовлетворение в путешествиях по Северной Африке и Ближнему Востоку. Жизнь Джейн Дигби стала олицетворением лучших романов о пустынях. В 1824 году она выходит замуж за английского аристократа и получает титул леди Элленборо. Ее жизнь полна сексуальных приключений, и это еще мягко сказано: она только и успевала менять любовников, в ряды которых попали даже баварский король Людовик I и бандит-герой, участник греческой революции. В свои сорок шесть Джейн все еще очень красива. Она отправляется в Сирию, где влюбляется в шейха Абдуллу Меджуэля эль Мезраба. Хотя Меджуэль на двадцать лет моложе Джейн, они заключают брак. Оставшуюся часть жизни Джейн в основном проводит на вилле, которую построила в Дамаске, или в шатрах посреди пустыни в компании своего возлюбленного кочевника Меджуэля. Их роман длится двадцать восемь лет, пока в 1881-м Джейн не умирает[448].
Героев с коричневой кожей публика еще принимала, а вот африканские образы чернокожих мужчин скорее пугали. Иными словами, оттенок кожи имел значение: между приятной экзотикой и недопустимой примитивностью лежала хорошо различимая граница. Феноменально успешная книга Эдгара Райса Берроуза «Тарзан, приемыш обезьян» (Tarzan of the Apes, 1914), экранизированная в 1918-м, обыгрывает идею белого человека, выращенного обезьянами, мужественность которого сформировалась в джунглях (Тарзан на самом деле был потерянным сыном английского лорда Грейстока). Его врагом становится Теркоз, непокорный самец черной обезьяны, который пытается похитить и изнасиловать белокожую Джейн[449]. Спасение белой женщины из лап черного соблазнителя – распространенная тема дешевых романов того периода. Немало подробностей в этот образ привнесли иллюстраторы книжных обложек. Так, на раннем издании книги «Любовь в джунглях» (Jungle Love) Луизы Жерар темнокожий африканец в одной набедренной повязке склоняется над лежащей без чувств белой красавицей-англичанкой[450]. Подобные образы вплелись и в фильм «Кинг-Конг», вышедший в 1933 году, хотя действие происходило на острове Черепа, а не в темных районах Африки[451]. Сила темной мужественности кажется угрожающей, одновременно пугает и привлекает. Вплоть до 1950-х и даже до начала 1960-х упоминание о Конго скорее вызвало бы ассоциации с барабанами, каучуковыми деревьями и сексом[452].
Сам факт привлекательности черных мужчин для белых женщин почти всегда вызывал социальное недовольство, особенно в первой половине двадцатого века. Безусловно, проекции и запреты стимулировали друг друга, только подливая масла в огонь сплетен и скандалов. Слухи о романах между богатыми – и сексуально свободными – белыми женщинами и черными знаменитостями распространялись как пожар. Певца Пола Робсона постоянно преследовали слухи о романах с Нэнси Канард и Эдвиной Маунтбеттен[453]. Нэнси Канард, влюбленная в чернокожего американского джазового музыканта Генри Кроудера, в 1931-м опубликовала эссе под названием «Черный мужчина и белая леди», в котором осуждала расизм (особенно со стороны ее собственной матери)[454]. Ходили слухи, что в 1930-х певец кабаре Лесли Хатчинсон, родившийся в Гренаде и ставший одной из главных звезд Великобритании в межвоенные годы, встречался с Эдвиной Маунтбеттен[455]. Невероятно привлекательный и обходительный «Хатч» был любимцем широкой публики, причем не только женской. Но ставки в подобных отношениях были высоки: их отрицали, скрывали, по их поводу подавали в суд за клевету[456]. Знаменитые романы, например отношения Серетсе Кхамы, сына главы племени бамангвато, который жил в Бечуаналенде, в то время находившемся под британским протекторатом, и англичанки Рут Уильямс в 1940-х (в 1948-м они поженились), пугали международное сообщество и жестко критиковались[457]. Обычные мужчины и женщины вроде молодой британки, влюбившейся в афроамериканского военнослужащего, с которым она встретилась в годы Второй мировой войны, тоже вынуждены были бороться с враждебностью и неодобрением. Подобные трудности отражались в фильмах того времени: они были выстроены вокруг проблем, связанных с межрасовыми отношениями. И все же в формат любовного романа того времени они не вписывались – ни в литературе, ни в кино[458].
Романтический флер окутывал образы не только иностранных принцев и смуглых чужестранцев – изгоев и преступников тоже романтизировали. Пираты и разбойники с подчеркнуто злобным характером постоянно появлялись в популярных любовных романах. Сюжет «Корсара» (Corsair, 1814) Байрона основывается на легендах о пиратах с варварских берегов шестнадцатого века. В семнадцатом и восемнадцатом веках пиратство процветало на вест-индских территориях, все шире распространялись истории о приключениях Черной Бороды (Эдварда Тича). Согласно некоторым описаниям, Черная Борода был высок, носил сапоги по колено и яркие костюмы из шелка и бархата. Он отрастил пышную черную бороду, в которую вплетал разноцветные ленты. Конрад, корсар Байрона, поражен «чернотой густых кудрей» и высокомерным изгибом губ. Этот образ – во многом результат его самопрезентации: «В его ухмылке Дьявол сам смеялся»[459]. Неподражаемая игра Эррола Флинна в «Одиссее капитана Блада» (Captain Blood, 1935) легла в основу нового типажа: мужчины непреодолимо красивого, поразительно гибкого, с прекрасными волосами, подстриженными под пажа, а не в стиле Греты Гарбо. Питер Блад в исполнении Флинна – идеальный романтический герой, полный достоинства и чтящий демократические ценности[460]. Придуманный Дафной дю Морье пират из «Французова ручья» (Frenchman’s Creek, 1941) Жан-Бенуа Обери – еще один пример совершенства: бесстрашный, лихой, образованный. У него утонченный вкус, он отлично рисует и увлеченно изучает жизнь птиц[461]. Герои-пираты хорохорились, хулиганили и соблазняли дам на протяжении веков. Джонни Депп достиг феноменального успеха в фильме «Пираты Карибского моря» (Pirates of the Caribbean, 2003) и его сиквелах, где он исполнил роль активно жестикулирующего капитана Джека Воробья. У него подведены глаза, зубы сверкают золотом, а в волосы вплетены кусочки оленьих костей. В исполнении роли Джека Воробья актер был вдохновлен множеством легенд. Известно, что Депп изучал образ Кита Ричардса, стареющей рок-звезды из группы The Rolling Stones[462]. Но и намеки на Черную Бороду заметны невооруженным глазом – например, заплетенная в бороде косичка[463].
Разбойники обладали не меньшей привлекательностью. В «Ньюгетском справочнике» (издание было выпущено в девятнадцатом веке как пример поучительной литературы) было полно подробностей о жизни людей, преступивших закон[464]. Среди разбойников особенно выделялся Клод Дюваль, которого называли «идеалом романтических леди». Француз Дюваль в семнадцатом веке наделал немало шума регулярными нападениями на дилижансы в окрестностях Лондона. В многочисленных историях о его преступных подвигах, которые сегодня мы назвали бы городскими легендами, периодически обращалось внимание на отличные манеры прославленного вора. Рассказывали, что когда в 1670 году Дюваля поймали, приговорили к смерти и повесили в Тайберне, его оплакивали толпы женщин. Эпитафия, выгравированная на его надгробии из белого мрамора, гласит:
- Здесь покоится Дюваль. Читающий, если ты мужчина,
- Опасайся за кошелек; если женщина – за сердце.
- Много бед натворил этот человек; всех
- Мужчин заставлял он вставать, а женщин – падать;
- Здесь покоится второй завоеватель-нормандец,
- Мужчины уступали его оружию, а женщины – губам.
- Старая слава Тайберна, самый лихой вор Англии,
- Дюваль, радость дам! Дюваль, горе дам[465].
Девятнадцатилетняя Джорджетт Хейер написала свой первый роман, «Черный мотылек» (The Black Moth, 1921), о лорде Джеке Карстерзе, молодом аристократе, который благородно взял на себя ответственность за поступки своего младшего брата-обманщика, из-за чего оказался в изгнании и стал разбойником[466].
1940-е стали своего рода золотым временем для разбойников в искусстве. В книге «Навеки твоя Эмбер» Кэтлин Уинзор есть герой по имени Черный Джек Маллард, который спасает Эмбер из Ньюгетской тюрьмы. Джек – разбойник, телосложением и нарядами напоминающий пирата Черную Бороду: огромный мускулистый мужчина с длинными черными вьющимися волосами. Поверх грязноватой белой рубашки с кружевом он носит голубой бархатный костюм, на поясе, рукавах и плечах украшенный атласными лентами цвета граната. Золотые кольца в ушах не делают его пижоном, а только подчеркивают его «почти угрожающую мужественность»[467]. В следующем году на свет появились новые герои: Джеймс Мэйсон сыграл роль учтивого сардонического разбойника, капитана Джерри Джексона, в «Злой леди» (The Wicked Lady, 1945), экранизации романа Магдален Кинг-Холл «Скелет злой леди» (The Wicked Lady Skeleton)[468]. Джексону очень шла темная шляпа, украшенная яркими перьями, а бархатный голос делал его образ особенно угрожающим. Вскоре на экраны вышла киноверсия романа «Навеки твоя Эмбер», в которой Джон Рассел ярко сыграл Черного Джека Малларда[469]. Вьющиеся волосы, подкрученные усы и мужественный торс в плотном костюме с пуговицами и лентами – все это создавало весьма гармоничный образ.
Этот образ был узнаваем даже спустя сорок лет. В 1989 году актер Хью Грант снялся в фильме «Леди и разбойник» (The Lady and the Highwayman) производства компании Gainsborough Pictures. В основу сценария легла книга Барбары Картленд «Купидон в дамском седле» (Cupid Rides Pillion)[470]. Люциусу Вайну в исполнении Гранта, которому от природы достался аристократический голос и пышная копна волос, недоставало сардонических черт, даже несмотря на то, что актеру очень шли серебряные кружева. Намного ближе к исходному типажу оказался Адам Ант – может быть, он даже немного перестарался, – когда скакал с зеркалом в образе разбойника-денди в клипе на песню «Stand and Deliver», снятом в 1981-м.
Разбойники (и даже Хью Грант в образе Люциуса Вайна) привлекали своей храбростью: их лица не знали страха, даже когда их вели на виселицу. Таких героев всегда изображали галантными и безрассудными: объекты страстных желаний и даже в каком-то смысле примеры для подражания – так их видели читательницы и зрительницы. Истории о пиратках и разбойницах будоражили кровь женской аудитории, привыкшей к общественным нормам, согласно которым женственность должна сдерживаться в рамках пассивности, кротости и определяться ими[471]. Но, может быть, подобные истории особенно вдохновляли в военное время, когда женщинам нужно было вести себя по-другому, проявляя сообразительность и храбрость. Барбара Скелтон в «Злобной леди» по ночам переодевалась в разбойницу и охотилась на путешественников. Каждым своим действием она рушила общепринятые представления о женственности. «Испанские морские владения» (The Spanish Main, 1945) – приключенческий фильм о пиратах, который воздал должное Анне Бонни, легендарной пиратке семнадцатого века, имя которой часто упоминалось вместе с именем другой морской разбойницы и ее подруги, Мэри Ред[472]. Легко понять, почему книги и фильмы о жизнерадостных храбрых мужчинах и женщинах, подрывающих традиционные представления, плывущих против течения, так привлекали публику, особенно учитывая пережитые людьми ужасы первой половины 1940-х.
Миры вампиров, существ еще более неземных по сравнению с преступниками и жителями экзотических стран, предлагали публике образы темных принцев или сексуальных кровавых принцев. Вампир мог оказаться даже блондином с нордическим типом внешности – но все равно обладал пугающей темной силой. Корни вампирской литературы уходят в том числе в сербские и центральноевропейские сказки. Известно, что Байрон, Джон Уильям Полидори, Перси и Мэри Шелли любили развлекать друг друга пугающими историями о сверхъестественном во время отдыха летом 1816 года на вилле Диодати, расположенной на берегу Женевского озера[473]. Дракула Брэма Стокера (1897) привнес много нового в мир призраков, ужастиков и готических отсылок, который был довольно предсказуемым до тех пор, пока во второй половине прошлого века формула ужаса, наконец, не стала изменяться[474]. Новые писатели – Энн Райс, «Мэрилин Росс», Шарлин Харрис и Стефани Майер – очень сильно повлияли на мир мистического искусства. Они сделали жанр крайне популярным: на сегодняшний день «паранормальный роман» можно считать одним из самых процветающих направлений популярной художественной литературы[475].
Книги Энн Райс закрепили в массовом сознании образ «элегантного, трагичного и чувствительного» вампира – человека, который тяготится мыслями о природе добра и зла. При этом он отлично выглядит и со вкусом одевается. Вампиры стали модными и даже приблизились к статусу супергероев – поэтически настроенных. Придуманный Райс вампир Лестат де Лионкур из бесчинствующего аристократа превращается в рок-звезду[476]. Барнабас Коллинз, вампир из популярного американского сериала «Мрачные тени» (Dark Shadows, 1966–1971), был способен даже на бескорыстный героизм. А в последующих текстовых и кинематографических интерпретациях вампир Барнабас становится еще сексуальнее: в 2012-м в одноименном фильме его сыграл обожаемый молодежью Джонни Депп. Кассовые сборы фильмов с его участием были просто огромными, и журнал People дважды объявлял его «самым сексуальным мужчиной на свете»[477]. Поистине ненасытный аппетит к вампирской литературе обнаружился у девушек-подростков[478]. Но и женщин постарше не минула чаша сия. Вампир Эдвард Каллен, которого в экранизации саги Стефани Майер «Сумерки» (Twilight Saga) сыграл Роберт Паттинсон, заставил маяться от страсти женщин всех возрастов[479].
Чем же это можно объяснить? Безусловно, отчасти помешательство на вампирских героях можно списать на физическую привлекательность Тома Круза, Джонни Деппа и Роберта Паттинсона, однако это, безусловно, еще не все. Пытаясь объяснить притягательность вампира Каллена, британская журналистка Таня Голд написала: он представляет собой «возлюбленного, которого молодая девушка одновременно хочет и боится» и при этом мечтает спасти – что-то вроде «Эдварда Рочестера с клыками»[480]. Стивен Кинг, известный американский писатель, предположил, как мы уже упоминали ранее, что истории вроде «Сумерек» вовсе не о вампирах и оборотнях, они о том, как «любовь девушки может сделать хорошим плохого парня»[481]. Во многом он прав. Однако в то же время фантазии девушек о собственном превращении в вампирш связаны также и с обретением власти. Именно власти многим современным девушкам и женщинам до сих пор отчаянно не хватает. Любовник-вампир с телом пылкого молодого юноши со сверхъестественными способностями, который целиком и полностью поглощен любовью только к вам, может очень много дать. Власть и защиту, богатство, красоту, восхищение, вечную молодость, любовь и преданность… на веки вечные… о чем еще может мечтать девушка?
6
Родственные души
Близость, целостность, доверие
Воображаемая близость с вампиром позволяла молодым девушкам представлять власть и защищенность. Но не менее важной была идея близости как таковой, ведь даже само это слово является эвфемизмом сексуальных отношений. Историк Клэр Лангхамер доказывала, что в первой половине прошлого века в Великобритании именно «эмоциональная близость» стала считаться сутью «настоящей любви»[482]. До того поиск партнеров для брака был во многом задачей прагматичной. Но со временем понятие настоящей любви стало подразумевать страсть и самореализацию, а также дружбу и взаимную поддержку[483]. И некоторые женщины начали искать все это в мужчинах: партнер должен был оказаться родственной душой, второй половинкой. Подобный идеализм нередко вредил реальным отношениям: девушки не до конца понимали, как именно найти свою родственную душу. Уверенность в том, что можно вдруг влюбиться, заглянуть в глубины души возлюбленного и понять, что ваш союз идеален, далеко не всегда помогала разбираться с реальными трудностями длительных отношений.
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, термин «родственная душа»[484] впервые использовал Сэмюэл Тэйлор Кольридж, когда описывал союз, основанный на вполне практических соображениях: «У вас должна быть родственная душа – в делах домашних»[485], – писал он в письме, датированном 1822 годом. Но идеал навеки связанных возлюбленных, дополняющих друг друга, возник намного раньше[486]. Этот образ вдохновлял представителей «высокой» и «низкой» культуры в Викторианскую и Эдвардианскую эпохи, его использовали творцы от Джордж Элиот до Марии Корелли. «Что может быть важнее для двух человеческих душ, чем чувствовать, что они соединены навеки?» – пишет Элиот в романе «Адам Бид». Что может быть лучше, чем трудиться друг для друга, помогать друг другу и «слиться воедино в безмолвных невыразимых воспоминаниях в момент последнего прощания»?[487] Сюжет романов Марии Корелли, невероятно популярных в годы ее жизни, часто выстраивался вокруг поиска второй половинки, спутника на всю жизнь, – эдакое сентиментальное путешествие, которое иногда затрагивало потусторонние, астральные или трансцендентальные измерения.
Авторы современных исследований работ Корелли, Аннетт Федерико и Тереза Рэнсом, попытались объяснить, почему эта «королева викторианских бестселлеров» после смерти в 1924-м в одночасье потеряла расположение широкой публики, которая раньше буквально идеализировала писательницу[488]. В свое время Корелли была настоящей знаменитостью с подробно проработанным образом. Урожденная Мэри Маккей придумала романтичный псевдоним «Корелли» – он вызывал ассоциации с итальянскими графинями. Писательские гонорары позволяли ей вести стильную жизнь в Стратфорде-на-Эйвоне, где она любила плавать по реке на гондоле, выписанной из Венеции[489]. Как и некоторые другие авторы любовных романов, упомянутые в первой главе этой книги, Корелли много критиковали, даже несмотря на то, что ее романы – особенно «Роман двух миров» (A Romance of Two Worlds, 1886) и «Скорбь Сатаны» (The Sorrows of Satan, 1895) – полюбились даже видным общественным деятелям вроде королевы Виктории, принца Уэльского и Уильяма Гладстона, а также побили все рекорды продаж популярной художественной литературы[490]. Федерико считала, что работы Корелли стали считать постыдными из-за чрезмерной эмоциональности писательницы; именно эту сентиментальность со временем признали непотребной и глупой[491]. Историкам эмоций нужно с особенным вниманием относиться к подобным изменениям.
Самые популярные в свое время романы помогают отследить изменения ценностей и представлений о чувственности. Можно выделить два текста, которые особенно повлияли на формирование романтических идей о родственных душах до и после Первой мировой войны: это «Питер Иббетсон» (Peter Ibbetson, 1891) Джорджа дю Морье и «Постоянная нимфа» (The Constant Nymph, 1924) Маргарет Кеннеди. «Питер Иббетсон» повествует о паре влюбленных, которые понравились друг другу еще в годы идиллического детства в Париже, но затем их пути разошлись. Обоим героям довелось пережить несчастья и неудачи. Встретившись снова уже взрослыми, они понимают: взаимное притяжение не ослабело. Но случается трагедия: Питер ввязывается в борьбу со злобным дядюшкой, который оскорбляет его мать и компрометирует подругу. Дядя умирает, и Питер попадает под суд за убийство. Несмотря на вынесенный вердикт о невиновности, его приговаривают к пожизненному заключению в психиатрической больнице. Однако именно в этот момент в романе начинается настоящая жизнь и зарождается счастье Питера. Он и его возлюбленная Мэри (Мимзи) выдумывают себе волшебный мир: она становится феей из детской книжки, а он – ее прекрасным принцем[492]. Воображаемая жизнь влюбленных богата событиями: они путешествуют и вместе исследуют мир, возвращаются в прошлое – в счастливые детские годы и даже в иные столетия, чтобы наблюдать за жизнью своих предков. «Долгая и счастливая выдуманная жизнь становится реальнее самой реальности», и это устраивает обоих возлюбленных. Но несколько лет спустя Мэри погибает в аварии. Приближаясь к завершению собственной жизни, Питер описывает свое странное убеждение: «Я точно знаю одно – у всех нас все будет хорошо»[493]. Как бы странно это ни звучало для современных читателей, роман «Питер Иббетсон» – произведение, несомненно, неплохое и трогательное. Автор раскрывает перед читателями целый мир романтических мечтаний, сплетение душ, агонию потери – а в конце даже находит некоторое утешение.
Роман «Постоянная нимфа» Маргарет Кеннеди также рассказывает о несчастливой судьбе двух влюбленных родственных душ[494]. Главная героиня истории, Тесса, влюблена в Льюиса Додда, музыканта намного старше ее. Додд женился на ее кузине, но брак этот несчастлив: Додд богемен, а его жена буржуазна. Свежесть и невинность Тессы вдохновляют и трогают мужчину. Влюбленные сговариваются и сбегают. Многие читатели в 1920-х, да и сегодня тоже, признавали, что испытали облегчение от того, что Тесса умирает прежде, чем отношения двух родственных душ переходят на физический уровень. Это вроде как морально освобождает Додда от ответственности. Но близость героев описана так убедительно, что кажется: отношения этих людей выше желаний плоти и телесных забот.
В 1917 году «Питера Иббетсона» переосмыслили создатели бродвейской пьесы, главные роли в которой исполнили Джон и Лайонел Берримор и Констанс Колльер. Джону Берримору не нравилось играть Иббетсона – он считал этого персонажа «слабаком», хотя публика высоко оценила его игру[495]. Позже вышли две киноверсии романа: «Навсегда» (Forever, 1921) с любимцем женщин Уоллесом Рейдом в главной роли; и «Питер Иббетсон» (Peter Ibbetson, 1935) с Гэри Купером[496]. «Постоянную нимфу» поставили в лондонском театре в 1926-м; экранизации истории выходили в 1928-м, 1933-м и 1943-м[497]. Оба сюжета находили отклик в сердцах зрителей, особенно тех, кто потерял любимых во время войны. Печальные истории об обреченной любви, о неутихающей и в какой-то степени даже трансцендентной страсти особенно привлекали аудиторию в межвоенные годы. Они предлагали своего рода духовное утешение.
Меланхолическая красота покорителя женских сердец Айвора Новелло идеально подошла для роли Льюиса Додда[498]. В этот раз Новелло превзошел сам себя, изобразив муки мужчины, объекта и жертвы сексуальных желаний, еще выразительнее, чем в трех своих предыдущих фильмах. Он также сыграл графа Витторио Дандоло в фильме Адриана Брунела «Мужчина без желаний» (The Man without Desire, 1923); по сюжету ленты его леди Леонора, родная душа, вторая половинка, погибла – и он мучается от потери[499]. От горя Дандоло впадает в состояние безжизненного оцепенения, однако не умирает и приходит в себя двести лет спустя – чтобы заново открыть любовь с Женеврой, потомком Леоноры (она выглядит как сестра-близнец Леоноры). Но если Леоноре в первую очередь нужен был друг, а не любовник, то Женевра – девушка современная, а значит более телесная. Однако Дандоло, к сожалению, оказывается импотентом. Похожий эротизм – беспомощный и пассивный – Новелло изобразил в 1927 году в двух фильмах Хичкока, «По наклонной» (Downhill) и «Жилец» (The Lodger)[500]. В первом из них он сыграл идеального студента Родди Бервика. Мейбл, дерзкая рабочая девушка, официантка в местной кондитерской, несправедливо обвиняет Родди в сексуальных домогательствах. Кодекс чести джентльмена не позволяет Родди сказать, что на самом деле во всем виноват его лучший друг. Родди исключают из университета, его сердце разбивается от мысли о том, что ему никогда не удастся сыграть в регби в команде старших товарищей. С этого момента, как подсказывает нам название фильма, парень катится по наклонной: его жизнь заполняют алкоголь, апатия и женщины. Публика оценила и его исполнение роли таинственного беспокойного Адониса, также подозреваемого в насилии, которого он не совершал. Вполне естественно, что именно Айвора Новелло Адриан Брунел пригласил сниматься в «Постоянную нимфу» в 1928-м. Никто не умел изображать таинственную чувственность и страдания так, как это делал Новелло с его темными выразительными глазами, горевшими на фоне белоснежной кожи.
В 1920-х популярность Новелло среди женщин настолько выросла, что, по крайней мере в Великобритании, он занял второе место в списке известных сердцеедов – сразу после Валентино[501]. В фильме «Крыса» (The Rat, 1925) Новелло исполнил роль парижского плохиша Пьера Бушерона с каким-то особенным темным эротизмом. Кроме того, пресса искусно полировала его образ, обыгрывая его способность понимать женщин и скрывая его гомосексуальность[502]. Так, в 1925 году газета Daily Mirror разместила рекламу нового журнала для девушек, Joy, «еженедельника о любви и юморе» от издательства Amalgamated Press[503]. Читательницам предлагали присылать свои фотографии, чтобы Айвор Новелло оценил их привлекательность. Каждая девушка, приславшая снимок, получила бы подписанный самим Новелло диплом, в котором бы определялось, «к какому типу красоты относилась ее внешность». Участницам также обещали денежные призы, а 300 счастливиц, больше всего походивших на идеал Айвора, получили бы шелковое нижнее белье. Читательниц уверяли, что возраст не имеет значения. Иллюстрировалось это объявление странным коллажем, на котором отделенная от тела голова Айвора была окружена девушками с нетерпеливо протянутыми руками[504].
В экранизации «Питера Иббетсона» режиссера Генри Хэтэуэя Гэри Куперу потребовалось приложить намного больше усилий, чтобы изобразить душевность и вечную любовь. Он не был создан для образа страдающего рокового мужчины. Если глаза Новелло сами собой наливались слезами, а тело будто ослабевало от беспомощности перед ударами судьбы, то Куперу были свойственны скорее живые и легкие движения. Поговаривали, что Купер даже считал: его зря выбрали на роль Питера Иббетсона. Тем не менее благодаря слаженной работе команды фильм добился успеха у зрителей[505]. В самом начале фильма мы видим титры на фоне чистейших прудов и плакучих ив. Сады и полные света горные луга намекают на чувственность и духовность. Сильное впечатление производит актерский тандем обходительного Купера и Энн Хардинг в роли Мэри, которая сохраняет хладнокровие даже в лентах, кудряшках и хрустальных блестках. Любовь и мечты молодой пары, возникшие перед лицом жестокой судьбы и мирских сложностей, одновременно трогательны и мучительны – именно так отзывались о фильме в 1930-х, и интернет-комментарии современных зрителей указывают, что сегодня ничего не изменилось[506]. Вера в жизнь души после смерти тела, вера в любовь, которая никогда не умирает, утешает многих.
Кто не мечтал о родственной душе, обычно представлял близость с человеком, который сумел бы по-настоящему его понять. Поколения девушек фантазировали, как будут вести глубокие беседы о смысле жизни с человеком, который отнесется к ним как отец-исповедник или священник, с сочувствием к выпавшим на их долю трудностям. Безусловно, эта фантазия была особенно популярна среди сельских девушек, в окружении которых едва ли были образованные люди (не считая викария). Женские секреты доверялись священникам в интимной атмосфере исповеди. Предполагалось, что человек со статусом священника или служителя церкви не представляет для женщины опасности, уважительно к ней относится и разбирается в безднах человеческой души. И молодые женщины ценили эти качества, позволявшие доверять мужчине.
Обет безбрачия не гасил, а скорее наоборот, поддерживал огонь фантазий о нарушении правил. Сюжет бестселлера австралийской писательницы Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» (The Thorn Birds, 1977) выстроен вокруг любви Мэгги Клири к красивому священнику Ральфу де Брикассару[507]. Когда нас впервые знакомят с Ральфом, его называют «красивым» мужчиной с утонченными «аристократическими» чертами и свободно вьющимися черными волосами. Богатая вдова Мэри Карсон думает, что он «чародей» – священник ей чертовски нравится, но она понимает, что слишком стара для него. Тем не менее она флиртует с ним, думая: «Любопытно, очень многие священнослужители прекрасны, как Адонис, и влекут к себе женщин неодолимо, как Дон Жуан. Быть может, они потому и дают обет безбрачия, что боятся – не довело бы до беды такое обаяние?»[508] Но Ральф еще и умен, и мысли его так же изящны, как и внешность. Он знает, что «любой священник младше пятидесяти привлекает внимание томящихся от любви девушек», но шестидесятилетняя вдова не внушает ему опасений.
Мэгги Клири понравилась Ральфу, еще когда была маленькой девочкой. Он полагал, что ее молодость делает эту симпатию «безопасной». Но Мэри Карсон не так уверена в этом, и ее сомнения только усиливаются по мере того, как Мэгги становится подростком и сама влюбляется в священника. С годами их духовная близость только углубляется. Когда у Мэгги случается первая менструация, девушка пугается и решает просто игнорировать изменения, происходящие с ее телом. Именно Ральф рассказывает ей о половой жизни[509]. Их отношения становятся все опаснее. Маккалоу знала, что делала, создавая Ральфа Брикассара – идеальный объект женских фантазий. Он сногсшибателен в своих начищенных сапогах. Читательницы любуются его загаром и гибкостью, когда он предстает перед ними в шортах, и совсем теряют голову, представляя его в церковных одеяниях: в белом, в фиолетовом, в темно-красном. Верхом на лошади Ральф напоминает сказочного принца, а когда он оставляет своего скакуна, то разъезжает по округе на красных и серебряных спортивных машинах. Ральф чувствителен, крайне озабочен вопросами духовности, но его яркая и стильная мужественность выделяет его из рядов австралийских фермеров и животноводов – суровых мужчин, которые, как пишет автор, скорее будут спать на полу, чем на кроватях, словно мягкость матрасов угрожает их мужественности[510]. Ральф ведет «жестокую борьбу за душевную целостность и пытается подавить свои страстные желания усилием воли»[511]. Это позволяет Мэри выражать собственные сексуальные потребности, которые не удовлетворялись, потому что Ральф не изменял своим намерениям вернуться к карьере в Ватикане.
В мире продано больше 30 млн экземпляров «Поющих в терновнике». В 1983 году по роману сняли мини-сериал с Ричардом Чемберленом и Рэйчел Уорд в главных ролях, который также оказался весьма успешным. В 1970–1980-х Ричард Чемберлен был одним из главных сердцеедов Великобритании и Америки: он превосходно справлялся с ролями понимающих, душевных и чувствительных героев. Гомосексуальную ориентацию Чемберлена держали в строгом секрете до тех пор, пока много лет спустя он сам не рассказал о ней. В автобиографической книге «Разбитая любовь» (Shattered Love, 2003) Чемберлен объясняет, что доставшаяся ему роль обязывала его врать, и рассказывает, как это было сложно[512]. Даже искренность этого признания открывает публике его душу, становится свидетельством того, что настоящие мужчины могут быть искренними и честными. Популярности Чемберлена это признание не повредило.
Дирк Богард и Монтгомери Клифт еще до Чемберлена играли роли, в которых демонстрировалась способность мужчин к чувственному пониманию и честности. Часто этими качествами обладали персонажи-психотерапевты, «врачеватели умов», которые, как и священники, должны были разбираться в человеческих душах. Или же это были просто доктора, профессиональные исследователи разума и тела. Подобные профессии стали символом возможности духовной близости и высоких моральных стандартов, позволяли их обладателям выступать в роли женских советников и наставников. Например, в фильме «Внезапно, прошлым летом» (Suddenly, Last Summer, 1959), поставленном по пьесе Теннесси Уильямса, Монтгомери Клифт сыграл молодого талантливого нейрохирурга Джона Цукровича, знатока женских душ[513]. По сюжету речь идет о душе женщины по имени Кэтрин (в исполнении Элизабет Тейлор) со странными провалами в памяти. Помимо всего прочего, ее обижает богатая стареющая тетка Вайолет (Кэтрин Хепбёрн). Злобная тетка хочет, чтобы несчастной Кэтрин сделали лоботомию и та не смогла рассказать об ужасных обстоятельствах, при которых погиб сын-гомосексуалист Вайолет, Себастьян. Она пытается достичь своей цели взятками – предлагает госпиталю крупное пожертвование, если врачи согласятся сделать то, что ей нужно. Цукрович мужественно отказывается, демонстрируя тем самым свою чувствительность и глубокое понимание положения Кэтрин. Он – воплощение честности. «Доверься мне», – шепчет Цукрович, заглядывая героине в глаза и вкалывая «сыворотку правды», чтобы девушка смогла озвучить подавленные воспоминания. Конечно же, она доверяется ему, и в конце фильма, взявшись за руки, они вместе идут к светлому будущему большой любви и новых начинаний. Три года спустя Монтгомери Клифт снова сыграл врачевателя душ, но на этот раз ему досталась роль самого Зигмунда Фрейда в полубиографическом фильме Джона Хьюстона «Фрейд: Тайная страсть» (Freud: Thе Secret Passion, 1962)[514]. По сюжету он пытается помочь справиться с душевной агонией и сексуальным смятением Сесили Кортнер в исполнении блистательной Сюзанны Йорк – этот образ объединил черты реальных пациенток Фрейда, Доры и Анны О. Темные глаза Клифта смотрят почти пугающе, когда он пытается разобраться с проблемами Сесили – девочки-конфетки со взъерошенными волосами, кружевными пеньюарами и связанными с отцом комплексами. При всей сложности фильма (автором оригинального сценария был сам Жан-Поль Сартр) во время просмотра нелегко избавиться от мысли, что Свенгали лечит Брижит Бардо.
В любовных романах двадцатого века врачи особенно почитались. Если в фильме говорилось о наличии у героя медицинского образования, это только добавляло ему привлекательности. Зрители в 1935 году так симпатизировали капитану Бладу и считали его честным человеком в том числе и потому, что им сообщили: раньше герой Эррола Флинна был врачом, «целителем, а не убийцей», бескорыстно добрым человеком; пиратом же он стал только после того, как его незаслуженно обвинили в государственной измене[515]. В фильме кинокомпании 20th Century Fox «Пришли дожди» (The Rains Came, 1939) Тайрон Пауэр сыграл майора Раму Сафти, невероятно красивого военного врача, который помимо всего прочего оказался еще и индийским принцем[516]. Толстый слой бронзовой пудры позволяет ему изобразить предмет любовного интереса скучающей английской красавицы, леди Эдвины Эскет (в исполнении Мирны Лой), которая чувствует притяжение к этому «бледно-медному Аполлону» с первого же взгляда. Эдвину привлекают социальные и духовные ценности Сафти: он поэт и одновременно с этим миссионер. Выдуманный Ранчипур, где происходит действие фильма, страдает от землетрясений, наводнений и чумы. В фильме есть ужасающая сцена, которая символизирует катастрофический конец империи: огромная статуя королевы Виктории оказывается по горло погруженной в бушующие потоки воды. Столкнувшись с этими невзгодами, жаждущая любви Эдвина бескорыстно занимает место медсестры, чтобы помогать Сафти, но вскоре сама заболевает чумой и умирает, избежав тем самым трудностей, связанных с межрасовыми отношениями. Тайрон Пауэр практически тянул весь фильм на себе, вживаясь в образ шикарной мужественности под маской бронзового Аполлона: героя войны, бескорыстного хирурга, душевного советника, украшенного драгоценностями индийского принца. Его образ вышел за рамки представлений о мужчине мечты и стал воплощением объекта сексуальных желаний.
В 1950-х врачебные профессии в западном обществе стали ассоциироваться с финансовой обеспеченностью. Длительное медицинское образование стоило дорого, однако окупалось сторицей: высокими зарплатами, статусом в обществе и надежной карьерой[517]. Кроме того, в послевоенной Великобритании стремительно развивалась государственная система здравоохранения. В обществе, в котором все еще существовали ограничения в отношении женского высшего образования и экономической независимости, девушка с амбициями могла получить многое, если ей удавалось выйти замуж за врача. К такому жениху словно прилагались уважение, уютный дом и семейное счастье. В те годы заметно вырос интерес к так называемым медицинским романам. В 1954 году британский кинопродюсер Бетти Бокс выпустила невероятно успешный фильм «Доктор в доме» (Doctor in the House, 1954) с Дирком Богардом в роли юного студента-медика Саймона Спэрроу[518]. Фильм принес Богарду настоящую славу, сделал его «богом кинотеатров» – и создал новый тип романтического героя[519]. Опытные врачи могли казаться пугающими и замкнутыми, но молодые доктора нередко демонстрировали милую чувствительность и веселый настрой. Ну просто идеальные кандидаты в мужья! В фильме «Доктор в доме» немного неловкого Спэрроу решила очаровать игривая и напористая дочь его домовладелицы. Молодому человеку было стыдно, ведь девушка его совершенно не интересовала. Да и в любом случае она принадлежала к другому социальному классу. Но роман с молодым доктором в те времена считался выгодной инвестицией: даже по телевизору об этом говорили.
«Доктор в доме» добился больших успехов, вслед за оригинальным фильмом стали выходить сиквелы, теле- и радиосериалы[520]. Создатели многочисленных мыльных опер с радостью бросились капитализировать популярность медицинской тематики. В США вымышленный персонаж – доктор Джеймс Килдэр – впервые появился в романе Макса Брэнда (настоящее имя – Фредерик Шиллер Фауст) в 1930-х[521]. В дальнейшем этот образ использовали для создания нескольких фильмов, журнальных историй и других романов. Доктор Килдэр появляется в радиосериале в 1950-х и в телесериале в 1960-х, а с 1960-х по 1980-е периодически попадает на страницы комиксов. В 1960-х Ричард Чемберлен заработал статус главного любимца британских женщин именно благодаря своему перевоплощению в Килдэра[522]. Еще один популярный на британском телевидении сериал – «Реанимационная палата № 10» (1957–1967)[523]. Больничная атмосфера не потеряла популярности и в конце двадцатого века. Создавались новые успешные телесериалы: «Катастрофа» (Casualty) и «Холби Сити» (Holby City) в Великобритании; «Скорая помощь» (ER, 1994–2009) – мелодрама NBC, в которой Джордж Клуни сыграл доктора Дага Росса[524]. В подобных произведениях между докторами, медсестрами и медперсоналом постоянно разыгрываются романтические истории (конечно же, на фоне постоянной борьбы с человеческими несчастьями – болезнями, несчастными случаями и даже самой смертью).
Непреодолимое очарование типажа врача было во многом связано со способностью докторов понять физиологию тела и их особой чувствительностью к женщинам и детям. В 1950–1960-х тому появлялись явные свидетельства. «Великолепная одержимость» (Magnificent Obsession, 1954) – ремейк киноверсии ставшего бестселлером романа Ллойда Дугласа. Предыдущая версия фильма, которая вышла на экраны в 1935-м, превратила актера Роберта Тейлора в настоящую кинозвезду[525]. Почти то же самое произошло с Роком Хадсоном, сыгравшим в ремейке 1954 года чрезвычайно богатого и чрезвычайно красивого, но социально безответственного кутилу Боба Меррика, который вдруг осознал ошибочность своего образа жизни. Меррик становится ответственным и одаренным нейрохирургом, который способен творить социальные и медицинские чудеса. К женщине, которую он любит и за которую чувствует себя ответственным, он относится как мужская версия сказочной феи-крестной: осыпает подарками, охапками лилий и предложениями руки и сердца. Однако преданность Меррика пугает ее: женщина думает, что эта любовь выросла из жалости, ведь она потеряла зрение в аварии, к которой доктор имел косвенное отношение. Она ненадолго пропадает и серьезно заболевает. Меррик прилетает к ней и проводит операцию – настолько успешную, что не просто спасает возлюбленную, но и восстанавливает ее зрение.
Образ душевного красавца-доктора с высокой социальной ответственностью и почти магической силой стал настолько модным, что даже Элвису Пресли пришлось примерить его на себя. В фильме «Смена привычки» (Change of Habit, 1969) он сыграл врача христианской миссии, Джона Карпентера, который преданно работает ради улучшения жизни бедняков из городского гетто[526]. Ему решают помочь три католические монахини. Они полагают, что их лучше воспримут, если они наденут обычную одежду, и сменяют привычные облачения на мини-юбки. Карпентер поет, играет на гитаре и учит местных ребят музыке. Все его обожают, особенно девочки. С одной из монахинь, девушкой по имени Мишель в исполнении Мэри Тайлер Мур, у него завязываются отношения. Хотя Мишель по образованию логопед, она не знает, как помочь немой аутичной девочке. Не обращая внимания на навыки Мишель, Карпентер мужественно берется за решение проблемы с использованием новой «терапии снижения ярости». Для этого он заключает недовольную девочку в объятья и не отпускает, снова и снова повторяя, что любит ее, – пока ребенок, наконец, не поддается. Не удивительно, что эта сцена вызвала определенные вопросы у педиатров и детских психологов[527]. Но в фильме прием, конечно же, сработал: Карпентер совершает чудо. Мишель по уши влюбляется в доктора. На какое-то время они с Карпентером становятся для девочки мамочкой и папочкой, водят ее гулять на ярмарку и т. п. Карпентер, без сомнения, стал бы отличным мужем. Но Мишель разрывается между Господом, своими обетами и мессианским покорителем ее сердца, Карпентером. В последних сценах мы видим ее в церкви: Мишель слушает, как опрятно одетый Карпентер громко поет госпел «Давайте помолимся вместе». Бедная девушка не может понять, куда же ей смотреть: на Элвиса или на распятие.
Больницы выставлялись рассадником романтических историй и в фантазиях зрительниц превращались в охотничьи угодья для стремившихся к замужеству молодых девиц. Например, в журнале Romeo в 1957 году начали выпускать серию историй под многообещающим названием «Сестра Джанет и сорок холостяков» (Nurse Janet and the Forty Bachelors)[528]. Впервые любовный «медицинский» роман в издательстве Mills and Boon опубликовали еще в 1917-м – это была «Стажировка» (Days of Probation) Луизы Жерар[529]. Расцвет жанра пришелся на середину века, а к 1970-м годам издатели стали выделять его в отдельный перспективный поджанр. В середине века среди авторов медицинских романов блистали Кэролин Тренч, Элизабет Гилзин, Алекса Стюарт и Пегги Дерн (хотя, конечно же, полный список намного, намного длиннее). Историк Джозеф Макалер описал, как в 1950-х издатель Алан Бун пытался убедить некоторых самых успешных авторов попробовать себя в жанре медицинского романа, потому что спрос на такую литературу был огромным[530]. По оценкам историка, примерно четверть книг, опубликованных в Mills and Boon в 1957 году, можно отнести к романам типа «врач – медсестра». Не удивительно, что сексуальные забавы подростков в 1950–1960-х были играми в доктора и медсестру.
Определенным преимуществом обладали женщины, которым довелось поработать в больнице до того, как они выбрали писательскую карьеру: их знания и навыки помогали избежать глупых ошибок в описании медицинских подробностей. Дольше всего на олимпе медицинского романа продержалась Бетти Нилс (1909–2001). По образованию медсестра и акушерка, она много лет проработала в британских и голландских больницах, а писать начала только на пенсии[531]. Первая книга Нилс, «Сестра Питерс в Амстердаме» (Sister Peters in Amsterdam), была опубликована в 1969 году. Большую часть своих романов, от которых веяло «духом» пятидесятых, она написала в 1970–1980-х[532]. Ее книги читают до сих пор, и «ретро»-составляющая ее историй особенно привлекает читателей[533].
Обычно героинями Нилс становились честные трудолюбивые девушки, попавшие в трудные обстоятельства, – почти Золушки. От Золушки их отличала «обычная» внешность, благодаря которой читательницам было проще идентифицировать себя с героинями. Они редко оказывались худышками: многие женщины из романов Нилс высоки, полногруды, с широкой костью. Часто их формы называют «пышными». Один из ранних романов Нилс – «Амазонка в фартуке» (Amazon in an Apron), хотя позже его переименовали в «Голландскую медсестру» (Nurse in Holland). Возможно, издатель посчитал, что первая версия названия слишком сбивает с толку[534]. Мужских героев Нилс можно назвать ходячими стереотипами. Богатые, влиятельные доктора или хирурги с отличной интуицией, обычно голландцы по происхождению. Фанаты Нилс даже придумали для их обозначения аббревиатуру БГД – богатые голландские доктора[535]. Обычно эти герои носят неправдоподобные аристократические имена и титулы. Например, в книге «Сестра Питерс в Амстердаме» встречается барон профессор Конрад Бланкенар ван Эссен; в «Свадебном круизе» (Cruise to a Wedding, 1975) – барон Адам де Вольф ван Озинга; в «Охапке крапивы» (Grasp a Nettle, 1977) – профессор Эдуард ван Драак те Солендик; в «Британии в плавании» (Britannia all at Sea, 1978) – профессор Джейк Люитин ван Тин. Все эти мужчины были благородны и обязательно имели дорогие машины. Они управляли сверкающими «роллс-ройсами», которые шуршали гравием на подъезде к их шикарным домам. Некоторые предпочитали «бентли» или даже более экзотические машины марки Panther De Ville. Следить за их владениями помогали слуги, ну или по крайней мере экономки и дворецкие.
Книги Нилс запечатлели стремительно исчезающий мир. Как и сейчас, в последние десятилетия двадцатого века женщины читали ее романы, чтобы сбежать от повседневности и найти утешение. Чтение ее книг можно сравнить с заеданием стресса, так что не удивительно, что в них часто описывались приемы пищи. Героини Нилс постоянно готовили супчики, что-нибудь жарили и «не жалели сливок» на пудинг. В патриархальном мире Нилс богатые голландские доктора предлагали героиням защиту и возможность пользоваться классовыми привилегиями. До этого жизнь девушек и женщин нельзя было назвать модной: они самозабвенно трудились в мрачных клиниках или на ночных сменах в домах престарелых. Брак с богатым мужчиной классом выше давал им возможность убежать от нищеты и продемонстрировать свой потребительский вкус. Нилс часто одаряла своих героинь культурным капиталом: описывала, как те изучали античное или изобразительное искусство на книжных распродажах и аукционах антиквариата вместе с образованными, но разорившимися отцами или дядьями. Когда же богатые доктора, наконец, осознавали свою любовь к героиням, они немедля вручали им кредитки на шопинг в универмагах Harrods или Harvey Nichols.
Особую роль в медицинских романах Нилс играли честность и доверие – эти качества шли в комплекте с социальным классом и профессиональной этикой. Ее героини не искали родственные души – отношения, которые делали их счастливыми, основывались не на близости. Нет, для этого социальный разрыв между героями и героинями был слишком велик. Учитывая, каких ценностей придерживалась писательница и в какие времена она работала, не удивительно, что в ее книгах практически нет сексуальных сцен. Тем не менее мужчины – они ведь медики – демонстрировали ярко выраженное интуитивное понимание того, что творится в головах героинь. Идеальная романтическая история для Нилс целиком и полностью строилась на гендерных ролях и общих ценностях, среди которых – домашний очаг, быт и семейная жизнь (привилегированных классов общества). Ухаживая, ее герои постоянно говорят что-то вроде «Я заверну тебя в меха, дорогая»[536]. Подобные обещания не могли не растопить сердца женщин, обреченных вкалывать без каких бы то ни было перспектив.
В поп-культуре послевоенного мира общие ценности считались основой близости и доверия, именно на них строился семейный очаг. Героини Бетти Нилс осознавали, что все эти доктора на самом деле зависят от них, когда им приходилось вместе работать в кризисных ситуациях, заботиться о больных, занемогших детях и одиноких вдовах. В романах Джорджетт Хейер, выходивших в 1950–1960-х годах и посвященных эпохе Регентства, героям не раз приходилось раскрывать свое истинное лицо, когда семейному состоянию героинь начинали угрожать азартные игры или безрассудное поведение и мотовство младших братьев. Герои были старше и умнее, а потому могли мудро и щедро разрешать вопросы, связанные с поведением молодых людей, причем для этого редко приходилось вступать в открытый конфликт – обычно толерантности и проявления авторитета было достаточно для решения подобных вопросов. Предполагалось, что подобный отцовско-братский авторитет основывается на уважении к членам семьи и родственным связям. Например, в романе «Нежданная любовь» лорд Деймрель тактично и понимающе относится к брату Венеции, начитанному инвалиду Обри[537]. В романе «Котильон» (Cotillion, 1953) героиня Китти выстраивает крепкие братские отношения с Фредди и использует беднягу, полагаясь на его доброту и поддержку в решении практических вопросов[538]. При этом Китти тянет к кузену Джеку, миловидному повесе. Она принимает незаинтересованность фатоватого Фредди в женщинах как данность, ведь он сам признался, что «не стремится никому залезть под юбку». Но постепенно Китти понимает, что ее возлюбленный повеса – всего лишь эгоцентричный авантюрист, а добросердечный Фредди – бесценная находка, потому что на него можно целиком и полностью положиться.
Благоразумные рассуждения Хейер о ценности доверия и взаимозависимости, которые могут создать фундамент для счастливой семейной жизни, с годами только развивались. Так, в книге «Счастье по контракту» (A Civil Contract, 1961) попавший в финансовую передрягу джентльмен женится на физически непривлекательной дочери невероятно богатого и грубого деляги, намереваясь тем самым восстановить свое семейное состояние[539]. Хотя такое начало ничего хорошего не предвещает, паре удалось построить гармоничные отношения на основе взаимного уважения и заботы. Семья оказалась важнее индивидуальных потребностей и влечений.
В 1950-х о семейной жизни писали немало. Многие женщины, изможденные тяжелым трудом и экономией военного времени, мечтали жить в удобных «современных» домах[540]. Например, выставка «Идеальный дом», организованная газетой Daily Mail в 1957 году, привлекла около 1,5 млн посетителей[541]. В то время женщинам трудно было найти высокооплачиваемую работу, поэтому ставку приходилось делать на удачный брак с мужчиной, который мог обеспечить содержание идеального дома и создание идеальной семьи. Лучшими мужьями считались обладатели серьезных профессий: доктора, юристы и «коммерсанты» – достойные доверия честные мужчины, разделявшие семейные ценности. Неудивительно, что в те годы особой популярностью у женщин пользовались киноактеры, которые играли героев с подобным набором качеств: например, Рок Хадсон, Джеймс Стюарт, Генри Фонда и Грегори Пек.
Мужчинам, прошедшим войну, семейная жизнь зачастую давалась нелегко. Представления о мужественности, болезненные воспоминания и трудности адаптации к жизни в режиме с девяти до пяти – все эти вопросы поднимались в фильме «Человек в сером фланелевом костюме» (The Man in the Grey Flannel Suit, 1956) с Грегори Пеком в роли беспокойного главы семейства, который постепенно научился «обожать» свою великодушную и преданную жену[542]. Но и женщинам послевоенная реальность семейной жизни не приносила безоговорочного счастья: домашние дела из убежища порой превращались в тюрьму. Пенелопа Мортимер изобразила драматизм обязательств привязанной к домашнему хозяйству жены представителя британского среднего класса в своих романах «Папочка ушел на охоту» (Daddy’s Gone A-Hunting, 1958) и «Пожиратели тыкв» (The Pumpkin Eater, 1962). У домохозяек того времени не было реальной независимости и даже возможностей для здорового самовыражения. Они постоянно балансировали на грани нервного срыва, вызванного одиночеством или депрессией[543]. Мужчины и доктора в этих романах тайно сговаривались против жен – и это предательство сводило женщин с ума. В 1963 году Бетти Фридан опубликовала революционный феминистический труд «Тайна женственности» (The Feminine Mystique), основанный на ее исследовании неудовлетворенности современниц, занятых ведением домашнего хозяйства[544]. Мечты о пригородном супружеском счастье оказались подделкой и очень дорого стоили женщинам. В другом важном тексте, книге Жермен Грир «Женщина-евнух» (The Female Eunuch, 1970), писательница называет прикованную к дому мать «мертвым сердцем семьи» – она заперта в четырех стенах, пока ее муж и дети проживают лучшие дни жизни «на воле»[545]. Эти книги сильно повлияли на общественное мнение и помогли феминистическому движению второй волны сформироваться по обе стороны Атлантики. Мужья-кормильцы, да и мужчины в целом теперь предстали в совершенно ином свете.
Историки называют 1950-е десятилетием нестабильности, хотя напряжение этих лет часто скрывалось за глубоким социальным желанием построить лучший, более безопасный мир после войны[546]. Никто никогда не сомневался в том, как охарактеризовать следующее десятилетие: 1960-е стали временем стремительных социальных изменений. Однако буйства 1960-х – движение за гражданские права, подростковая революция, появление контркультуры и подъем феминизма – уходят корнями в предыдущее десятилетие. В частности, это касается быстро изменившейся жизни женщин, особенно молодых. Акт Батлера, принятый в Великобритании в 1944-м, ознаменовал всеобщую доступность среднего образования. В 1960–1970-х все больше и больше девушек так или иначе получали высшее образование – и в дальнейшем строили жизнь совсем не так, как это делали их матери[547]. У молодых женщин появились другие амбиции, ожидания и представления о мужчинах и браке, и это привело к появлению новых моделей желаемой мужественности: рок-звезд, мятежников и революционеров.
У нарушителей закона сохранился особый шарм, но борцам за его изменения была присуща особая целостность, их видение нового общества привлекало даже сильнее. Серьезно настроенная молодежь обоих полов всегда подпадала под чары Робин Гуда, социально ответственных бандитов и харизматичных революционеров.
Образ аргентинского партизана-марксиста Че Гевары вдохновлял целое поколение. В его путешествиях на мотоцикле, его радикализме, храбрости и бескомпромиссном отношении к эксплуатации и капитализму ощущался зрелый романтизм. Да и выглядел он сногсшибательно. Самая известная фотография Че Гевары, сделанная Альберто Корда, превратилась в настоящую культурную икону[548]. Обитатели бесчисленных студенческих общежитий по всему миру печатали ее на кружках, плакатах и футболках.
1950–1960-е – десятилетия расцвета подростковой революции и новых форм «вседозволенности»: разочарование в старшем поколении, его догмах и затасканных авторитетах определяло мировоззрение молодых людей обоих полов. Марлон Брандо отлично сыграл страстную непокорность и муки совести в фильмах «Дикарь» (The Wild One, 1953) и «В порту» (On the Waterfront). В фильме «Вива Сапата!» (Viva Zapata, 1952) Брандо сыграл «Робин Гуда Мексики», Эмилиано Сапату, романтически неподкупного лидера мятежников, который посвятил себя борьбе за восстановление в правах лишенных наследства крестьян. Брандо сделал популярными мотоциклы, синие джинсы и кожаные куртки еще до того, как Джеймс Дин сыграл угрюмого и охваченного страхом юношу в фильме «Бунтарь без причины» (Rebel without a Cause, 1955). Двойственная сексуальность Джеймса Дина невероятно привлекала (и до сих пор привлекает) как женщин, так и мужчин. «Бунтарь без причины» вышел вскоре после трагической смерти Дина: актер разбился на своем Porsche 550 на шоссе недалеко от Салинаса, когда ему было всего двадцать четыре года. Сегодня на его официальном сайте посетителям на одиннадцати языках предлагают «мечтать, как будто будете жить вечно, – и жить, как будто сегодня умрете»[549].
В 1960-х многие артисты-мужчины стремились хоть как-то соприкоснуться с духом революции, хотя бы спеть о ней. Например, в песне Леннона и Маккартни «Revolution» («Революция») утверждалось, что изменить мир хотят все. А The Rolling Stones при создании песни «Street Fighting Man» («Уличный борец») вдохновлялась деятельностью британско-пакистанского писателя и левого общественного деятеля Тарика Али, антивоенными демонстрациями и студенческими беспорядками в Париже[550]. Радикализм был в моде, даже несмотря на то, что насилие вызывало тревогу. Некоторые голливудские звезды примкнули к движению за гражданские права и против войны во Вьетнаме. Любимец женской аудитории Пол Ньюман в 1968-м поддерживал Юджина Маккарти, выступал против войны и присоединился к движению в защиту окружающей среды[551]. Популярный лозунг «Власть цветов» (Flower Power) ассоциировался с новой формой мужественности: бескомпромиссной борьбой с привычным лицемерием и отказом от войны и конфликтов. Молодые люди ставили под вопрос гендерные стереотипы, отращивали волосы и показывали свою чувствительную, женственную сторону. Битники отстаивали новый социальный порядок вместе с женщинами: Джон Леннон, с совместным творчеством и отношениями с Йоко Оно, стал идеальным тому примером[552].
Однако культурные изменения редко происходят резко и повсеместно. В послевоенные годы многие певцы и артисты обретали или сохраняли популярность во многом благодаря тому, что являли собой пример честных и надежных мужчин, разделяющих семейные ценности: например, Пэт Бун, Перри Комо или Клифф Ричард. В 1943 году журнал Life присудил звание «эстрадного певца года» Перри Комо – бывшему парикмахеру в свитере и с аккуратно уложенными волосами, живому воплощению образа «хорошего парня»[553]. В опросах, проведенных среди американок в конце 1950-х, Комо опережал по популярности даже Элвиса Пресли, особенно если девушек спрашивали, за кого им хотелось бы выйти замуж[554]. В 1959 году новый британский журнал Boyfriend назвал Перри Комо «голубой мечтой» читательниц – причем, что интересно, целевой аудиторией журнала были подростки, а певцу на тот момент исполнилось уже сорок семь лет[555]. Журналы для девушек вроде Boyfriend, Romeo и Valentine помогали новым певцам и сердцеедам находить поклонниц. Безусловно, предполагалось, что сильная привязанность к матерям и сестрам, любовь к домашней еде и свитерам ручной вязки должна была усилить привлекательность этих звезд.
В самом начале двадцатого века девочки взахлеб читали журналы вроде Peg’s Paper, Oracle и Red Star Weekly, в которых обычно публиковались истории с заголовками вроде «Игрушка для мужчины», «Номинальная жена» или «Опасная любовь». Подобная литература обычно отдавала дешевой чувственностью и кишела хитрыми соблазнителями и интриганами, которые только и делали, что стремились поймать в свои сети женщин и обесчестить их. Но нельзя забывать, что ухаживания и сексуальные отношения действительно могли быть для молодых женщин опасными. Даже пятьдесят лет спустя преимущества «общества вседозволенности», в котором стали намного спокойнее относиться к сексуальным свободам, все равно оказывались для девушек палкой о двух концах. Феминистки тут же обратили внимание, что устойчивость двойных стандартов в области сексуальных отношений свидетельствовала о том, что девушкам сексуальные свободы были далеко не так выгодны, как парням. Нежелательные беременности, болезненные аборты и испорченная репутация могли иметь для молодых женщин тяжелые последствия. В обществе, где моральные послабления шли рука об руку с двойными стандартами, сексуальность оставалась опасной. Девушкам важно было знать, кому можно доверять: именно поэтому были так важны искренность, честность и надежность. Отчасти этим можно объяснить неизменную привлекательность бой-бендов, в состав которых входили молодые и ничем не угрожающие парни, похожие на соседских мальчишек. Они позволяли девушкам спокойно выражать свои желания и преданность в безопасном контексте.
Такую же длинную историю имеет привлекательность идейных мужчин, мятежников и революционеров. В девятнадцатом веке женщины часто ощущали бессилие. В конце концов, они в буквальном смысле были лишены гражданских прав, отрезаны от политики и не участвовали в социальных действиях. Но, несмотря ни на что, во многих девушках жил наивный идеализм и страстный интерес к социальным реформам. Трудно было устоять перед соблазном объединить усилия с молодыми мужчинами, которые боролись за проведение тех же реформ. Отчасти эта идея позволяла девушкам получить компенсаторное удовлетворение, созвучное с традиционно женскими представлениями о самопожертвовании. Можно было посвятить себя хорошему человеку и его делу. Другие мечтали о более равноправных и близких отношениях: им виделись два товарища, объединяющие силы ради создания лучшего мира. Представительницы первого поколения женщин, получивших доступ к высшему образованию в конце Викторианской эпохи, выпустили множество ныне забытых романов, в которых завязывались отношения между серьезными молодыми женщинами и многообещающими политиками или миссионерами, трудившимися в самых неблагополучных районах Лондона[556]. И на протяжении следующего века притягательность мысли о замужестве с врачом отчасти была связана с желанием героини внести свою лепту в дело любимого мужчины, быть его (неоплачиваемой) помощницей.
Однако придумать счастливый финал для романтических историй такого рода было непросто. Мятежники и революционеры с ясной целью порой слишком погружались в свое дело, им было не до близости, их неугомонность не давала им остепениться ради любви и домашней жизни. В фильме «Красные» (Reds, 1981) Уоррен Битти озвучил своего рода предостережение. Фильм основан на романе Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» (Ten Days that Shook the World), который рассказывает о революции в России. Роль Рида исполнил Уоррен Битти, на тот момент уже ставший кумиром женщин. Политическая деятельность журналиста постоянно ставила под угрозу его эмоциональные отношения и закрывала доступ к нему его жене и коллеге, Луизе Брайант[557]. Такие же проблемы обычно возникали с героями-ковбоями: обычно они были одиночками и пренебрегали общепринятыми нормами. И хотя целое поколение женщин вздыхало по Клинту Иствуду в сериале «Сыромятная плеть» (Rawhide) и по Роберту Хортону в роли Флинта Маккалоу из «Каравана повозок» (Wagon Train), встроить качества этих героев в традиционный романтический нарратив было нелегко[558]. Ковбои-одиночки отстаивали свободу и этическую чистоту, но попробуй приручи такого персонажа. Ну а вне экранов и за пределами книжных страниц многие знаменитые мужчины и актеры только укрепляли свою репутацию, демонстрируя политическую искренность и склонность к филантропии. Марлон Брандо был известен своей четкой позицией в отношении гражданских прав; Клинт Иствуд критиковал американскую внешнюю политику и вмешательства США в Корее, Вьетнаме и Афганистане[559]. Или из недавних примеров: Джордж Клуни стал еще привлекательнее благодаря своей гуманитарной работе и правовому активизму[560].
В книге «Женщины пишут о мужчинах» (Women Writing about Men), опубликованной издательством Virago Press в 1986-м, Джейн Миллер исследует различия в идеальных представлениях о героях у женщин и мужчин[561]. В частности, она пытается объяснить, почему критики-мужчины редко уважают попытки писательниц изобразить героев-мужчин. Миллер считает, что мужчины воспринимают жизнь героя как постоянный поиск, «выдающуюся жизнь, украшенную достижениями»[562]. Писательницы же изображают героев людьми скорее обычными. Однажды связав себя с героинями, те придают их жизням форму и смысл. Поиском занимается она: ищет мужчину, за которого можно выйти замуж, который воплотит ее мечты в жизнь[563].
В популярных романах середины прошлого века этой точке зрения уделялось отдельное внимание. Так, в романе Бетти Нилс «Конец радуги» (The End of the Rainbow, 1974) героиня, Олимпия, учится на медсестру и мечтает встретить молодого человека, который захочет на ней жениться и «тем самым определит ее будущее»[564]. На помощь приходит богатый голландский врач, Уолдо ван дер Грааф, и жили они долго и счастливо. Правда, сегодня читатели Нилс уже не так наивны, как полвека назад, и ждут намного больше близости и взаимного уважения. Образы героев вроде Уолдо кажутся им слишком уж аристократичными – такие мужчины слишком любят себя, чтобы суметь по-настоящему полюбить женщину. Среди прочего, комментаторы на сайте goodreads.com жалуются, что «она (Олимпия) для него скорее домработница и нянечка, а не жена» и «я так и вижу ее будущее пожизненное рабство»[565]. Двадцатый век подходил к концу, теперь женщинам было недостаточно искренности, умения обеспечить семью и денег на кредитке: отныне идеальный мужчина должен был воспринимать их на равных, быть настоящим товарищем.
7
Власть
Защита, магия трансформации и патриархат
Некоторые мыслители считают, что явление патриархата обусловлено биологически, как социальный результат эволюции. Большинство теоретиков культуры, в том числе и феминистического толка, подобные доказательства отрицают. Споры о том, действительно ли женщины естественным образом предпочитают более сильных и властных мужчин, ведутся очень давно. В девятнадцатом веке социал-дарвинистские мыслители Патрик Геддес и Джон Артур Томсон опубликовали работу под названием «Эволюция секса» (The Evolution of Sex, 1889), в которой развивали идеи эволюционной обусловленности гендера[566]. Мужские клетки называли катаболическими, то есть полными энергии и движения, а их женские эквиваленты – анаболическими, сохраняющими энергию, пассивными. По мнению авторов, этим можно объяснить мужскую активность и рациональность, склонность брать на себя инициативу в жизни, а также интуитивное, пассивное и сдержанное поведение женщин. Попытки изменить положение вещей посредством социально-политических реформ вряд ли оказались бы эффективными. Авторы напыщенно заявляли: «Никакой парламентский акт не сможет аннулировать решения, принятые эволюцией в эпоху доисторических простейших»[567].
Подобный подход часто использовали в спорах с феминистками. Герберт Спенсер, философ Викторианской эпохи, включился в обсуждение: он предположил, что «настоящие» женщины только расцветали под защитой патриархата[568]. Он считал, что социальное развитие происходило во многом благодаря тому, что мужчины занимали позицию власти и могли защищать женщин. Спенсер утверждал, что женщины начинали стремиться к экономической независимости, только когда у них не было возможности положиться на мужчину[569]. А феминистки все неправильно поняли. В первые десятилетия двадцатого века споры о «современной женщине» часто увязали в таком биологическом эссенциализме[570]. Так, например, Герберт Уэллс считал, что в своем нашумевшем романе «Анна-Вероника» (Ann Veronica: A Modern Love Story, 1909) он защищал свободы молодых девушек. В основу истории легли фантазии самого Уэллса об отношениях с юной Эмбер Пембер-Ривз[571]. Эмбер стала прототипом Анны-Вероники. Уэллс изобразил девушку с сильными желаниями; однако в ходе доверительной беседы со своим возлюбленным Кейпсом (слегка замаскированной версией самого Уэллса) она призналась, что совсем не по-современному хочет быть «первобытной, как обтесанный кремень»[572].
Культура 1920–1930-х пронизана очарованием силы примитивного и первобытного. Отчасти это связано с дарвинизмом и империализмом. Публику невероятно привлекали произведения вроде «Зова предков» (The Call of the Wild, 1903) Джека Лондона, «Тарзана, приемыша обезьян» (Tarzan of the Apes, 1912) Эдгара Райса Берроуза, а также первого фильма «Кинг-Конг» (King Kong, 1933). Все эти произведения сильно повлияли на массовую культуру того времени[573]. В «Зове предков» домашний пес возвращается в дикую природу, вспоминает давно забытые инстинкты и переживает второе рождение, когда сбрасывает отупляющие оковы жизни при человеке. Тарзана Берроуза считали идеальным мужчиной: выросший в джунглях молодой человек с аристократическими генами, коктейль примитивной мужественности и джентльменских манер. Кинг-Конг стал пугающим олицетворением силы, однако, спасая Анну (в исполнении Фэй Рэй), он аккуратно держит ее на своей ладони. Какая мощь! Какая защита! Не этого ли на самом деле хотелось всем женщинам?
Поисковый сервис Google Ngram, который составляет рейтинг частоты использования слов и фраз в печатных источниках информации, – полезный инструмент для историков. Он показывает, что использование термина «пещерный человек» в печатных источниках резко подскочило в 1920–1930-х: именно тогда особенно жарко спорили о том, можно ли назвать «пещерный» тип мужчин непреодолимо привлекательным для женщин[574]. Например, в романе Олдоса Хаксли «Контрапункт» (Point Counter Point, 1928) интеллектуал Филипп Куорлз сравнивается с мужчинами «пещерного» типа. Их страстность и готовность к насилию, печально заключает автор, особенно нравятся женщинам[575]. И доказательства тому не сложно было найти. В то время на обложках популярных романов красовались не только шейхи на лошадях, уносящие женщин в свои шатры посреди пустыни. Не менее популярны были и сюжеты, в которых героини с ярко накрашенными губами прижимались к героям, заманчиво прикрытым леопардовыми шкурами-туниками или набедренными повязками, а за ними маячили злобные львы (или темнокожие аборигены). Отличным примером служит книга Сильвии Сарк «Возьми меня! Сломай меня!» (Take Me! Break Me! 1938), опубликованная издательством Mills and Boon[576].
Популярные журналы кишели подобными картинками. Однако после Второй мировой войны термин «пещерный человек» использовался все реже. Постепенно его заменили упоминания «альфа-самца» – этот термин пришел из зоологии и сначала использовался для обозначения доминантности у приматов. С 1970-х и до конца века термин все чаще применяли для описания схем поведения человека. В популярной психологии он встречался повсеместно. Иногда термин приобретал отрицательное значение и как бы намекал на склонность мужчин к кутежу, грубости и плохому поведению. Так, кинозвезды вроде Оливера Рида, Ричарда Гарриса, Рассела Кроу и Джереми Кларксона, прославившегося благодаря автомобильному телешоу Top Gear от ВВС (которое он вел, пока не был уволен за оскорбление коллеги), – все они заработали дурную славу из-за своего неконтролируемого или разгульного поведения[577]. Уровень терпимости к подобному поведению – которое часто связывают с «выбросами тестостерона» – варьировался. Некоторым было сложно осуждать такие проявления здоровой мужественности. Термин «альфа-самец», помимо прочего, вызывал и позитивные ассоциации – с лидерством и смелостью. Сегодня в интернете огромное количество компаний рекламируют спреи, одеколоны и дезодоранты с «альфа»-феромонами. Типичные названия таких продуктов («Мачо», «Доверие и уважение», «Власть и трепет») намекают на химию влечения и способность этих продуктов усилить сексуальную привлекательность и силу мужского притяжения[578].
Мы уже убедились в том, что альфа-самцы были не единственными обитателями мира женских фантазий. Тем не менее наделенные властью мужчины всегда притягивали к себе женщин: как в военное время, так и сегодня. Власть могла принимать разные формы. Это как физическая сила и смелость, так и умение водить, ездить верхом или управлять самолетом. Бесстрашные пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании, с серебряными крылышками на серо-синей форме, в 1940-х буквально источали шарм: сразу вспоминается Стюарт Грейнджер, который отправился защищать свою страну и возлюбленную в невероятно популярном фильме студии Gainsbrough «История любви» (Love Story, 1944)[579]. Солдаты, гонщики, умелые наездники и пилоты постоянно становились героями любовных романов. Нельзя забывать и об экономической силе, которая проявлялась в разнообразных формах: землевладении, богатстве, инвестиционных капиталах, домах, мебели, картинах и других произведениях искусства. Кроме того, власть могла быть социальной и политической: передаваемый по наследству статус, культурный капитал, физические навыки и т. д. Привлекательность конкретных ресурсов и навыков со временем менялась. Не у всех мужчин эти ресурсы были, но и не всем женщинам их не хватало. Хотя исторически женщинам, конечно же, намного реже доводилось распоряжаться подобными активами, нежели мужчинам.
Богатые и влиятельные мужчины могли дать женщинам защиту. Они могли полностью изменить жизнь: привнести в нее комфорт, роскошь, открыть новые горизонты, новый социальный мир. Решающее значение брака в любовных романах связано именно с этим обещанием трансформации. Брак освещал и уравновешивал жизнь героини – по крайней мере, в ее мечтах.
Это отчасти объясняет, почему патриархальный строй мог казаться женщинам привлекательным и сохранял силу как в реальности, так и в женских фантазиях. В романах писательниц вроде Барбары Картленд, Джорджетт Хейер и Бетти Нилс мужественность героев во многом строилась на демонстрации власти. Они почти всегда были богаты (причем деньги чаще всего были «семейные» – это выглядело внушительнее, чем свежезаработанный капитал), что подразумевало определенный статус и культурный уровень. Барбара Картленд называла потенциальных мужей (то есть богатых мужчин с семейными землевладениями) «людьми, у которых есть ворота в собственный парк», – а эти ворота, безусловно, символизировали переход в мир роскоши. Вероятнее всего, такие герои обладали и выдающимися физическими данными, не боялись рисковать и гордо защищали свое аристократическое происхождение.
Романы Бетти Нилс воспевали мир, который практически исчез уже тогда, в 1970-х. В ее историях описываются ухаживания и семейная жизнь 1950-х – времени, когда роли мужчин и женщин в работе и быту были четко разграничены в соответствии с гендерными стереотипами. Это был мир, основанный на классовых привилегиях и патриархате. В романах Нилс как бы предполагалось, что слуги делают жизнь состоятельных жен и матерей комфортной. У некоторых ее героев, живших в середине двадцатого века в Великобритании, все еще были дворецкие. Герои Нилс всегда могут похвастаться богатством, впечатляющими аристократическими титулами – и их статус альфа-самцов только укрепляется благодаря профессиональным достижениям, обычно связанным с работой старших консультантов, докторов или хирургов. Действие романов Джорджетт Хейер и Барбары Картленд также в основном разворачивается в обстановке далекого прошлого, а герои (по крайней мере, главные) принадлежат к столь привилегированным слоям общества, что с трудовым миром не взаимодействуют по определению. Всюду снуют лакеи и слуги, готовые воплотить любую хозяйскую прихоть.
Привлекательность «властных» мужчин в таких текстах всегда оказывалась непреодолимой: в конце концов (а то и с самого начала) героини начинали смотреть на них с обожанием и уважительно обращаться к ним «сэр» или «милорд». Крайне успешный роман Джорджетт Хейер «Тени былого» был впервые опубликован в 1926-м – в год Всеобщей стачки[580]. В романе читателям предлагается интересная модель властной мужественности, воплощенная в главном герое, Джастине Аластере, герцоге Эйвонском, характер которого мы уже обсуждали в главе 4 этой книги. Джастин – единственный в своем роде, идеальный мужчина. Имея репутацию распутника, он умудряется совмещать склонность к риску с уважением к семейным ценностям, физическую смелость – с хорошим вкусом и изящными манерами. Как и многие герои любовных романов, это заносчивый, сардонический и элегантный персонаж. Он равнодушен к вздыхающим по нему женщинам. История начинается со сцены, в которой наш идеальный герой спасает девятнадцатилетнего Леона и делает его своим пажом. Однако Леон оказывается девушкой из благородной семьи, Леони, которая переоделась мальчиком. Ее отец, злобный Компте де Сен-Вир, отказывается от дочери сразу после ее рождения. В книге постоянно обыгрывается эротизм половой неоднозначности героини, однако сомнений в том, кто в этой паре доминирует, не возникает. Леони влюбляется в своего спасителя, которого она называет «монсеньор», и не упускает случая припасть к его ногам, поцеловать ему руку и всячески ему угодить. Джастин раскрывает ее секрет и решает постепенно вывести на чистую воду служанку, к которой все девятнадцать лет обращался словами «дитя» и «малыш». В конце концов он, конечно же, и сам влюбляется в девушку, и после сложных разоблачительных махинаций они женятся. В изложении Хейер мужественность Джастина только подчеркивается и оттеняется обожанием Леони. В ее глазах он во всем превосходен, она стремится сделать его героем. И даже несмотря на то, что Леони сама была девушкой духовно развитой и умной, герцог покоряет ее воображение. Кстати, сам Джастин противился такой идеализации, но Леони ничего и слушать не хотела.
В мире Хейер женщины принимали патриархальный строй, потому что для многих из них мужчины были главным источником защиты. И эта защита представлялась читателям чем-то благоприятным. Большинство романов Джорджетт Хейер изображали мужественность и патриархат с любовью: братья – всегда чистосердечные и веселые, дяди – добрые, а главные герои, конечно же, все сплошь образцы совершенства. Нет-нет да и попадался какой-нибудь злодей, например тот же Компте де Сен-Вир, но порядочные ребята быстро с ним разбирались. Недостатки патриархального строя – невозможность наследования семейного состояния дочерьми, двойственность сексуальных стандартов и связанные с женской ролью ограничения – оставались без внимания, игнорировались и тут же забывались.
В 1984 году вышла в свет книга британской журналистки и ученого Розалин Кауард под названием «Женское желание» (Female Desire)[581]. В ней ловко описывается, как патриархальное общество мешало женщинам испытывать желание и выражать его. Кауард доказывает, что женщины редко могли действовать в соответствии со своими желаниями, они скорее стремились выглядеть привлекательно для мужчин[582]. В результате они как бы перекладывали ответственность за собственные желания на других. Примеров тому немало. Дневники, которые Сильвия Плат вела в 1950-х, иллюстрируют многое из того, что описывает Кауард[583]. В 1950-х Плат была молодой девушкой, готовилась покинуть отчий дом и поступить в колледж. Она посвящала огромное количество времени размышлениям о сексе и борьбе с «проблемой» желания. Плат испытывала такое разочарование, что стала даже завидовать мальчикам, которые, как ей казалось, «могли без всяких опасений утолять сексуальный голод и оставаться невредимыми», тогда как ее женская доля заставляла таскаться «с одного свидания на другое, изнывая от желания, но никогда не получая возможности его удовлетворить»[584].
Разочарование Плат в социальных ожиданиях в отношении женственности и доступных возможностях разговаривать о любви, сексе и творческих амбициях продолжало преследовать ее и в студенческие годы. В какой-то момент в начале 1950-х она призналась, что хотела бы «сесть в машину, и чтобы меня увезли в хижину на каком-нибудь холме среди гор, изнасиловали как пещерную женщину, а я бы дралась, кричала и кусалась в диком оргазмическом экстазе»[585]. Дальше она сама признает, что прозвучало все это «не слишком мило, нежно и женственно». Несложно понять, что Плат писала так противоречиво, потому что сама запуталась: ведь свою собственную сдерживаемую энергию она даже в фантазиях проецировала на воображаемого властного мужчину. Дневники Плат полны упоминаний о властных мужчинах. В какой-то момент она даже прямо спросила себя, каких предпочитает кавалеров. И сама себе призналась: деньги для нее один из самых важных факторов, а потому, например, учителя не имеют шансов оказаться в ее списке. Но больше всего она мечтала о гиганте, сверхчеловеке, «полубоге в теле мужчины». Когда же ей удавалось оценить свои фантазии более трезво, она признавала, что мечтала о «несуществующем романтическом герое»[586].
Примерно за десять лет до этого (и намного менее изящно с литературной точки зрения) подобные стремления выразила Санчиа, героиня книги «Возьми меня! Сломай меня!» Сильвии Сарк. Мечты Санчии о том, чтобы ее взяли и сломали, – это желание сдаться, воплощение женского пути к достижению удовлетворения. Ее возбуждает встреча с Лео, укротителем львов, которого можно назвать воплощением «высшей степени мужественности», «языческой красоты» и «гордой властности». Этот роман противоречит представлениям о том, что издательство Mills and Boon публиковало только книги, в которых не было «аморального»: здесь интрижку с властным укротителем львов завела замужняя Санчиа. Но в конце концов она получила по заслугам и вернулась к своему надежному мужу Джулиану[587]. В историях из литературных журналов 1930–1940-х постоянно попадались заносчивые и пугающие мужчины, волшебным образом превращавшиеся в любящих женихов, стоило им только встретить чистых душой героинь. Например, в первом выпуске журнала Glamour в марте 1938-го начался цикл публикаций Аниты Расселл под названием «Остров желания» (Island of Desire)[588]. Представили произведение так: «Длинный трепетный роман о мужчине, который высмеивал и ненавидел женщин – но не мог сопротивляться притяжению их мягких губ… “Ни одна девушка не заставит меня влюбиться, я непробиваем для их чар. Я подчиняю женщин так же, как подчиняю коренное население моего острова: без единого вопроса”, – хвастался он»[589]. Предполагалась, что читатели будут «трепетать» и «придут в ужас» от подобного предложения.
Борьба за власть и животные проявления мужественности, заряженные определенной сексуальностью, особенно часто стали появляться в любовных романах 1960–1970-х[590]. Это были годы воскрешения феминизма и подъема движения за свободу женщин. А продажи любовных романов в то же время подскочили буквально до небес. Сложно понять, как могли сочетаться эти противоречивые тенденции. Связано ли это с тем, что культура не успевала реагировать на социальные изменения? Люди, которые пытались объяснить происходящее (как современники, так и историки культуры), часто увязали в противоречиях, связанных с феминизмом, новыми сексуальными свободами, «вседозволенностью», социальными классами и воображаемыми женскими удовольствиями.
Нет сомнений в том, что с 1960-х возникла тенденция открыто писать о сексуальности. Спрос диктовался разными потребностями читателей. Так, молодые люди стремились узнавать новое и экспериментировать, поэтому с удовольствием покупали книги, насыщенные информацией о сексуальности. Настоящей вехой для женщин стала книга «Наши тела и мы сами» (Our Bodies, Ourselves), в 1971 году опубликованная в США Бостонской организацией защиты женского здоровья. Для феминисток второй волны эта книга стала библией. Британское издание, вышедшее под редакцией Энджелы Филипс и Джил Ракусен, Penguin опубликовал в 1978-м. Дополнительные тиражи выпускались в 1980, 1983, 1984 и 1986-м. В этом революционном сборнике откровенно и без осуждения излагалась информация о женском здоровье, репродуктивных функциях женского организма и сексуальных пристрастиях[591].
Затем Александр Комфорт выпустил феноменально успешную книгу «Радость секса» (The Joy of Sex, 1972), «гид по искусству любви», который удерживался в списке бестселлеров The New York Times в течение десяти лет с общим тиражом 12 млн экземпляров[592]. Сам Комфорт считал, что нанес сокрушительный удар по силам, противостоявшим эротической свободе как женщин, так и мужчин. Автор отобразил в тексте женскую точку зрения, которую сформулировал сам. Однако некоторая предложенная в книге информация, мягко говоря, вызывала у женщин вопросы. Так, Комфорт писал, что многих мужчин пугает вагина: она выглядит как «рана от кастрации», «регулярно кровоточит, заглатывает пенис и изрыгает его слабым, она, возможно, кусается и т. д.». Сексуальная позиция, когда мужчина находится сзади, некорректно называлась «негритянской». Писательница Эриел Леви назвала текст «памфлетом пропаганды пениса»[593]. Читателям бескомпромиссно сообщается, что вибрации не заменят пенис, что размер имеет значение, а также что пенис имеет намного более важное символическое значение, чем любые другие человеческие органы. В книге также были незабываемые иллюстрации, с типичным «пещерным» любовником-мужчиной, крупным и волосатым. Эриел Леви назвала его «оборотнем с похмелья». Оригинальные иллюстрации натолкнули ее на мысль о Красавице, попавшей в лапы Чудовища[594].
Книги о женской сексуальности и женских фантазиях отлично продавались. Настоящим хитом стал «Я не боюсь летать» (Fear of Flying, 1973) Эрики Йонг – книга, в которой впервые использовался термин «случайный секс», подразумевавший близость ради удовольствия, не обдуманные отношения, без взаимных требований и попыток распределения власти. То же самое можно сказать и о книгах Нэнси Фрайдей «Мой тайный сад: женские сексуальные фантазии» (My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies, 1973) и «Запретные цветы: еще больше о женских сексуальных фантазиях» (Forbidden Flowers: More Women’s Sexual Fantasies, 1975)[595]. «Отчет о женской сексуальности» (The Hite Report on Female Sexuality, 1976) Шир Хайт открыл новые горизонты в обсуждении вопроса, потому что в нем критически разбирались более ранние сексологические работы Кинси, Мастерса и Джонсона[596]. Открылся ящик Пандоры: раньше было принято считать, что у женщин просто не бывает сексуальных фантазий – по крайней мере, у «хороших» женщин. Позже, в 1990-х, Нэнси Фрайдей вспоминала, что даже в 1973-м, когда вышла ее первая книга, уважаемый американский психолог Алан Фромм уверял журнал Cosmopolitan, что в большинстве своем женщины «лишены сексуальных фантазий», потому что воспитание не позволяет им их иметь[597].
По мере появления новых тенденций вроде унисекса, власти цветов и свободной любви старомодные романы Барбары Картленд и Бетти Нилс стали забываться. Картленд постоянно жаловалась, что издатели требовали от нее «обновления» героинь, а ей хотелось сохранить их «чистыми». Картленд заявляла, что если девственность больше не в моде, она лучше просто перестанет писать о современном мире и перенесет действие своих романов в прошлое[598]. Нилс отказалась менять свою формулу идеального романа, и некоторые ее поклонники оставались с ней несмотря ни на что. Но другие писатели приспособились к новой эре. А новички в вопросах, связанных с сексуальными желаниями, часто были намного откровеннее своих предшественников.
В Северной Америке издательство Avon Books опубликовало дебютный роман Кэтлин Вудивисс «Пламя и цветок» (The Flame and the Flower, 1972), который был очень успешен благодаря честным описаниям сексуальных переживаний и удовольствий[599]. «Пламя и цветок» начинается со сцены, которую принято называть «сценой изнасилования»: герой по ошибке принимает героиню за женщину легкого поведения. Она беременеет, он на ней женится, после чего роман превращается в полноценную любовную историю. Эта книга перевернула стандарты любовного романа, в частности потому, что начиналась с брака, а не заканчивалась им. Кроме того, героиню можно назвать умной и волевой женщиной, и каждому из героев приходится разбираться со своими чувствами в этих сложных отношениях. И тем не менее образ главного героя, капитана Брендона Бирмингема, собрал в себе всевозможные клише жанра: он невероятно богат и подходит на роль мужа, у него темные волосы и он «чем-то похож на пирата», он красив и носит снежно-белые рубашки с воланами и облегающие бежевые штаны. Кроме того, он совершенно случайно оказывается идеальным любовником – Вудивисс услужливо описывает читателям некоторые его эротические навыки.
Вайолет Уинспир стала одной из самых успешных молодых писательниц в Mills and Boon в конце 1960-х[600]. События в ее произведениях развиваются стремительно, если сравнивать со стилем предшественниц, однако сюжеты не так откровенны, как у той же Вудивисс. «Для меня секс – это медленно разгорающееся пламя, а не свет неоновой лампы», – поясняла Уинспир[601]. Она придерживалась основных правил жанра (и признавалась, что ее вдохновляли романы Э.М. Халл и Этель Делл), но добавляла в них масштаба. В частности, в ее мужчинах было еще больше жизни; их истории были еще экзотичнее, челюсти – еще более волевые, страсти и побуждения – еще более темные и неконтролируемые. Этих героев ни в коем случае нельзя назвать «мужчинами нового времени»: они все – порождение мощных природных сил, называют героинь «маленькими дурочками» и готовы установить свой порядок в их жизни. Уинспир увлекалась заграничными декорациями и особенно любила превращать героев в греческих торговых магнатов или итальянских и португальских аристократов со звучными именами вроде Дон Рауль Цезарь де Романос[602]. Уинспир считала, что склонность героев контролировать все на свете и властно относиться к слабым героиням придавала им особый шарм.
В Великобритании вышел ряд радио- и телепередач, посвященных обсуждению вопроса: почему же продажи любовных романов только растут, хотя многие феминистки открыто осуждают жанр? В 1971-м для программы на BBC Radio 4 Бенедикт Найтингейл опросил читательниц и писательниц: его интересовало, «почему любовные романы так популярны»[603]. Словоохотливая Уинспир, которая могла захватывающе рассказывать о своем деле, идеально подошла бы для этой передачи. Но в 1970-м она уже соглашалась на подобное предложение от проекта «Вот это да!» (Man Alive) на ВВС, и это принесло ей сплошные неприятности. Журнал Radio Times опубликовал отрывок ее интервью журналистке Молли Паркин, проиллюстрировав цветной фотографией на всю страницу. На снимке Вайолет сидела в очках у своей пишущей машинки[604]. На фотографии была размещена врезка в форме сердечка с цитатой из интервью с Вайолет: «Все мои герои должны быть способны на изнасилование». Эта публикация выставляла Вайолет в странном свете. Говорили, что она «помешалась на мужчинах», страдала от «мужской мании» и неутолимой страсти к «маленьким пирожным с сахарной глазурью и горячему сладкому чаю». Статья получилась действительно жестокой. Уинспир обиделась на Паркин и никогда не простила ей этой публикации[605].
Характеристику, которую Вайолет дала мужским героям своих книг, стоит привести здесь целиком:
Я делаю своих героев худыми, мускулистыми, насмешливыми, сардоническими, жесткими, свирепыми – и, конечно же, одинокими. Ах да, и они должны быть богаты; а еще я делаю так, чтобы циничными и бесстрастными они были только снаружи. Но внутри они все хорошие, понимаете, потерянные и одинокие. Им нужна любовь, но если они возбуждены, они способны на захватывающую дух страсть и силу. Большая часть моих героев – да что уж там, все они – такие. Они пугают, но в то же время очаровывают. Мне нужен тип мужчины, способного на изнасилование: мужчины, с которым опасно оставаться в комнате наедине[606].
К сожалению, эти слова дорого ей стоили. Один из неоспоримых принципов феминизма второй волны заключался в том, что женщины должны сами контролировать свои тела и сексуальность, а у мужчин никаких «прав» на секс не было даже в браке – отсюда и возникла популярная мантра «да – значит да, нет – значит нет». Проводились многочисленные кампании против сексуального и домашнего насилия, а отдельные активисты и целые организации по всей стране открывали убежища для жен, которые бьют мужья, и консультативные центры для жертв изнасилований. Так что намек Уинспир на то, что потенциальные насильники привлекают женщин, прозвучал совершенно невовремя.
Сама Уинспир считала статью в The Radio Times предательством: писательницу обвинили в недалекости и высмеяли ее статус старой девы. Но жизнь ей выпала не из легких. Детство Уинспир пришлось на военные годы, она выросла в рабочей семье на востоке Лондона, в Ист-Энде. Уинспир говорила, что каждый день ей буквально приходилось сражаться за выживание[607]. В четырнадцать лет она бросила школу и пошла работать. Ей довелось потрудиться в разных местах: она переплетала книги, упаковывала модные в то время пирожные, делала искусственные цветы. Отец умер, когда она была совсем маленькой, и теперь она стала единственной поддержкой своей больной матери. В молодости Вайолет находила утешение в кинотеатрах:
этих больших, теплых, пахнущих людьми убежищах, способных укрыть от любых забот и тревог… На волшебном экране показывали «Атаку легкой кавалерии» с Эрролом Флинном с мечом в руке. Тогда, конечно, кино стоило недорого, и мы с мамой ходили дважды в неделю – вообще-то, так выходило даже экономней, потому что можно было сидеть в теплом кинотеатре до самого вечера и не тратить уголь на обогрев[608].
Чтение и литературное творчество помогали Вайолет не сойти с ума: она «наполняла целые книжки историями выдуманных людей». Когда Mills and Boon приняли ее первую книгу, счастью Уинспир не было предела – хотя ей и пришлось мириться со скептическим отношением друзей, которые сомневались, что «девушка-кокни с фабрики осмелилась написать жаркую любовную историю… да, на комментарии люди не скупились»[609].
Писательский труд приносил Вайолет Уинспир хороший заработок, хотя она никогда не была в этом смысле особенно амбициозной. В то время одинокая женщина ни за что не получила бы ипотечный заем, и Вайолет удалось скопить денег на покупку скромного бунгало у моря, для себя и матери[610]. Хотя большая часть ее романов разворачивалась на европейских курортах с тропическим климатом, сама Уинспир за границу никогда не ездила. Она считала, что Саутенд ничем не хуже французского Лазурного Берега. На протяжении всей своей жизни она находила утешение в чтении и писательстве: «Думаю, любовные романы всегда были для меня красивым способом убежать от боли, которая нередко встречалась в реальной жизни»[611].
Нам так много известно о Вайолет и ее отношении к писательству благодаря переписке, которую она вела в 1970-х с издателем – всегда сочувствующим и вежливым Аланом Буном. Вайолет не питала иллюзий в отношении себя и своих книг: она слишком хорошо понимала, что многие относились к ней как к смешной «рассеянной даме», которая носит очки и любит кошек, никогда не занималась сексом и никогда не путешествовала, но утешает себя и своих читательниц яркими фантазиями. Она была умной женщиной с отличным чувством юмора. Уинспир часто сама подшучивала над собой, но ее обижало классовое высокомерие, с которым она связывала высказывания комментаторов вроде Молли Паркин и феминисток из среднего класса. Те, как ей казалось, высмеивали простые радости рабочих женщин[612].
Вайолет никогда не сомневалась, что герои ее книг могли существовать только в воображении. Она полагала, что большая часть женщин «мечтает о первобытных мужчинах», о ком-то, кто может «взять руководство на себя», оставаясь при этом теплым и любящим[613]. Она объясняла Алану Буну, что привкус опасности действует возбуждающе: не стоило делать мужских героев слишком милыми, слишком мягкими или слишком идеальными. В этом смысле она многое вынесла из работ Элинор Глин и была уверена в своей правоте, потому что получала много одобрительных писем от читательниц. В начале 1972 года Уинспир получила письмо от читательницы, которой очень понравилась «Невеста Люцифера» (The Bride of Lucifer) из-за «этого прекрасного мужчины». «Неужели такие мужчины действительно существуют?» – интересовалась читательница. Встречались ли они самой Вайолет?[614] Женщины постоянно старались представить, чего бы им на самом деле хотелось: например, одна читательница написала, что считала Омара Шарифа «идеальным красавцем». Вайолет объясняла Буну: «Мои героини – всегда из рабочего класса, а герои предлагают им лучшую жизнь. Это всегда доминантные мужчины, они похожи на моих любимых кинозвезд, Хамфри Богарта и Шона Коннери». Она также признавалась, что симпатизирует Юлу Бриннеру[615]. Возможно, Вайолет пожалела о том, что упомянула в интервью Паркин «способность к изнасилованию», но в дальнейшей переписке она постоянно объясняла, что хотела всего лишь сказать: ее герои властные, полностью выдуманные фигуры, любовь которых к героиням могла выйти из-под контроля до такой степени, что они не могли больше медлить и терпеть сомнения героинь – которые, впрочем, все равно в конце концов влюблялись в них навсегда[616]. Именно так Вайолет понимала суть любовных романов: это была мечта об утешении, «мир фантазий только для женщин. Побег из мира утюгов и сковородок»[617].
В мире фантазий все всегда решали женщины, вне зависимости от того, какими сильными и «властными» были мужчины, – ведь местом действия было женское воображение. Однако с 1970-х годов феминисток начал беспокоить «насильственный» аспект сценариев, в которых герои «преодолевали» сопротивление героинь. Само использование слова «изнасилование» не всегда помогало. Историк культуры Молли Хаскелл в 1976 году написала важное эссе, в котором подчеркивала: изнасилование – это акт агрессии и враждебности, «единственной возможной реакцией на который должен быть ужас и страх»:
Если бы женщина фантазировала об изнасиловании, она бы представляла себе не любовь и страсть, а увечья, но никакая женщина в своем уме – да и сумасшедшая тоже – не стала бы выражать подобные желания даже подсознательно[618].
Если же женщины говорили, что «фантазируют об изнасиловании», на самом деле они представляли совсем другие образы, даже отдаленно не напоминающие ощущение, когда «незнакомец приставляет вам к горлу нож в темном переулке». Как обращал внимание один из друзей Хаскелл, «фантазия об изнасиловании»
не предполагала, что тебе, например, выбьют пару зубов. Речь скорее шла о том, что Роберт Редфорд не примет отказа. По сути, подобные фантазии воспевали женскую желанность – ведь мужчина в них действовал ради удовольствия женщины[619].
Чтобы понять суть «фантазий об изнасиловании», написанных женщинами и для женщин в 1960–1970-х, историкам культуры нужно подробнее присмотреться к подобным сюжетам. Книги, авторами которых были женщины, изображали мужских героев доминантными, а женских – относительно пассивными, потому что это соответствовало гендерным ожиданиям того времени. Как в 1982 году отмечала Таня Модлески в новаторском исследовании романов, выпущенных издательством Harlequin, герой обязательно должен стремиться к авантюрам, а героиня – всячески их избегать[620]. Счастливый конец – появление гарантий безопасности для героини: деньги и власть богатого мужчины давали защиту, хотя изначально героиня никогда к этому не стремилась. Классическая путаница понятий. Слишком часто она приводила к определенной нестабильности или необычности писательского стиля: в текстах проскакивали фразы вроде «изнасилованный взгляд» или «неукротимый шарм», и было в целом непонятно, кто, что и с кем делал.
Сцены доминирования над женщинами часто служили средством развития сюжета. В одном из ранних романов Джорджетт Хейер, «Перерождение Филиппа Джеттана» (The Transformation of Philip Jettan), сюжет по большому счету заходит в тупик, когда впереди остается еще треть книги[621]. Героиня слишком женственна и слишком горда, чтобы признаться в любви, герой слишком горд и слишком разочарован ее кажущимся равнодушием. Устами взрослой женщины, тети героини, Хейер подсказывает Филиппу: женщины хотят, чтобы мужчина овладел ими, поэтому стоит быть «жестким» и взять ситуацию в свои руки. Хейер написала этот роман, когда ей было всего двадцать лет. В нем нет ни намека на применение физической силы или насилия. Но даже в такой форме предположение о том, что женщинами нужно управлять, что они не знают, чего хотят, беспокоит современных читателей. Отчасти это связано с тем, как со времен Хейер изменились гендерные представления. Одним из главных сюжетов любовного романа остается преодоление сопротивления героини доминантным, но очень достойным мужчиной – причем исход этой ситуации полностью предсказуем. Такие истории строятся на превращении буйного героя в любящего мужа: любовь смягчает мужскую грубость, а власть в итоге все-таки попадает в женские руки. Выходя замуж за героя, героиня получает доступ к его богатствам и может спокойно жить под его защитой.
Типичные сюжеты, в которых героини романов получали власть благодаря доминантным мужчинам, иногда включали в себя довольно жестокие образы: героев могли калечить, ранить, ослеплять. Такое обретение власти через воображаемое насилие по отношению к герою встречалось в любовных романах всегда. В «Джейн Эйр» мистер Рочестер ослеп после того, как обезумевшая жена сожгла его дом. Это решило многие проблемы: герой остался без жены, был наказан страданиями и тем самым заслужил привязанность Джейн. Ник Рэтклифф в «Пути орла» (The Way of an Eagle) Этель Делл потерял руку в затянувшихся ухаживаниях за неуловимой Мюриэль[622]. В романе Флоренс Баркли «Розарий» (The Rosary), бестселлере 1909 года по версии The New York Times, героиня, простая женщина, влюбляется в мужчину-эстета, Гарта Далмейна (он предпочитает изящные одежды, особенно бледно-фиолетовые рубашки и алые шелковые носки)[623]. Флоренс боится, что она слишком стара и недостаточно хорошо выглядит для Гарта, но тот попадает в аварию и слепнет. Героиня выхаживает его, пока между ними не расцветает любовь. Иногда писательницы выбирали несколько иной подход: у героев обнаруживалась таинственная история о перенесенной в прошлом боли – возможно, печальном детстве, полном насилия; травме, полученной из-за эксплуататорского отношения. Подобные детали выполняли ту же самую функцию: служили оправданием «острым» проявлениям силы героя. В рамках подобного сюжета героиня должна была понять своего мужчину. Неисчерпаемость женского понимания и сочувствия гарантировала, что героиня завоюет сердце – и, конечно же, руку – героя. В недавнем бестселлере Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» помешанный на контроле красавчик-миллионер Кристиан Грей стал садистом, потому что получил эмоциональную травму из-за плохого обращения матери[624].
Казалось бы, более очевидным – и менее противоречивым – способом уравнять силы героя и героини в художественной литературе могло бы стать развитие женских персонажей. Мог ли жанр традиционного любовного романа пережить появление сильных героинь? Этот вопрос иногда пытались поднимать писательницы, не питавшие симпатий к слабохарактерным девицам. Но ответ не всегда радовал. Ведь Ретт ушел от неукротимой Скарлетт, а сообразительная и целеустремленная Эмбер у Кэтлин Уинзор не смогла добиться мужчины, которого действительно хотела. Чрезмерная сила просто казалась неженственной. Вслед за невероятно успешной книгой «Навеки твоя Эмбер» Кэтлин Уинзор выпустила интересный роман «Звездные деньги» (Star Money, 1950), который не пришелся по вкусу современникам писательницы[625]. Его сюжет в некоторой степени автобиографичен: книга рассказывает о жизни и отношениях привлекательной женщины, которая выпустила невероятно успешный роман и заработала на нем огромные деньги. Героиня стала звездой литературного мира, но от этого пострадали ее отношения с мужчинами, в том числе и потому, что она стала слишком богатой и слишком влиятельной по сравнению с ними. Ее успех будто бы подрывал мужское эго. «Никогда не забывай: мужчины всегда приравнивают богатство к мужественности», – предупреждает героиню романа ее литературный агент (тоже женщина)[626]. Вероятно, одной из причин, по которой эта книга канула в безвестность, стало то, что в 1950-е сильных женщин было не так уж много.
В конце 1960-х и в 1970-е жизнь женщин кардинально изменилась. В Великобритании появилось первое поколение девушек, которые воспользовались правом на получение полного среднего образования, – и они выросли намного более амбициозными. Именно эти женщины начали борьбу против гендерного неравенства и дискриминации при получении высшего образования и в профессиональной деятельности[627]. Растущая популярность оральных контрацептивов изменила отношение к сексуальности, позволила женщинам экспериментировать с отношениями без страха нежелательной беременности, которая в прошлом всегда была неизбежной угрозой.
Вплоть до 1970-х средний возраст вступления девушек в брак снижался. Все чаще браки заключались даже в подростковом возрасте, потому что девушки боялись остаться синими чулками, если им не удастся выскочить замуж к двадцати годам. Но в начале 1970-х тенденция изменилась[628]. В 1950–1960-х журналы для девушек сеяли тревогу среди читательниц, убеждая их в необходимости завести мужчину. «Не нужно выглядеть слишком независимой», «пусть он любит вас за вашу женственность», «позвольте ему все контролировать» – вот что советовал журнал Petticoat читательницам в 1966-м[629]. Но были и перемены. В журнале Honey молодая Cилла Блэк рассказывала, как изменилось ее мировоззрение благодаря тому, что она сделала карьеру певицы. В школе она боялась, что если не выйдет замуж до восемнадцати лет, то просто покончит с собой; теперь же она думала, что вступать в брак раньше тридцати пяти было бы просто безумием. «Деньги меняют отношение к любви, уж поверьте мне», – признавалась Силла[630].
Так обстояли дела в 1970-х. Двадцать лет спустя образ бессильной и безнадежно хрупкой девушки распадался на куски благодаря популярным героям вроде Баффи – истребительницы вампиров[631]. Можно предположить, что «девичья сила» начинала угрожать патриархальным устоям, но это было движение в правильном направлении: оно помогало девушкам наконец-то отказаться от пассивности и роли жертвы. В культовом фильме о взрослении, «Лабиринте» (Labirynth, 1986) Джима Хенсона, пятнадцатилетняя героиня Сара отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего маленького сводного брата, которого похитил король гоблинов[632]. Его роль исполнил Дэвид Боуи. Наряженный в очаровательные кружева, блестящую кожу и невероятно облегающие штаны, Боуи буквально излучает сексуальность. Он – плохиш, Принц Тьмы с байкерским шиком и нечеловеческой силой. Он кружит Сару в танце, и от избытка чувств девочка теряет самообладание. «Бойся меня, люби меня, делай, что я говорю, и я буду твоим рабом», – заклинает сладкоголосое создание. Но девушке удается сбросить чары, и она отвечает: «Моя воля не слабее твоей. Ты надо мною не властен». Эта сцена вдохновляла многих девушек[633].
Женщины постарше все реже сохраняли брак, если отношения умирали: количество разводов сильно увеличилось в период между 1971-м и 1985-м[634]. Разочарование и бессилие, страдания безвольных жертв мужских заигрываний и эксплуатации, наполнявшие романы авторов вроде Пенелопы Мортимер в 1950-х, двадцать лет спустя встречались все реже[635]. Роман Джеки Коллинз «Мир полон женатых мужчин» (The World is Full of Married Men, 1968) произвел серьезное впечатление на публику[636]. В нем по кирпичику разбираются двойные стандарты: женские герои романа – сильные личности, которые отказываются от роли жертвы и мстят Дэвиду, слабому и эгоистичному мужчине, неспособному хранить верность ни жене, ни любовнице. Многие называли эту книгу «грязной» и «аморальной», но она отлично продавалась в Великобритании и Америке, хотя и была запрещена в Австралии и Южной Африке.
В своих последующих книгах Коллинз еще продвинулась в описании женщин, способных в два счета расправиться с мужчинами, которые их предавали или стояли у них на пути. Отзывы в прессе показывают, что журналистам-мужчинам было сложно выразить свое мнение по поводу творчества Коллинз. Кристофер Уорд из Daily Mirror назвал ее роман «Любовницы-убийцы» (Lovehead, 1974) «приятной историей, в которой большая часть слов состоит из четырех букв, причем иногда это слова довольно грубые. История эта посвящена жизням трех проституток, которые кастрируют и убивают мужчин, встретившихся им в неправильное время в неправильном месте». После Уорд печально добавлял: «Я хотел бы сказать женщинам, что они совершенны, когда не моют посуду»[637].
В Daily Mirror тексты о Джеки Коллинз помещали рядом со статьями о том, что браки стали распадаться чаще. Причем именно жены подавали на развод, сообщал журналист Джордж Феллоус в 1977 году. Его текст разместили на развороте с большой фотографией Оливера Тобиаса, «крепкого жеребца» с оголенным торсом. Он сыграл в экранизации эротического романа писательницы «Жеребец» (The Stud, 1969)[638] – вместе с сестрой писательницы, Джоан. Но даже несмотря на то, что критики присвоили Коллинз титул «Королевы аморальности», она запустила новый тренд[639]. В 1970–1980-х сильные женщины с амбициями и желаниями стали все чаще появляться в романах разных писательниц.






