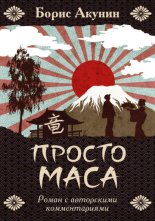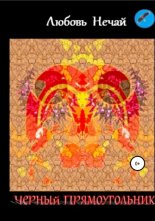Замороженный мир Емец Дмитрий

© Емец Д.А., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Мысль материальна. Но чем обеспечивается материальность мысли? Запечатлевается ли она на бумаге, остается ли в записях, затерявшихся в блоге, сохраняется ли в произнесенных и тотчас позабытых словах? Но если книгу не читают, если строки на экране не всплывают, то мысль как бы дремлет, ожидая своего часа, который, возможно, никогда не наступит. Так это или нет? Или все то, что действительно важно, никогда не потеряется, не исчезнет?
Из дневника невернувшегося шныра
Глава первая
Глиняная голова, медное пузо
Он огромен, как Вселенная. Все дороги ведут к Нему.
– Почему же Он не слышит наших молитв?
– Он слышит. Но исполняет лишь те из них, которые необходимы. Если бы наши желания сразу исполнялись, мы бы очень быстро охамели. Первое время как-то благодарили бы, с каждым разом все более и более кратко, а потом перешли бы на деспотический тон, как капризные дети со слишком мягкими родителями: «Принеси чай! Унеси чашку! Закрой за собой дверь!»
И тогда дальнейшее движение куда бы то ни было стало бы невозможным.
Из дневника невернувшегося шныра
Мокша Гай стоит на песчаном берегу реки у сосны, половина корней которой нависла над обрывом, и смеется. Колокольчиком заливается. Темные кудри его вздрагивают. Две вещи можно делать бесконечно: смотреть, как Мещеря Губастый работает кузнечным молотом и как смеется Мокша. Слушать его смех можно часами, и когда Мокша замолкает, всем хочется, чтобы он засмеялся снова.
Рядом с Мокшей стоит Митяй Желтоглазый и с недоумением смотрит вслед девушке, которая быстро идет, почти бежит, по дороге к деревне.
– Чего ты? Что она сделала? – с недоумением спрашивает Митяй Желтоглазый.
– Да ничего, – небрежно отзывается Мокша.
– Как ничего? Она к тебе подбежала, что-то в руку всунула – и тикать! – говорит Митяй.
Мокша разжимает ладонь. В руке у него цветок ромашки.
– Да вот, – пожимает плечами он.
– Ромашку тебе подарила? Зачем?
– А кто ж ее знает? Видать, девать некуда было! – ухмыляется Мокша и небрежно бросает цветок с песчаного обрыва.
Глупые они все, эти девушки! Ломаются, краснеют, притворяются, что не замечают тебя, смотрят издали или подходят близко. Молчат или болтают. Дразнят, обижаются, задыхаются от слез, требуют с тебя обещаний и обещают сами. Да, раньше это бывало приятно! Все эти темные ночи, дальние костры за рекой, звуки доносящихся песен. Но это было раньше! Эх, если бы Митяй и все остальные знали, насколько мало его теперь интересуют девушки и насколько больше удовольствия может доставить эльб! Зарываешься в него как в подушку или кладешь себе на грудь – и вот оно, настоящее блаженство, затапливающее, всецелое, о котором никто больше не знает!
Митяй смотрит на Мокшу с укором. Ему не нравится, что Мокша выбросил цветок.
«Ага, завидуешь! Небось тебе б ромашку подарили – ты б в нее клещом вцепился!» – думает Мокша снисходительно.
Митяй некрасивый, лицо широкое. Над переносицей смешные бугорки, редко поросшие бровями. Да и ведет себя Митяй с девушками глупо, неумело. Когда нужно согласиться и поддакнуть – начинает спорить. Когда нужно приласкать – дичится. А то просто сидит и молчит как сыч. Даже рябая дочь гончара, самая непритязательная из деревенских невест, не выдержала общества Митяя больше недели.
– Ой не могу! Моченьки моей нет! Лучше за пастуха кривого пойду, чем за этого! – сказала она как-то вечером матери.
– Тебя, балаболку, и кривой не посватает, – сердито отозвалась мать.
Ей Митяй нравился. Он целый месяц учился у гончара делать горшки. Порвется ли в последний момент неумело вытянутая стенка или лопнет в печи – Митяй только вздохнет и начнет все сызнова. Терпеливый. Только вот все выспрашивает, какую глину взять, чтобы горшок вышел побольше и попрочнее. Можно подумать, на века хочет горшок сделать. Да разве горшки бывают на века? Горшок – от ярмарки до ярмарки, сроду так велось.
Мокша идет в пегасню. Сегодня он собирается нырять на Игрунье. На Стреле Мокше нырять как-то неудобно с тех пор, как он отдал ее жеребенка эльбу. Конечно, Мокша ни в чем не виноват. Не он же его убил, но все равно как-то не хочется ему нырять на Стреле. Ну ее. Смотрит, глупая кобыла, будто что-то понимает и в чем-то его укоряет.
Теперь Мокша ныряет на Игрунье. Хотя разве это нырки? В последнее время он перестал пробиваться даже за Первую гряду. Даже на прииске Скал Подковы, где он прежде безмятежно засыпал под сосной на долгие часы, ему теперь жарко. Копнет десяток раз – и уже весь мокрый. Стоит дышит, вытирает пот.
Игрунья рада Мокше. Вскидывает голову ему навстречу, нетерпеливо переступает. Он треплет ее по шее. Быстро и умело седлает, взлетает – и вот уже несется к земле, ожидая мгновения, пока кобыла обхватит его своими крыльями и он сольется с ней в единое целое. Нырять Мокша не боится. Страшен ему был только первый нырок, когда он был уверен, что разобьется вдребезги. Дрожал, откладывал, трясся. Но тогда он верил Митяю. А сейчас дружба дала трещину. А все от зависти, которую испытывает Мокша. Он знает, что Митяй ныряет теперь ко Второй гряде и подолгу ее изучает. Возвращается измотанный, с запавшими глазами, ввалившимися щеками, но наполненный неведомыми тайнами. О своих открытиях ничего не говорит. Уронит порой что-то непонятное – и замолчит. Знает, что все равно не поймут. Есть вещи, которые может открыть только сама Гряда. Словами их не объяснишь.
И другие шныры ныряют пусть не так далеко, как Митяй, но тоже в Межмирье. И Тит Михайлов, и Маланья Перцева, и даже Кика Златовласый. Этот Кика злит Мокшу больше всех. Всякому известно, что пчела прилетела за Кикой по ошибке. Большего зубоскала во всем ШНыре не сыскать. И даже этот зубоскал Кика легко перелетает Первую гряду. Говорит, что в скальных трещинах сверкают искры живых закладок. Врет, конечно.
Ну зачем пчела призвала Кику? За какие заслуги? Был как-то Мокша на княжьем дворе, видел у персидского посла зверя диковинного. Имя тому зверю опица. На беса похож с хвостом, да только без рогов. Бегает по плечам у посла, кривляется, орехи грызет. Вот эту бы опицу скалозубую пчеле позвать вместо Кики – и то бы лучше.
Мокша летит по дряблому Межмирью. Другие обычно набирают здесь побольше воздуха, Мокша же, напротив, все больше привыкает к запахам болота. Если узнать их получше, они, пожалуй, даже приятны. Да, поначалу перехватывает дух, точно ты провалился в старую выгребную яму, слезу вышибает, начинаешь задыхаться, кашлять. Но это поначалу, а там эльбы такое тебе покажут, что уже не думаешь о вони.
Вот и сейчас, нырнув в проточину в болоте, Мокша осторожно втягивает ноздрями щекочущий запах – и сразу же видит своего врага Кику, который, прокравшись, старается подпороть ножичком кожу на новом седле Мокши. При этом Кика стоит очень неудачно. Достаточно ногой его слегка толкнуть, чтобы он опрокинулся. Правда, для этого нужно вытащить ногу из стремени.
Мокша усмехается.
– Ну не ослы ли? Вначале ногу из стремени, потом внушат, что нужно повод отпустить, – и вот ты уже засел в болоте! А там и Кика окажется не Кикой и высосет тебя до капли! – говорит он Игрунье.
Кобыла несется по проточине. Вокруг все кипит. Эльбы прилипли к стенкам серыми блинами. Некоторые паутинки протянулись поперек. Ну ничего, эти Игрунья разорвет грудью. Другие свободно трепещут в воздухе. Эти самые опасные. Они долго тянутся за тобой и как-то так вплетаются в твои мысли, что не отличишь, где свои, а где чужие. И не заметишь, как тебе покажется, что тоннель впереди искривился или навстречу несется другой шныр! Встречный, который с двушки возвращается! Дернешь в панике повод, чтобы не залипнуть, – и прямиком окажешься в болоте.
Но Мокша и такого обмана не страшится. Отличать свои мысли от чужих, охотничьих, Мокшу научил его эльб. Боится, как бы не засел Мокша в болоте, не достался его голодным братцам. Слишком еще зависим он от Мокши, слаб, человеческий мир ему непривычен. Ползает эльб еле-еле, за час едва одолеет полсотни шагов, да так устанет, что распластается по земле и дрожит.
Ожирелый, похожий на срез несвежего сала, эльб таится в старом бочонке в подвале. Мокша надеется, что никто в тот подвал не спустится. Подвал заброшенный, сырой, на стенках многолетняя плесень. Ночами Мокша спускается в подвал и сразу бежит к элю. Пальцы его трясутся от нетерпения. Эльб вначале посылает ему волну поощрения – не слишком сильную, чтобы не выжечь Мокшу, а потом уже учит его. С Мокшей он возится почти любовно. Хотя кто-то, возможно, скажет, что любовь – это деятельность, направленная на благо, а для эльба Мокша – и нянька, и добыча, и инструмент, и раб, и слуга. Точно царь с единственным подданным. Только от Мокши эльб зависит. Погибнет Мокша – погибнет и жирная медуза в бочке.
Но как быстро Мокша стал обучаться! Новые знания схватывает на лету. И тело его изменяется. Он может неделями не спать и не есть, а в кулачном бою дважды прошел сквозь стенку здоровенных приказчиков из мясного ряда, не пропустив ни одного удара, даже не взмокнув. И долго потом лицемерно благодарил пыхтящего, многочисленными ссадинами покрытого Гулка Ражего за то, что тот его «оборонил».
Игрунья спешит, загребает крыльями как веслами, взмокла вся от усилий. Ей не нравится, что хозяин то и дело намеренно задевает паутинки ладонью и при этом хохочет как безумный, наслаждаясь тем, что не поддался на ловушки эльбов. Игрунья – пег. Ею управляют простые инстинкты. Есть, спать, избегать опасностей, зачать и сохранить жеребенка. Болото для нее смерть, и разбираться в его тайнах она не пытается.
Но вот уже впереди забрезжила светлая точка. Игрунья издает радостное ржание. Она выходит из тоннеля, оказывается у накрененных сосен в предрассветье и нетерпеливо устремляется к гряде, где на горных полянах такая вкусная трава, но Мокша властно натягивает поводья, и, ощутив боль от удил, кобыла повинуется.
Они садятся. Тут тускло, темно, и запахи болота сильны. Это еще явно и не двушка, а какое-то предожидание. Точно холодной зимой видишь набухшую на ветке почку. Почка уже чувствует весну, а ты еще нет.
Мокша стреножит Игрунью и привязывает ее к кривой сосне с сухой вершиной. Сосна так устала тянуться к центру мира, что высохла. Живых сосен здесь единицы, они начинаются дальше. Мокша задумывается. Что-то у него не стыкуется. Значит, прежде света тут было больше, если сосны вообще смогли вырасти? А если больше, то получается, что болото наступает? Интересно, прав ли Митяй, когда утверждает, что и сюда когда-то хлынет прорвавшийся из-за гряды свет, а не только далекие его отблески?
– Вечно Митяй… «Митяй сказал», «Митяй сделал»… Да пошел он! – недовольно морщится Мокша, не замечая, что разговаривает сам с собой.
Он медленно прохаживается по земле, покрытой хвоей и отслоившимися кусками коры. Здесь приграничье, и как во всяком приграничье – острое ощущение тревоги. Разделяющая черта между двушкой и болотом – странная черта. У нее свои законы. Например, невозможно коснуться границы. Ощупать ее как стену, как реальную преграду. Границу можно преодолеть только с разгона, иначе будешь бесконечно вдвигаться в ночь, все более густую, непроглядную, но стены так никогда и не коснешься, не нашаришь.
Мокша долго не понимал, как такое может быть, – что граница есть, а ее нет, – пока Сергиус Немов не объяснил ему.
– Смотри! – сказал он, поводя длинной тощей рукой сверху вниз. – На пеге ныряешь, в землю врезаешься – где ты?
– В дряблом мире!
– А если просто землю лопатой копать? В том же самом месте!
– Колодец! – отвечает Мокша.
– Куда колодец? В дряблый мир?
– Да нет, просто колодец. Темно, мокро, вода сочится.
– Вот и на двушке то же самое. На пеге летишь – в следующий мир переходишь, а оттуда в наш возвращаешься! Пешком идешь – так и будешь вечно брести. Темно, сосны больные торчат, а дальше, наверное, и вовсе сосен нет.
– А пег почему этот участок минует? – пытается все понять Мокша.
– Пеги нас сразу в предрассветье переносят. Не любят они во мглу эту летать. Чуют они там что-то.
– Разве на двушке может что опасное быть?
– Да кто его знает, что там в ночи водится! Там, конечно, двушка, но вроде как и к болоту уже близко, – отвечает Сергиус.
Сейчас Мокша долго переминается с ноги на ногу, размышляет, а затем решительно идет в сторону болота. Так решительно идет, что всякий бы ощутил, что настоящей решимости у него нет, и цели тоже. Скорее страх, что он потеряет Игрунью, не сможет вернуться и навсегда останется в этой зябкой ночи, вдали от своего дарящего пьянящее счастье эльба.
Но все же Мокша шагает, сам не зная зачем. Тьма сосет. Он ничего уже не видит, хотя напрягает зрение, и каждую секунду ему кажется, что он сорвется с крутого обрыва в пропасть. С какого обрыва? В какую пропасть? Это, конечно, бред, но все же Мокша шарит перед собой руками и, нервничая, облизывает губы.
Сосны становятся все реже, почти исчезают, но все же временами он наталкивается на поваленные стволы и торчащие из земли пни. Уже после полусотни шагов Мокша борется с желанием повернуть назад. Странная история! Вроде бы ты уже твердо считаешь себя частью болота, но одновременно так и тянет тебя двигаться к рассвету, туда же, куда тянутся и вершины сосен.
– Надо отдохнуть! – говорит себе Мокша и ложится на землю. При этом он старается улечься головой к болоту, чтобы ноги смотрели в сторону, где он оставил Игрунью. Так проще будет найти дорогу назад. Под ним пружинистая хвоя. Мокша закрывает глаза. Одно ухо его лежит на хвое, улавливая все звуки. Что-то скребется, шуршит. Где-то трутся ветви.
А потом Мокша начинает слышать голоса. Тихие, бормочущие. Голоса уходят в ночь. Слов разобрать нельзя. Мокша отрывает ухо от хвои. Голоса пропадают. Опускает ухо на хвою. Голоса возвращаются.
Наконец он понимает, что это эльбы разговаривают с ним из болота. В неразличимых их голосах – зависть. Мокша чутко улавливает ее.
– Пусть я и на краю двушки, но я на двушке! Они бы тоже хотели пробиться сюда, или на худой конец меня к себе затащить! – говорит он себе и засыпает под шорох далеких голосов.
Вечером Мокша возвращается в ШНыр. Оврагами летит, к лесным вершинам липнет, чтобы не перехватили его в небе чьи-нибудь случайные глаза. Только самого ШНыра чужакам видеть нельзя. Взглянут издали и, если чудом и заметят крышу, мигом потеряют интерес. А вот крылатую лошадь в небе углядеть – дело иное. Ладно бы просто смотрели. А был уже случай, как из лука кто-то выпалил по Гедемину. Померещилось сокольничему князя, что смерть за ним прискакала на вороном красноглазом коне. Черные крылья распростерла. Ну он и пустил стрелу. Хорошо еще, промазал с перепугу, только маховое перо жеребцу подломил.
Пустырь, где они не так давно отстроились, больше не кажется шнырам безопасным местом. Кругом все кипит, заселяется, глотает Москва пустошь за пустошью. Беспокойно тут стало. Принял решение Митяй, что переселятся они за дремучие леса, подальше от городских стен. Редко там кого встретишь, надолго оставят их в покое. С Сергиусом Немовым переговорил, с Титом Михайловым, с Мещерей Губастым совет держал. Выслушал ворчание Фаддея Ногаты, которому хоть самородок золотой дай, а все равно доволен не будет – только в тряпочку его завернет и глазом из-под бровей зыркнет. Час-другой посидит как сыч, а после окажется, что и самородок не такой, и тряпочки нынче дороги.
Но все же сдвинулось уже что-то, и потихоньку, украдкой постукивают на новом месте топорики. Скоро все будет, скоро. Пока же основная шныровская база еще на пустыре. Издали видит Мокша несколько прижавшихся друг к другу крыш. Как же мал еще ШНыр! С земли за несколько минут его кругом обойдешь, а с неба и вовсе пальцем прикроешь. А вот самих шныров с каждым годом все больше. Гудит пчелиная колода, вылетают из колоды золотыми искрами новые пчелы, каждая ищет себе хозяина. Нет-нет да и постучит в ворота ШНыра новый человек. А то и постучать не осмелится – стоит и смотрит издали, а подойти страшится. Фаддей ему строго:
– Чего явился? Чего у нас забыл? – Он любит новичков-то пугать!
А тот пугается, бормочет что-то невпопад. Мол, искал я, дяденьки, корову, а тут пчела на руку мне и сядь! Прихлопнуть хотел – не прихлопывается. В печь сунул – ей опять ничего, а только вертится и точно куда меня зовет.
– И ты за ней, что ли, пошел?
– Да, дяденьки! Пошел!
А дяденькам-то самим чуть за двадцать. Разве что Фаддей бородой оброс, старше кажется.
А некоторые новички и вовсе не догадываются за пчелой идти, так себе и живут. Делать нечего: посылает за ними Митяй Кику Златовласого и Гулка Ражего. Хороша парочка! Кика врать мастак. Рта часами не закрывает. Любую торговку с рынка переговорит: она слово – а он ей десять. Гулк же – измятый, мрачный – сидит на лавке, подсунув под себя руки, сам ни гугу и только через перебитый нос воздух втягивает. Сколько уж раз их за разбойников принимали. У ночных гостей вечно так: один болтает да высматривает, а другой кистенем машет.
Поначалу Фаддей Ногата выживал новичков, ругался, утверждал, что не прокормить им такую ораву, но Митяй сказал: «У тебя вечно то рожь дорогая, то репа не уродилась!» И Фаддей уступил. Теперь многие новички уже сами ныряют, а кое-кто и закладки приносит. А вот Мокша… Эх! даже думать об этом страшно! Кулаки сжиматься начинают!.. Не пускаешь меня за гряду? Ну и не пускай! Попомнишь еще меня!
И опять любовь, зависть, ненависть к Митяю, к двушке, ко Второй гряде сливаются в единое, страшное, уродливое чувство, затягивается тугой сердечный узел. Никогда его уже не развязать.
Мокша отводит Игрунью в пегасню и, едва стащив с нее седло, бежит к своему эльбу за утешением. Страсть несет его. Себя он не помнит, точно и не он это. Ложится на постеленный у бочки лапник и вываливает эльба себе на грудь. Эльб рыхлый, тяжелый, в подвале вонь – но все это имеет значение лишь в первые секунды. Потом забвение и – жгучее, тошнотворное, стыдное, но счастье!
Наконец Мокша возвращает эльба в бочонок и идет на реку купаться. Ныряет, трется песком, полощет рубаху. А то Маланья Перцева в последний раз долго принюхивалась, подозрительно косилась. Потом сказала:
– А, так вот куда он делся!
– Кто? – не понял Мокша.
– Да утром у пегасни крот дохлый валялся. Раскис весь, близко не подойдешь. А теперь я поняла, кто его похоронил! Молодец!
Теперь Мокша старался тщательней мыться после своих объятий с эльбом. Вернувшись с реки, Мокша видит на пригорке Митяя. Тот сидит на солнцепеке, недалеко от колоды с пчелами, и палочкой что-то чертит на песке. Мокша присаживается на корточки. Видит голову-горшок, под головой огромный котел. Внизу ноги-оглобли, по бокам руки-коромысла.
– Что это? – спрашивает Мокша.
Митяй задумывается. Он не знает, как определить то, что нарисовал. Мыслей много, но они пока не сдружились между собой, разбегаются.
– Да вот! – говорит он смущенно. – Я у Второй гряды сегодня заснул!
– Где-где заснул? – быстро переспрашивает Мокша. В душе у него шевелится червячок неприязни. Выходит, пока он спал у болота, Митяй отдыхал у Второй гряды!
– И привиделся мне зверь не зверь, человек не человек! Второй раз уже приснился. Первый раз давно, когда я к гончару ходил. Сделать его теперь хочу! Пусть колоду с пчелами охраняет! – Митяй смотрит на свой рисунок, палочкой добавляя детали.
– От кого охраняет? – настораживается Мокша.
– Да мало ли что стрястись может. – Митяй созерцает свой чертеж. Добавляет длинный, во весь горшок рот и два выпуклых глаза. – Я назову его как то чудище, которым детей пугают! «Доедай, сынок, кашу! Не доешь кашу – тебя котел проглотит!»
– Горшеня, что ли? В сказке все не так, – возражает Мокша, но Митяя не переупрямишь.
– А мне так рассказывали! – не соглашается он. – Мой Горшеня тоже будет всех глотать! Я знаю, как сделать, чтобы он ожил!
Митяй нетерпеливо потирает руки. Ему приятно представлять, как его здоровенное чудище будет всех хватать руками-коромыслами и как все будут с визгом разбегаться. Он веселый, Митяй, любит всякие озорства не меньше Кики.
– И как ты его оживишь? – спрашивает Мокша. Вроде бы недоверчиво спрашивает, но недоверие его с трещинкой. С Митяем вечно так: у него слова с делами не расходятся.
– Оживлю! – убежденно говорит Митяй. – И глину, и руду медную на двушке возьму, у Второй гряды. С глиной все просто, а вот с рудой побольше возни будет. Ее выплавлять надо. Да, может, там же и выплавлю, где волшебные фигурки выплавлял. Управлюсь! – Он опять утыкается в рисунок.
– А как ты котел с двушки перевезешь? Он же огромный будет! – спрашивает Мокша.
– Это верно, – соглашается Митяй. – Тогда я только медь на двушке выплавлю, а котел уже здесь отолью. Потому что руду с собой таскать не дело. Из мешка руды меди, может, с три кулака выплавится, а пегу этот мешок хребет сломает! – Митяй горкой насыпает песок, придавая своему рисунку объемность. – Котел и голова – это навеки! – говорит он с гордостью.
Мокша и здесь пытается отравить его счастье:
– А коромысла и оглобли?
– Ну эти, ясное дело, изотрутся. Ну да поменять дело нехитрое. И хорошо бы еще в тулуп бараний его одеть. Пусть и зимой и летом в тулупе ходит! А со временем не мы, так другие тулуп этот поменяют.
– А мы почему не поменяем? – ревниво спрашивает Мокша.
– Да как же? – удивляется Митяй. – Не просто же так пчелы новых и новых все время зовут. Нам не вечно жить. И после нас нырки не прекратятся!
Мокша ударяет по песку. Песок осыпается.
– Эй! Осторожно! Ты стираешь рисунок! – огорченно восклицает Митяй.
– Не хочу стареть! Не хочу свое место никому уступать! Всегда хочу жить! – говорит Мокша.
Челюсть у него дрожит, голова вскинута, в глазах слезы. Митяй смотрит на него с удивлением.
– Но послушай! Если ты не постареешь и не умрешь, то потом не оживешь! Слышал, что в церкви говорят? – возражает он.
– А вдруг это ложь, что мертвые когда-то из праха восстанут? А если их, как деда моего, медведь заел? По лаптям только и узнали. Из медведя он, что ли, возродится? Я хочу быть вечным прямо сейчас! Вовсе не умирать! – упрямо повторяет Мокша.
И ему, и Митяю еще очень далеко до старости, но Мокша уже сейчас ее ненавидит. Не хочет ковылять, охать и держаться за поясницу. Мокша очень дорожит своей внешностью. Еще в детстве ему казалось, что если на зубе у него будет хоть пятнышко, то это все, конец. Дальше и жить не надо. А вот Митяй, кажется, и не подозревает, что о теле нужно постоянно заботиться. Он как-то помимо тела живет, разве что кормит его по необходимости.
– Не умирать? Но ведь это была бы не настоящая вечность! – возражает Митяй.
– Как – не настоящая?
– Сам подумай! В настоящей вечности мы сможем ходить по воде. Не будем бояться огня. Будем говорить с животными и птицами на их языке! Скажешь соколу: прилети – и вот он сидит у тебя на руке! Но для этого нужно довериться… раствориться до полного забвения… Полюбить что-то больше, чем любишь себя!
Митяй нашаривает слова старательно. Шевелит пальцами. Он не оратор. Но Мокша понимает все с полуслова. Вбирает жадно и все запоминает.
– А вдруг так не будет? – спрашивает Мокша. – Вдруг это все сказки?
– Не сказки! Не знаю, как объяснить, но я чувствую, что все так и будет! Ну как если бы я стоял на высоком пне. Ты сказал бы «Падай!» – и я стал бы падать затылком вперед, зная, что ты меня подхватишь, потому что это ты сказал!
Мокша смущается. Он и не подозревал никогда, что Митяй настолько ему доверяет.
– А твоя вечность была бы такой? С языком птиц? С хождением по воде? – спрашивает Митяй.
– Да меня бы любая устроила! – отзывается Мокша. – Но прямо сейчас! И чтобы не умирать!
– Но ты же знаешь, что есть двушка и Вторая гряда! – удивляется Митяй. – Ты сам их видел! Своими глазами! Через болото проходил! Тебе-то как не верить?
Мокша хмыкает:
– Болото есть. Вторая гряда тоже. Но на ней камешками не выложено, что я оживу и пойду по воде.
– Оживешь! – обещает Митяй. – Я же тебе рассказывал! Там за грядой однажды вспыхнет новое солнце. И будет оно как белый прозрачный огонь. Разольется он волной высокой, неостановимой. Затопит накрененные сосны, испепелит болото и перейдет оттуда и на наш мир. И будет этот огонь живящим, обновляющим. Костей коснется – оживут. Праха коснется или даже вод морских – и оттуда поднимутся. И будут одни страшно этого огня бояться и заслоняться от него, а другие станут ему радоваться. И будет он им как ветер прохладный.
– Это как огня не бояться? Ты не боишься? Сунь палец в печку! – коварно предлагает Мокша.
– Сейчас – да, сгорит, и уголька не останется, – соглашается Митяй. – А потом не сгорит! Знаешь, какими мы становимся, когда границу миров проходим и пег нас крыльями обнимает? Я как-то шильце с собой взял, в ногу себя кольнул – так согнулось шильце. Понимаешь? Шило согнулось! Значит, и стрела бы меня в эту секунду не пробила, хоть в полный натяг бей.
Мокше становится досадно, что до опыта с шилом первым додумался Митяй, а не он. Митяй вечно так: подумал – и сделал. Причем так, мимоходом. Даже ведь и не рассказал никому, только сейчас упомянул, потому что к слову пришлось.
– Так что же там, за Второй грядой? – спрашивает Мокша, желая узнать точно и наверняка. Он задавал этот вопрос часто, но есть вопросы, ответы на которые хочется слушать бесконечно.
– Замороженный мир. Мир, напрягшийся в ожидании.
– И чего он ждет?
– Нас. Пока мы будем достойны. Такой прекрасный, что описать его нельзя, потому что это будут слова нашего мира. Ну как можно описать запах тому, кто никогда не имел носа? Или зрение, если ребенок родился без глаз?
Мокше не нравится название «Замороженный мир». Какой же он замороженный, когда он живой, трепещущий? Но Митяй так сказал. Видимо, «замороженный» это как Спящая красавица из сказки. Хочешь не хочешь, а представляешь ее покрытой легкой изморозью. Пока не коснешься губами – не пробудится. Хотя бабочки вон летают же из-за Второй гряды, не спят.
Митяй смотрит на поврежденный Мокшей рисунок, берет палочку и там, где медное чрево великана оплыло от стекшего песка, рисует большую дугу, делая его живот еще круче.
– Теперь здесь и двое, и трое поместятся! И еще такая штука! Мой Горшеня будет глотать только тех, кого любит!
– Почему? – спрашивает Мокша.
– А потому что внутри у него будет спрятана тайна! – загадочно отвечает Митяй.
Тайна внутри Горшени захватывает Мокшу. Ему тоже хочется стать ей сопричастным. Хочется радоваться этой тайне, радоваться Горшене, золотым пчелам, быть вместе с Матреной, с Титом Михайловым, с Сергиусом Немовым! Ничего ни от кого не скрывать, стремиться к чему-то огромному, светлому, дарящему надежду… Он так бы и жил, но что-то ему мешает.
– Слушай, Митяй! – говорит Мокша, испытывая внезапное искушение. – А вот представь, что перед тобой лежал бы эльб – маленький такой, беззащитный. И тебе надо было бы ударить его лопатой! Ты бы ударил?
Митяй не раздумывает:
– А кто велит?
– Ну, допустим, двушка.
– Ударил бы, конечно!
– Но почему?!
– Без «почему». Раз двушка велит лопатой – значит, надо лопатой. Тут нельзя рассуждать, и жалеть нельзя. Иначе запутаешься. А там порыв ослабнет – сдуешься, дашь себе мозги закрутить – и вот тебя уже сожрали.
– Да! – говорит Мокша. – Мозги закрутить. Это ты верно.
Мокша представляет, как вытряхнет из бочонка сытого эльба. Как возьмет лопату, размахнется и разом со всем покончит. Может, позвать с собой Митяя? Рассказать ему всю правду. Конечно, это будет стыдно, но Митяй поймет. И эльбу тогда уж не отвертеться. Конечно, Мокше будет потом плохо. Все его дары исчезнут, но со временем он опять сможет нырять, как и прежде. Сосна за сосной, шаг за шагом – все ближе к сердцу двушки! Ведь и сейчас двушка его впускает.
Мокша уже открывает рот, но что-то мешает ему произнести слова признания. Стыд! Нет, он справится с эльбом сам! Не надо, чтобы другие узнали. Ведь и Кика тогда пронюхает, станет дразнить… Мокша люто ненавидит его в эту минуту. Ему кажется, что не будь Кики, он давно бы уже прикончил эльба и давно был бы уже за грядой. Он и Митяй! Они летели бы вместе! Или даже Митяй чуть позади, а он, Мокша, чуть впереди!
Простившись с Митяем, Мокша мчится в подвал. В руках у него лопата. Решительным пинком опрокидывает бочонок. Эльб вываливается из него, рыхлый и слабый. Ему и одного тычка будет довольно. Эльб понимает это и не шевелится, не пытается уползти. Мокша смотрит на него, представляя, как сейчас его прикончит. Давно пора уже ударить, а он все медлит, мнется, облизывает пересохшие губы, а потом, без всякого заметного перехода, почти без внутреннего сопротивления, ложится прямо в грязь и опускает эльба себе на грудь.
Потом встает и, шатаясь как пьяный, бредет в пегасню. Гулк Ражий лежит на соломе у входа и храпит. Хорош сторож! Когда Мокша переступает через него, Гулк начинает приподниматься.
– Кто здесь? – спрашивает он, тараща глаза.
– Просыпайся! Работать пора! – кричит ему Мокша.
Гулк тупо смотрит в темноту и падает как подкошенный. «Просыпайся!» – лучшее усыпительное слово. Если хочешь, чтобы человек спал, – произнеси его.
Мокша заходит в пегасню и, натыкаясь в темноте на морды пегов, идет к Игрунье. Седлает на ощупь. Потом выводит Игрунью и летит навстречу луне как ночной мотылек, а с ним вместе к той же луне, кружа, летят и настоящие ночные мотыльки. Для них луна – это возможность встретиться друг с другом. Для Мокши… Он и сам не знает, зачем и куда сейчас летит. Что-то ведет его. Впервые в жизни он чувствует себя лишенной воли марионеткой.
Когда нужная высота набрана, Мокша припадает к шее Игруньи и чуть ослабляет поводья. Игрунья складывает крылья и начинает скользить вниз. В груди Мокши все замирает. Он не видит земли и боится разбиться. К счастью, Игрунья обхватывает его основаниями крыльев, и, в последний момент обретя плотность, он ухает в землю как в трясину.
Болото проходит легко – и вот он уже на двушке. Игрунья с радостным нетерпением устремляется к гряде, но Мокша натягивает поводья и направляет кобылу к земле. Игрунья упрямится, но Мокша прижимает ее к соснам. Почти брюхом укладывает на склоненные вершины. Здесь он разворачивает Игрунью и медленно, чтобы она не ушла в обратный нырок, начинает подводить ее к болоту.
Они летят из рассвета в ночь. Вдвигаются в полумрак. Игрунья упрямится, похрапывает, пытается развернуться. Мокша больно и сердито бьет ее пятками. Жалеет, что не взял с собой хлыст. Они летят над теми мертвыми землями, где накануне утром он шел пешком. Здесь уже царство ночи. Запахи болота усиливаются.
Игрунья окончательно перестает его слушаться и садится. Привязать кобылу не к чему. Еле-еле Мокша находит какой-то трухлявый пень. Игрунья нервничает, прядет ушами, переступает копытами. Мокша поглаживает ее по шее, успокаивает. Кобыла мелко дрожит.
– Чего ты боишься? Нет тут никого! – говорит ей Мокша.
Не доверяя пню, он с особой тщательностью привязывает кобылу, дополнительно стреножит и закрепляет на крыльях путы.
– Жди меня! Я скоро! – обещает он, в качестве утешения ослабляя кобыле подпруги. Ему слегка неловко перед Игруньей. Нырок на двушку для пега всегда праздник. Здесь можно попастись, поваляться, искупаться в реке – а он посадил ее в холодном темном лесу, да еще всю опутал.
Игрунья тянет ему вслед морду. Ржание ее полно боли и беспокойства. Мокша даже оглядывается, проверяя, не случилось ли чего:
– Да что с тобой? Успокойся!
Мокша идет в сторону болота. Вокруг тот же сгущающийся, сосущий глаза сумрак. Тревожно, тускло, мертво. Мокша то бежит, то переходит на крупный шаг. Он сам не знает, чего ищет.
Внезапно он слышит жалобный призыв Игруньи. Это зов животного, которому грозит гибель. Мокша мчится к ней. Игрунья хрипит и бьется, вслепую лягая копытами тьму. На Мокшу она в панике налетает боком и сшибает его с ног.
Мокша вскакивает. Позади, во мраке, откуда он только что прибежал, мелькают две серые тени. Тени, припадая к земле, крадутся к ним. Мокша хватает с земли несколько камней и, усилив бросок фигуркой льва на нерпи, швыряет их один за другим. Попал он или нет, непонятно – но тени подаются назад и припадают к земле.
Мокша пытается отвязать поводья от пня, но Игрунья так затянула их, что он обрубает их ножом. Освобождает от пут крылья и передние ноги. Кобыла больше мешает, чем помогает. Начинает загребать воздух правым крылом еще до того, как он окончательно стянул путы с левого. Мокша кричит на нее. Запрыгивает животом в седло, кое-как стягивает путы. Ужас кобылы передался и ему. Эти две серые тени – сама смерть. Как-то он угадывает это.
Игрунья взлетает. Она торопится, работает крыльями до выгиба перьев и даже в воздухе не успокаивается. Мокша оборачивается – и опять видит серые тени. Они тоже взлетели и, держась редких вершин, следуют за ними все с той же вкрадчивой решимостью. Так же зимой тащатся за лошадьми голодные волки. Бегут вдоль дороги, проваливаясь по брюхо в снег, изредка воют. Вкрадчивые, трусливые, в равной степени готовые и убить, и убежать.
Мокша торопит Игрунью, толкает ее пятками. Отрезанные поводья мешают ему.
– Давай, родная! Поднажми!
Игрунья ускоряется. На боках у нее выступает пена. Седло, подпруги которого так и не были подтянуты, начинает скользить. Серые тени понемногу отдаляются. Игрунья мчится вперед. Кажется, что далекая Первая гряда дает ей силы, в то время как у серых теней силы она отнимает. Здесь, при свете, они становятся беспокойнее, трусливее. Мокша ощущает, что должен и дальше держать тот же курс к гряде и тогда тени окончательно вернутся в свою ночь. Но, увы, пот заливает и щиплет глаза. Он дергает куртку на груди. Жарко!
Мокша взглядом оценивает расстояние до теней и, внезапно повернув Игрунью, прорывается в болото. Уже в тоннеле он оглядывается. Мокша уверен, что отвязался от серых теней, но неожиданно видит их опять. Охотничья паутина едва не выбрасывает его из седла. Игрунья обрывает ее крылом. Больше Мокша не смотрит назад, а когда прорывается в свой мир, то серых теней за ним больше нет.
Мокша успокаивается. Он испугался, что привел серые тени за собой, указал им дорогу. Он возвращается в ШНыр и старательно выбрасывает все из головы. А через несколько дней кто-то начинает резать в округе скот.
Коровы лежат раздувшиеся, как шары, с выеденным горлом. И мертвые овцы белеют на лугу. А однажды находят и мальчишку-пастуха. На руке у него совсем небольшой укус, но сам он так же страшно распух, как и овцы с коровами. Люди начинают беспокоиться, роиться, как пчелы. Мужчины ходят с дубьем, с самопалами, с пиками, а вскоре распространяется слух, что на боярском дворе за рекой застрелили неведомое чудище. Хотело оно на коней напасть, да дозорный не сплоховал – всадил стрелу в бок до самого оперения.
Любопытный Фаддей Ногата отправляется на боярский двор смотреть чудище. Мокша увязывается с ним. Они долго идут лесом, переходят реку по деревянному мосту. Мокша хмуро думает, что когда-нибудь эта речка пересохнет. Сейчас она бодрая, веселая, с одного берега заросшая, а с другого – глубокая и быстрая. Шестом дна не нашаришь.
Неведомый зверь лежит на дворе. Вокруг него множество зевак. На Фаддея и Мокшу никто не обращает внимания. Они подходят и присоединяются к толпе.
– Гля, дяденька, волк! – подает голос какой-то малец.
– Протри глаза! Разве у волка морда такая? – назидательно гнусит Фаддей. Он так пузат, так коротконог, волос в редкой бороде так толст, что его зовут дяденькой едва ли не с семнадцати лет.
Хоть мертвый зверь и похож на волка, морда у него плоская. Челюсти мощные, а зубы такие, что бедро коровье разгрызут. Внутри зубов бороздки, из которых сочатся желтоватые капли. Яд! Мокша вспоминает мертвых овец на лугу.
Зеваки смотрят больше не на зубы, а на кожистые крылья. Одно из них сломалось при падении. Кто-то раздвигает зевак. Мокша узнает писца Антипу с гостиного двора. Носик у писца длинный, подвижный, на щеке родинка – точно вечная клякса. Антипа садится на корточки, глядит. Заметно, что он поражен не меньше прочих, но не хочет этого показать.
– Это что за диво! Вот в Индии-стране живут люди-псоглавцы. Ездят на огнедышащих петухах, и зовутся те петухи «стравусы», – говорит он.
С начитанным писцом никто не спорит. Все смотрят на мертвого зверя.
– Зверь сей именуется «грифон»! – продолжает вещать Антипа. – Историк Каллисфен рассказывает, как Александр Македонский, царь премудрый, поймал двух грифонов великих, сильных, как кони. Не кормил их два дня, а после привязал к корзине. Сам же в корзину сел и принял от слуг в руки копье с нанизанным мясом. Полетели грифоны за мясом, и царя в корзине на небо вознесли. И до тех пор поднимался Александр, пока не встретил в небе птицу, возвестившую ему человеческим голосом: «Не зная земного, как можешь ты узнать небесное?»
На обратном пути Фаддей озабоченно бормочет, что не иначе как из болота прорвалась такая тварюга.
– Почему из болота? – спрашивает Мокша.
– А откуда ж еще? Зла уж больно на вид. В мертвом-то мире, чай, тоже звери обитали когда-то. А как мир схлопнулся – тут уж они разлетелись кто куда… Некоторые, может, и на двушку юркнуть успели и затаились, где потемнее.
– На двушке раньше Первой гряды животных нет, – быстро говорит Мокша.
– Это мы думаем, что нет. А там кто знает… Пеги недаром из нырка выходят, где посветлее, в самый-то мрак никто не суется, – гудит Фаддей.
– И почему двушка приняла зверюг из болота? – не понимает Мокша.
– Да кто ее знает… Не звери виноваты, что болото схлопнулось. Отчего бы двушке не принять хотя бы некоторых? Не за гряду, конечно, а где-то у края, где потемнее.
Мокша жадно слушает, стараясь не выдать своего интереса. Голова Фаддея – настоящий клад. Там, где Митяй ощущает все сердцем, Фаддей головой постигает, логикой додавливает. А вот сердечного ума у него мало. Прохладен он слегка.
– Хорошо еще если одна такая чудища прорвалась, а то начнут шастать, пегов резать… Тут как с лисой! Если хоть одна в курятнике побывала, дорожку проложила – не живать тут курам вовек, – продолжает Фаддей.
Мокша вспоминает вторую серую тень и прикусывает губу. Однако мертвый скот находить перестают. Пропадет порой овца-другая – ну так это и волки зарезать могли. Жизнь продолжается.
Глава вторая
Девушка с двухцветными волосами
Сегодня Ул и Афанасий долго спорили, зачем военным в прошлые века нужна была такая красивая, но непрактичная парадная форма, требующая постоянного многочасового ухода. Афанасий называл это бессмыслицей. Ул же утверждал, что все это нужно для того, чтобы оторванный от дома, ощущающий себя неуютно человек, вычищая пуговицы мундира, кивер, кирасу, имел постоянную заботу и занятие. Это спасало его от уныния. Форма становилась видимой частью его души. А в более широком смысле: если у человека в комнате грязь и пыль – то и душа у него тоже в неуюте, путанице и тоске. Даже не думал, что Ул – это наш чудо былиин-то! – умеет понимать такие вещи.
Из дневника невернувшегося шныра
Сашка лежал щекой на диване и смотрел на окна дома напротив. Дом был погружен во мрак, однако подъезд угадывался по голубому ровному свечению, которое шло от второго этажа и до самой крыши. Этой линией дом четко разделялся надвое.
Четкая прямая линия напоминала Сашке его отца. Отец злился, когда не выпьет. И злился, когда выпьет. Но между двумя этими раздражениями пролегала такая же светлая полоса, как эти лампы в подъезде с первого этажа по девятый.
Пол в Сашкиной комнате слегка вздрагивал. Это отец ходил по кухне. Хлопал дверцей холодильника, включал телевизор, бестолково перещелкивал каналы. Сашка чувствовал, что отец мается. И заранее знал, чем завершится эта маета. Отец отправится к соседу с пятого этажа и вернется домой часа через два. Будет натыкаться на стены, включать и выключать свет, зайдет к Сашке, тупо постоит, что-то пробормочет и уйдет. Потом ляжет спать. А утром встанет и пойдет на работу.
Сашка жил дома уже неделю. Если точнее – дней десять. Но ему казалось, что целую вечность. Общения между отцом и сыном не получалось. Они пытались разговаривать, но через десять минут все заканчивалось ссорой.
«Что, вышибли тебя? Ну иди работай! Чего дома сидеть?» – говорил отец.
Сашка вскипал оттого, что ничего нельзя объяснить. Ни про ШНыр, ни про другое. Для отца он был просто неудачником, который даже среднего образования не смог получить.
«А ты не пей!» – срывался Сашка.
«Заткнись! Ты не видел еще, как пьют!» – отрезал отец.
И правда – так, чтобы совсем, отец напивался редко. По подворотням не шастал. В вытрезвитель не попадал. На работе на нормальном счету. И вообще у отца все хорошо. Это у его сына все плохо.
«Где твой диплом об окончании школы? Ну, покажи мне его! Давай!»