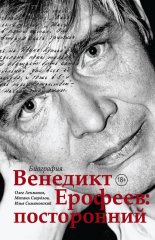Бельканто Пэтчетт Энн
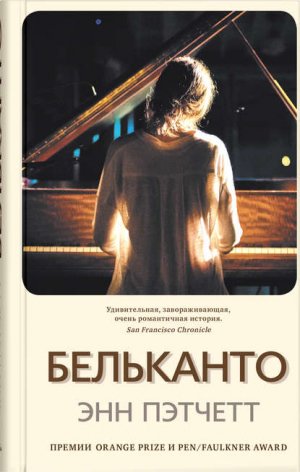
Никто из лежащих на полу руки не поднял, поэтому все решили, что докторов среди гостей нет. Но это была неправда. Доктор Гомес лежал на спине в столовой, и его жена больно впилась ему в бок накрашенными ногтями. Доктор Гомес оставил практику много лет назад и стал больничным администратором. Интересно, когда он в последний раз зашивал человека? По специальности он был пульмонолог, так что последний раз протаскивал нитку сквозь человеческую кожу во времена ординатуры. В этом смысле он был не более квалифицированным, чем его жена – любительница вышивать крестиком. Еще не сделав ни единого стежка, доктор Гомес прекрасно видел последствия: наверняка возникнет инфекция; нужных антибиотиков под рукой не окажется; позже рану все равно придется вскрывать, выкачивать гной, зашивать заново. И не чью-то рану, а вице-президентскую. Доктор поежился. Ничего хорошего ждать от этого дела не приходится, ответственность возложат на него, а потом все просочится в прессу. И может получиться так, что он, директор больницы, сам того не желая, убьет человека. Доктор Гомес почувствовал, как у него дрожат руки. Он ничего не делал, просто лежал, а они уже тряслись. Разве можно доверить таким рукам зашивать человеческое лицо, оставить на нем шрам, который их ославит? Есть ведь эта девушка, которая спускается по лестнице с корзинкой под мышкой и кажется воплощением надежды. Она ангел! Он никогда не мог найти таких славных девушек для работы в больнице, таких хорошеньких девушек, умеющих столь изящно носить униформу.
– Вставай! – шипела жена. – Или я сама подниму твою руку!
Доктор закрыл глаза и тихонько покачивал головой, стараясь не привлекать к себе внимания. Пусть случится то, что должно случиться. Наложение шва не сможет ни спасти человека, ни убить его. Карта уже разыграна, и им ничего не остается, как только ждать исхода.
Эсмеральда передала корзинку Иоахиму Месснеру, но на свое место возвращаться не стала. Она открыла крышку, обитую с внутренней стороны пестрой, в розочку, тканью, из подушечки в форме помидора вынула иголку, достала моток черных ниток и вдела конец в иголку. Затем ловко откусила нитку и сделала аккуратный маленький узелок. Все мужчины, даже командиры, смотрели на нее так, словно она делала что-то сверхъестественное, такое, чего сами они никогда бы не смогли сделать. Затем Эсмеральда вытащила из кармана своей юбки пузырек протирочного спирта, опустила туда иголку с ниткой и несколько раз встряхнула. Она вспомнила про стерилизацию – простая деревенская девушка. Необычайная рассудительность! Она вынула нитку с иголкой, держа только за узелок, и протянула их Иоахиму Месснеру.
– Хм… – сказал он, сжав узелок между большим и указательным пальцами.
Затем последовала небольшая дискуссия. Сначала было решено, что оба должны стоять, затем – что вице-президенту лучше сесть, а еще через некоторое время – что ему следует лечь под настольной лампой, где светлее всего. Двое мужчин никак не решались приступить к делу – страшно было обоим. Месснер трижды протирал руки спиртом. Иглесиас думал, что лучше бы ему еще раз врезали прикладом. Наконец он улегся на ковер подальше от жены и детей. Месснер склонился над ним, понял, что заслонил себе свет, подался назад, стал поворачивать голову вице-президента туда-сюда. Вице-президент попытался заставить себя думать о чем-нибудь приятном и тут же подумал об Эсмеральде. Какая же она умница! Может быть, это его жена ее всему научила? Рассказала про бактерии, про необходимость содержать все в чистоте. Как же ему повезло, что такая девушка смотрит за его детьми. Кровь из раны текла уже не так сильно, лишь слегка сочилась, и Месснер прекратил промокать ее салфеткой. Принимая во внимание обстоятельства, вопли громкоговорителей с улицы, сирены, распростертых кругом заложников, сонных террористов с винтовками, можно было ожидать, что никто не проявит интереса к щеке Рубена Иглесиаса. Тем не менее присутствующие начали вытягивать шеи наподобие черепах, стремясь получше разглядеть, как иголка войдет в кожу и что из этого получится.
– Тебе на все дается пять минут, – сказал командир Альфредо.
Иоахим Месснер соединил левой рукой края раны, а правой вонзил в них иголку. Решив, что быстрое движение будет менее болезненным, и переоценив толщину кожи, он попал прямо в кость. Оба мужчины тихо и тоненько вскрикнули, и Месснер поспешно вытащил иголку. Теперь надо было все начинать сначала. Кроме того, отверстие от иголки само начало кровоточить.
Никто не просил ее помощи, но Эсмеральда тщательно вымыла руки. На ее лице появилось выражение, которое вице-президент замечал, когда она возилась с детьми. Она поняла, что у мужчин ничего не получается и это безобразие пора кончать. Она взяла из рук Иоахима Месснера нитку с иголкой и снова окунула их в спирт. Месснер уступил ей место с большим облегчением. Не думая о том, что она собирается делать и справится ли, он просто смотрел, как девушка склоняется под лампой.
Рубен Иглесиас отметил, что лицо у нее доброе и блаженное, какими бывают лица святых, хотя Эсмеральда почти не улыбалась. Он с благодарностью смотрел в ее серьезные карие глаза, которые оказались теперь совсем рядом. Сам он глаз закрывать не стал, хотя искушение было велико. Вице-президент понимал, что вряд ли когда-нибудь еще кто-то будет смотреть ему в лицо с такой сосредоточенностью и состраданием, – даже если он благополучно вытерпит это испытание и доживет до ста лет. Когда иголка снова приблизилась к его ране, он даже не шелохнулся и только вдыхал травяной аромат, исходивший от ее волос. Он чувствовал себя оторванной пуговицей или парой детских штанишек, которые она вечерком разложила на своих теплых коленях, чтобы заштопать. Право, не такое уж и плохое чувство. Он стал для Эсмеральды просто еще одной вещью, которая порвалась и нуждается в починке. Конечно, немножко больно. Неприятно, когда иголка проплывает мимо глаз. Неприятно, что в конце каждого стежка Эсмеральда чуть дергала нитку – он чувствовал себя пойманной на крючок форелью. Но он был благодарен судьбе за то, что оказался так близко к девушке, которую видел каждый день. Вот она сидит на газоне под деревом, играя с детьми, поит их чаем из стареньких кружек с отбитыми краями. Марко у нее на коленях, а девочки, Роза и Имельда, играют в свои куклы. Вот она вечером, уложив детей, выходит из детской, приговаривая: спокойной ночи, спокойной ночи, нет, водички больше пить нельзя, закрывай глазки, пора спать, спокойной ночи. Сейчас она, сосредоточившись, молчала, но одно воспоминание о ее голосе успокаивало. И хотя Рубену Иглесиасу было очень больно, он понимал, что, когда все закончится, когда ее талия больше не будет касаться его бока, он будет жалеть. Вот она уже закончила и сделала последний узелок. Как будто для поцелуя, она наклонилась над ним и перекусила нитку. Ее губам пришлось коснуться шва, который только что сделали ее руки. Он услышал легкое клацанье ее зубов, звук разрываемой нити, а потом она выпрямилась и положила руку ему на голову – награда за все, что он перетерпел. Милая Эсмеральда!
– А вы храбрый, – сказала она.
Все, кто лежал поблизости, вздохнули с облегчением и заулыбались. Она отлично поработала, ровными стежками вышила на вице-президентской щеке такую славную черную лесенку. Сразу видно, что девушка училась рукоделию чуть ли не с колыбели. Марко забрался к ней на руки, как только она к нему подошла. Малыш прижался к ее груди и удовлетворенно засопел, вдыхая нянин запах. Вице-президент не двигался. Боль и удовольствие боролись в нем, и он позволил себе на минутку расслабиться. Он закрыл глаза, как будто ему дали настоящую анестезию.
– Вы оба, – сказал командир Месснеру и Гэну, – идите ложитесь. Мы должны кое-что обсудить. – Винтовкой он указал им места на полу, на расстоянии друг от друга.
Месснер даже не пытался снова вступать в переговоры.
– Я не лягу, – сказал он, хотя его усталый голос заставлял предположить, что на самом деле прилег бы он с удовольствием. – Я подожду на улице. И вернусь через час. – После этого он вежливо кивнул Гэну, открыл дверь и вышел из дома.
Гэну захотелось сделать то же самое: объяснить, что он подождет на свежем воздухе, и выйти вон. Но он прекрасно понимал, что с Месснером ему не равняться. Что-то было в Месснере трудноуловимое, отчего стрелять в него не хотелось. Он держался так, словно в него палили каждый день и это ему уже изрядно надоело. А вот Гэн, перед глазами у которого до сих пор стояли швы на вице-президентском лице, ощущал себя чрезвычайно смертным. Смертным и верным. И поэтому беспрекословно занял свое место возле господина Хосокавы.
– Что они говорят? – тут же прошептал тот.
– По-моему, они собираются освободить женщин. Это еще не решено, но такое намерение у них определенно есть. Они говорят, что нас слишком много. – Со всех сторон их окружали люди, до ближайших соседей было не более шести сантиметров. Словно в восемь утра едешь в токийском метро по ветке Яманотэ. Гэн пошевелился и слегка ослабил узел своего галстука.
Господин Хосокава закрыл глаза и почувствовал, как его теплым одеялом окутывает спокойствие.
– Хорошо, – сказал он.
Значит, Роксана Косс скоро будет на свободе. Как раз вовремя, чтобы петь в Аргентине. Через несколько дней все страхи для нее останутся позади, и за судьбой остальных заложников она будет следить из безопасного места, с помощью газет. Она будет пересказывать всю эту историю на приемах, и толпящиеся вокруг люди будут удивляться и ужасаться. Люди всегда ужасаются. В Буэнос-Айресе в первую неделю она будет петь Джильду. Господину Хосокаве это показалось удивительным совпадением. Она поет Джильду, а он – маленький мальчик, который приехал с папой в Токио. Он смотрит на нее с высоты галерки, но все равно голос ее звучит чисто и нежно, как будто она совсем рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки. Ее театральные жесты, ее грим издалека кажутся очень красивыми. Вот она поет арию вместе со своим отцом, Риголетто. Она рассказывает, как его любит, и на галерке в это время маленький Кацуми Хосокава сжимает отцовскую руку. Опера разыгрывается на гобеленовых скатертях обеденного стола, среди недопитых хрустальных бокалов, она заслоняет собой провалившееся празднование дня рождения, неудавшийся план строительства завода. Вот она взмывает ввысь, описывает круг над этой страной, а затем мягко опускается на сцену, где становится самой собой, чем-то отвлеченным и прекрасным. Теперь Роксана Косс поет в сопровождении оркестра, ее поддерживают другие голоса, они поднимаются вверх, но прекрасный голос примы звучит только для маленького Кацуми Хосокавы. Ее голос вибрирует в его ушах, поселяется внутри его, становится его частью. Она поет партию Джильды специально для него и для тысяч других людей. Он чувствует себя безымянным, равным, любимым.
В противоположных концах комнаты лежали на полу два священника Римско-католической церкви. Монсеньор Роллан расположился у той же самой софы, что и чета Тибо, только с другой стороны, рассудив, что лучше находиться подальше от окон на случай, если начнется стрельба. Ради паствы ему следовало заботиться о сохранении своей жизни. Католические священники очень часто становятся мишенями в политических распрях – если не верите, почитайте газеты. Одеяние монсеньора было мокрым от пота. Смерть – это священное таинство, и час ее известен одному Господу. Но у монсеньора Роллана были веские основания желать продления своих дней. Считалось, что ему гарантировано место епископа после того, как нынешний, дряхлый епископ Ромеро закончит свое земное существование. Ведь именно монсеньор Роллан исполняет его функции, печется об усилении и расширении влияния их церкви. Ничто в этих измученных нуждой джунглях нельзя считать незыблемым, даже католичество. Чего стоит только нашествие мормонов с их деньжищами и толпами проповедников. Что за наглость засылать своих миссионеров в католическую страну! Как будто здесь дикари необращенные! Голова монсеньора покоилась на маленькой диванной подушечке, которую он благоразумно прихватил, когда укладывался на пол, однако ноги и поясница все равно ныли, и он стал думать о том, как, когда все закончится, он примет горячую ванну, а потом не меньше трех дней проведет в своей мягкой постели. Разумеется, во всем можно обнаружить положительную сторону. Так, например, если террористы окажутся вменяемыми и монсеньор будет освобожден с первой партией заложников, то это приключение, пожалуй, даже укрепит его репутацию. То обстоятельство, что он побывал в заложниках, может превратить его в святого мученика, даже если здоровье его не пострадает.
И все бы хорошо, если бы не другой священник, что лежал на холодном мраморном полу прихожей. Монсеньор Роллан уже встречался с отцом Аргуэдасом, когда присутствовал при рукоположении последнего два года тому назад, но с тех пор совершенно забыл о его существовании. В этой стране не было недостатка в молодых людях, готовых посвятить себя церкви. Для него все эти местные парни с коротко остриженными черными волосами и в одинаковых грубых черных рубашках были на одно лицо, как дети, пришедшие к первому причастию. Монсеньор Роллан понятия не имел о том, что на приеме присутствует еще один священник, за весь вечер отец Аргуэдас ни разу не попался ему на глаза. Да и как простой молодой священник мог попасть на прием к вице-президенту?
Отцу Аргуэдасу было двадцать шесть лет, он служил в одном из самых захудалых приходов столицы, зажигал свечи, проводил причастия и исполнял обязанности не намного серьезнее тех, что исполняет квалифицированный алтарный служка. В те редкие моменты своей жизни, когда он не служил Господу молитвой или пастве делами, отец Аргуэдас ходил в университетскую библиотеку и слушал там оперу. Он спускался в подвальное помещение, уютно устраивался в специальной кабинке и слушал записи через гигантские черные наушники, сжимавшие голову до боли. Университет нельзя было отнести к числу процветающих, и опера не относилась к числу его приоритетов, поэтому хранились записи не на компакт-дисках, а на допотопных пластинках. Некоторые личные предпочтения у отца Аргуэдаса, конечно, были, но по большей части он слушал все подряд, от «Волшебной флейты» до «Волнений на Таити». Он закрывал глаза и повторял про себя слова, которых не понимал. Он проклинал своих предшественников, которые оставляли на пластинках отпечатки грязных пальцев, царапали их или, хуже того, просто крали, так что «Лулу», например, осталась без третьего акта. Вспоминая, однако, что он священник, отец Аргуэдас в раскаянии падал на цементном полу библиотечного подвала на колени.
Очень часто, слушая оперу, он ощущал, как его душа наполняется странным восторгом. Он не мог точно назвать это чувство, но оно его беспокоило… неужели то было желание? Или, может быть, любовь? Еще во время учебы в семинарии он решил отказаться от оперы, как другие молодые люди отказываются от женщин. Он считал, что в подобной страсти есть нечто греховное, особенно для духовного лица. В отсутствие других достойных исповеди грехов он вообразил, что грех оперы является его самым тяжким грехом и он должен принести эту страсть в жертву Иисусу Христу.
– Верди или Вагнер? – спросил его голос из-за исповедальной перегородки.
– Оба! – ответил отец Аргуэдас, но, оправившись от вызванного вопросом удивления, поправился: – Верди!
– Ты еще молод, – сказал голос. – Приходи ко мне через двадцать лет, если, конечно, до тех пор Господь не призовет меня к себе.
Молодой священник напрягся, стараясь узнать голос. Он знал весь клир церкви Святого Петра.
– Это грех?
– Искусство не грех. Конечно, оно не всегда добродетельно. Но это не грех. – Голос минуту помолчал, и отец Аргуэдас чуть оттянул пальцем воротничок своей рубашки, чтобы впустить немного густого теплого воздуха под одежду. – Конечно, некоторые либретто довольно-таки… в общем, сосредоточься на музыке. Музыка – вот суть оперы.
Отец Аргуэдас исполнил возложенную на него весьма условную епитимью, на радостях прочитав каждую молитву по три раза. Значит, ему не надо отказываться от своей любви! По существу, после этого случая он совершенно изменил отношение к опере и пришел к выводу, что такая красота не может быть не от Бога. Музыка есть молитва, он теперь это знал совершенно точно, и пусть слова очень часто говорили о людских грехах, но разве сам Иисус Христос не говорил о них? Когда отец Аргуэдас чувствовал, что его охватывает непонятное волнение, то просто прекращал читать либретто. В семинарии он учил латынь, но не пытался с ее помощью понять итальянский. Чайковский в этом смысле был особенно хорош, ведь русский язык был недоступен ему совершенно. К сожалению, бывали случаи, когда страсть звучала в музыке еще откровеннее, чем в словах. Незнание французского не спасло молодого священника от пагубных чар «Кармен». «Кармен» завораживала, навевала грезы. Однако отец Аргуэдас укреплял свой дух тем, что воображал, будто в любой опере все мужчины и женщины поют так сладко и чудесно лишь потому, что поют они о кроющейся в их сердцах любви к Богу.
Успокоенный исповедью, отец Аргуэдас больше не пытался скрывать свою любовь к музыке. Казалось, никто не интересуется его увлечением, тем более что от исполнения основных церковных обязанностей оно не отвлекало. Конечно, страна, в которой жил отец Аргуэдас, была не слишком передовой, как и религия, которую он исповедовал, но времена были все-таки не старинные. Прихожане относились к молодому священнику с большой симпатией, отмечали рвение, с которым он полировал церковные скамьи, его привычку каждое утро подолгу стоять на коленях, дожидаясь начала ранней мессы. Среди обративших внимание на молодого священника была женщина по имени Анна Лойя, любимая кузина жены вице-президента. Она тоже очень любила музыку и щедро одалживала отцу Аргуэдасу пластинки. Прознав о приезде Роксаны Косс, она тут же позвонила своей кузине и спросила, нельзя ли устроить, чтобы на приеме присутствовал один молодой священник. Разумеется, его не надо приглашать на обед. Во время обеда он может посидеть на кухне. Если на то пошло, священник может даже выступление Роксаны Косс послушать из кухни, но если ему разрешат в это время побыть в доме или хотя бы в саду, она будет страшно благодарна. Как-то после одной весьма посредственной репетиции церковного хора отец Аргуэдас признался Анне, что никогда не слушал оперу вживую. Величайшая любовь его жизни – разумеется, после Господа – была явлена ему лишь в черном виниле. Более двадцати лет тому назад Анна потеряла сына. Мальчику было всего три года, когда он утонул в ирригационной канаве. У нее родились другие дети, которых она тоже очень любила, и о своей потере она ни с кем не говорила. И если начистоту, теперь она вспоминала о погибшем ребенке, лишь когда видела отца Аргуэдаса. Она вновь спросила кузину по телефону: «Можно ли отцу Аргуэдасу прийти послушать сопрано?»
Ничего подобного он не мог себе даже вообразить. Этот голос казался чем-то осязаемым, видимым. Он чувствовал его даже в самом дальнем углу комнаты. Голос трепетал в складках его сутаны, касался его щек. Отец Аргуэдас и помыслить не мог, что на свете существует женщина, стоящая к Богу так близко, что Божий глас исходит из нее. Как же сильно, думал он, должна певица погрузиться в самое себя, чтобы обрести этот голос. Казалось, звук таился глубоко в недрах земли, и лишь невероятным старанием и напряжением душевных сил она сумела извлечь его оттуда, заставить пройти сквозь толщу скал и земную поверхность, сквозь фундамент дома и оказаться у своих ног, а затем – проникнуть в тело, заполнить его, впитать его тепло и, излившись из белого, как лилия, горла, устремиться к Господу на небеса. То было чудо, и отец Аргуэдас заплакал, счастливый, что ему довелось стать свидетелем.
Даже теперь, после стольких часов, проведенных на мраморном полу, голос Роксаны Косс все еще звучал, жил в мозгу насквозь продрогшего священника. Если бы ему не приказали лечь, он, скорее всего, сам попросил бы об этом. Он нуждался в отдыхе, и мраморный пол подходил как нельзя лучше. Этот пол заставлял его обращаться мыслями к Богу. Окажись он сейчас на мягком ковре, то наверняка полностью забылся бы. Отец Аргуэдас был рад провести ночь среди воплей громкоговорителей и сирен, потому что те заставляли его бодрствовать и думать. Он был рад (хотя и попросил за это у Господа прощения), что, пропустив утреннюю мессу и причастие, смог остаться в этом доме. Чем дольше он здесь оставался, тем дольше длилось волшебство, словно ее голос все еще эхом отдавался в оклеенных обоями стенах. К тому же она и сама была здесь, лежала где-то на полу. Он не мог видеть Роксану Косс, но понимал, что она не так уж далеко. Он молился о том, чтобы ночь прошла для нее спокойно и чтобы кто-нибудь догадался предложить ей лечь на одну из кушеток.
Но, кроме Роксаны Косс, мысли отца Аргуэдаса занимали и юные бандиты. Многие из них сейчас стояли, прислоняясь к стенам, расставив ноги и опершись на свои винтовки, как на посохи. Временами головы мальчишек запрокидывались назад, и они засыпали на несколько секунд, а затем, когда их колени подгибались, вздрагивали и едва не падали на свое оружие. Отец Аргуэдас часто выезжал вместе с полицией освидетельствовать тела самоубийц, и очень часто складывалось впечатление, что они совершили последнее в своей жизни действие именно в такой позе: нажав пальцем ноги на спусковой крючок.
– Сын мой, – прошептал он одному из парней, который стоял на карауле в прихожей. Здесь в основном находились официанты, повара и вообще заложники низшего ранга. Отец Аргуэдас сам был молодым человеком, и ему порой было неловко называть своих прихожан «сыновьями», но этот парнишка действительно вызывал в нем отеческие чувства. Он выглядел, как его двоюродный брат, как вообще всякий мальчик, который радостно выбегает из церкви после причастия с гостией во рту. – Подойди ко мне, сын мой.
Юноша покосился на потолок, как будто голос послышался ему во сне. Он предпочел вообще не замечать священника.
– Сын мой, подойди ко мне, – повторил отец Аргуэдас.
Теперь мальчик взглянул вниз, и на его лице отразилось недоумение. Как же можно не отвечать священнику? Как же можно не подойти, если он зовет?
– Да, отец? – прошептал он.
– Подойди сюда, – одними губами произнес священник, похлопав по полу рядом с собой – еле заметно, даже не ладонью, а одними пальцами. На мраморном полу прихожей лежало не так много людей. В отличие от устланной ковром гостиной, здесь можно было свободно вытянуться. А тому, кто всю ночь простоял, опираясь на винтовку, и мрамор покажется не хуже пуховой перины.
Парнишка испуганно оглянулся на занятых совещанием командиров.
– Мне нельзя, – прошептал он.
Парнишка был индейцем. Говорил он на северном наречии – так же бабушка отца Аргуэдаса говорила с его матерью и тетками.
– А я говорю, что можно, – властно, но ласково возразил отец Аргуэдас.
Секунду юноша размышлял, потом поднял голову, словно изучал затейливые узоры потолочной лепнины. Глаза его наполнились слезами, и, пытаясь их удержать, мальчишка отчаянно заморгал. Он очень давно не спал, руки дрожали на холодном стволе винтовки. Парнишка уже не понимал толком, где кончаются его пальцы и начинается серовато-зеленоватый металл.
Отец Аргуэдас вздохнул и не стал упорствовать. Попозже надо будет снова поговорить с мальчиком, просто чтобы напомнить ему – всякий грешник может обрести покой и прощение.
У заложников было множество различных потребностей. Некоторым снова нужно было в туалет. Другим требовалось принять лекарство, и всем без исключения хотелось встать, размяться, поесть, попить воды, прополоскать рот. Люди расхрабрились от собственных тревог, но более всего их ободряло то обстоятельство, что прошло уже более восемнадцати часов, и никто еще не умер. Заложники начинали верить, что их не убьют. Когда человек больше всего на свете хочет жить, о прочих потребностях он обычно помалкивает, зато ощутив себя в безопасности, принимается жаловаться на все подряд.
Виктор Федоров из Москвы в конце концов не выдержал и закурил, хотя в самом начале от заложников потребовали сдать все зажигалки и спички. Федоров пускал дым прямо в потолок. Ему было сорок семь лет, а курил он с двенадцати, даже в самые тяжелые времена, даже когда приходилось выбирать между сигаретами и хлебом.
Командир Бенхамин щелкнул пальцами, и один из его подчиненных бросился отнимать у Федорова сигарету. Но тот только глубже затягивался. Мужчина он был крупный. Одолеть такого, пусть даже лежащего на полу и вооруженного лишь сигаретой – задача не из легких.
– Только попробуй, – сказал он солдату по-русски. Юный террорист, разумеется, не понявший его слов, медлил, не зная, как приступить к делу. Он попытался унять дрожь в руках, затем вытащил из-за пояса пистолет и без особой охоты направил его Федорову в живот.
– Ну, отлично! – воскликнул Егор Лебедь, еще один русский, приятель Федорова. – Помрем за курево!
Что за наслаждение была эта сигарета! Насколько же приятнее закурить после целого дня воздержания. Снова чувствуешь табачный аромат, любуешься синеватым дымком. Снова ощущаешь легкое приятное головокружение, как в мальчишеские годы. Одного этого достаточно, чтобы решиться бросить – только ради того, чтобы потом начать заново. Федоров докурил сигарету до самого конца, она уже обжигала ему пальцы. Какая жалость! Он сел, напугав вооруженного мальчишку своими размерами, и потушил окурок о подошву своего ботинка.
К большому удовольствию вице-президента, Федоров положил окурок в карман своего смокинга, а парень неловко засунул пистолет обратно за пояс и скользнул прочь.
– Я больше не выдержу ни минуты! – раздался пронзительный женский крик, но когда все оглянулись кругом, то так и не поняли, кто кричал.
Через два часа после ухода Иоахима Месснера командир Бенхамин поднял с пола вице-президента, велел ему открыть дверь и позвать посредника обратно.
Неужели Месснер провел все два часа, стоя в ожидании за дверью? Его нежная кожа обгорела еще сильнее.
– Все в порядке? – спросил Месснер вице-президента по-испански, как будто все это время он, торча на солнцепеке, совершенствовал свои лингвистические навыки.
– Изменений очень мало, – ответил вице-президент по-английски, стараясь быть любезным. Он еще не совсем утратил ощущение того, что является хозяином дома.
– С лицом у вас не так уж и плохо. Она хорошо вас… как это сказать… – Он попытался подобрать нужное слово. – Починила, – наконец произнес он.
Вице-президент поднес было руку ко лбу, но Месснер удержал ее.
– Не надо его трогать. – Он оглядел комнату. – А этот японец еще здесь?
– А куда он мог деться? – спросил Рубен.
Месснер снова оглядел тела под ногами, теплые и дышащие. Воистину он видал в своей жизни картины куда хуже.
– Я должен снова попросить переводчика, – обратился вице-президент к командирам, которые смотрели в сторону, словно не замечая присутствия Месснера. Наконец один из них поднял глаза и сделал какое-то быстрое движение бровью, что Иглесиас понял как знак одобрения: мол, вперед, действуй.
Он не позвал Гэна, но пошел за ним через всю комнату. Так можно было, во-первых, размять ноги, во-вторых – произвести осмотр гостей. На лицах большинства из них при виде вице-президента появлялось нечто среднее между гримасой отвращения и улыбкой. Безо льда половина лица у него распухла самым ужасающим образом. Швы едва не лопались. Лед – дело нехитрое, это не пенициллин какой-нибудь. В доме было полно льда. На кухне по обе стороны от холодильника стояли два морозильника, в подвале – еще один для всяких припасов. На кухне имелся также специальный агрегат, который целыми днями производил лед и ссыпал его в пластиковый ящик. Но вице-президент прекрасно понимал, что не пользуется расположением командиров и, рискни он попросить у них кубик льда, немедленно получит фонарь под вторым глазом. А как приятно было бы просто постоять, прижавшись к белой прохладной металлической дверце морозильника! Даже льда не нужно, достаточно будет просто прижаться.
– Монсеньор, – сказал он, обходя монсеньора Роллана. – Мне очень жаль, что все так вышло. С вами все в порядке? Да? Хорошо, хорошо.
Это был прекрасный дом, и ковер, на котором теперь лежали его гости, тоже был прекрасный. Кто бы мог подумать, что однажды он поселится в таком чудесном доме с двумя морозильниками и агрегатом для производства льда? То была невероятная удача. Отец вице-президента был носильщиком с тележкой: сначала на железнодорожном вокзале, потом в аэропорту. Его мать растила восьмерых детей, продавала овощи, брала шитье на дом. Сколько же раз эта история уже пересказывалась в прессе? Рубен Иглесиас сам проложил себе путь в жизни. Первым в своей семье он окончил старшие классы. Работал дворником, чтобы заработать на колледж. Работал дворником и судебным клерком, чтобы заработать на юридический факультет. Потом были успешная карьера в юриспруденции, удачный подъем по шаткой политической лестнице. Все это помогло ему не меньше, чем его рост. Правда, журналисты никогда не упоминали, как удачно он женился – на дочери старшего партнера, которая забеременела от него во время празднования Рождества, как потом амбиции его жены и ее родителей продвигали его вперед и наверх. Это было уже не так интересно.
Мужчина на полу, лежащий возле обитого гобеленовой тканью кресла с подголовником, спросил что-то на языке, который Рубен принял за немецкий. Вице-президент ответил: «Не знаю».
Переводчик Гэн лежал совсем рядом с господином Хосокавой. Он что-то прошептал в ухо своему боссу, и тот закрыл глаза и едва заметно кивнул головой. Рубен совсем забыл о господине Хосокаве. «С днем рождения вас, сэр, – сказал он про себя. – У меня такое впечатление, что в этом году мы с вами вряд ли построим завод». Совсем недалеко от них лежала Роксана Косс со своим аккомпаниатором. Она выглядела, если такое вообще было возможно, даже лучше, чем накануне вечером. Волосы ее разметались, кожа блестела, словно певица наслаждалась долгожданным отдыхом.
– Как вы себя чувствуете? – тихо спросила она по-английски и дотронулась ладонью до собственного лба, показывая, что волнуется из-за его раны.
Из-за того ли, что он давно ничего не ел, или от усталости и потери крови, а быть может, из-за начавшейся инфекции вице-президенту показалось, что он вот-вот потеряет сознание. То, как она касалась своего лица, потому, что не могла встать и коснуться его лба, видение того, как она встает и все же касается… вице-президент осел на пол, уперся в ковер ладонями, наклонил голову и сидел так, пока головокружение не прошло. Он осторожно заглянул Роксане Косс в глаза: теперь в них читался ужас.
– Со мной все в порядке, – прошептал он.
В этот момент он заметил аккомпаниатора, с которым было явно не все в порядке. Казалось бы, если Роксана Косс способна проявить сочувствие к вице-президенту, то она уж точно должна позаботиться о человеке, который лежит рядом с ней. Его бледность имела явственно сероватый оттенок, и, хотя глаза были открыты, а грудная клетка чуть вздымалась, тело словно оцепенело, и это вице-президенту совсем не понравилось.
– Что с ним? – спросил он, указав пальцем на аккомпаниатора.
Роксана Косс посмотрела на лежащего рядом с ней, словно впервые его заметила.
– Сказал, что у него простуда. Мне кажется, он просто слишком нервничает.
Ее еле слышный шепот привел вице-президента в изрядное волнение, пусть он и не разобрал всех слов.
– Переводчик! – крикнул командир Альфредо.
Рубен Иглесиас хотел было подняться и протянуть руку Гэну, но тот был моложе и его опередил – вскочил на ноги первым и сам протянул руку вице-президенту. Потом взял его под руку, как будто Рубен Иглесиас внезапно ослеп, и повел по комнате. Как быстро формируются привязанности в чрезвычайных обстоятельствах! Какие безумные мысли приходят человеку в голову! Вице-президенту уже мерещилось, что Роксана Косс – любовь всей его жизни, что Гэн Ватанабе – это его сын; что его дом больше ему не принадлежит и что его жизни, то есть тому, что он считал своей жизнью, его политической карьере, пришел конец. Интересно, подумал Рубен Иглесиас, все заложники на свете чувствуют то же самое, что и он?
– Гэн, – сказал Месснер и мрачно потряс его руку, будто выражал соболезнования, – вице-президенту необходима медицинская помощь. – Он сказал это по-французски, чтобы Гэн перевел.
– Мы тратим слишком много времени на обсуждение нужд какого-то дурака, – возразил командир Бенхамин.
– Можно мне льда? – Рубен сам встрял в разговор, и тут сознание его внезапно заполнили ледяные наслаждения – заснеженные вершины Анд, олимпийские красавицы-фигуристки из телевизора – юные девушки с осиными талиями и в коротеньких прозрачных юбочках. Рубен Иглесиас словно заживо горел, а их сверкающие коньки выписывали на глади катка изящные дуги, взметая в воздух голубовато-белую ледяную крошку. Вице-президенту захотелось, чтобы его закопали в лед.
– Ишмаэль, – бросил командир одному из своих бойцов, – марш на кухню, принеси ему полотенце и лед.
Ишмаэль, один из парней, подпирающих стены, коротышка в самых изношенных башмаках, явно обрадовался. Может, был горд, что ему что-то поручили, может, действительно хотел помочь вице-президенту, а может, просто хотел прогуляться на кухню, где наверняка оставались подносы с крекерами и подтаявшими канапе.
– Моим людям никто не дает лед, когда он им нужен! – с горечью добавил командир Альфредо.
– Разумеется, – сказал Месснер, рассеянно выслушавший перевод Гэна. – Ну как, вы готовы хоть на какой-нибудь компромисс?
– Мы отдадим женщин, – сказал Альфредо. – Мы тут не для того, чтобы обижать женщин. Прислуга тоже может уйти, и священники, и те, кто болен. После этого мы составим список оставшихся. Может быть, еще кое-кого отпустим. Взамен мы кое-что хотим. – Он вытащил из кармана тщательно сложенный лист бумаги и зажал его в трехпалой левой руке. – Вот то, что нам нужно. Вторую страницу зачитаете прессе. Это наши требования. – А ведь, приступая к операции, Альфредо был так уверен в успехе их плана. В конце концов, это его двоюродный брат когда-то устанавливал в этом доме кондиционеры и стащил копию чертежей вентиляционной системы.
Месснер взял бумаги, взглянул на них и попросил Гэна прочитать. Гэн очень удивился, заметив, что у него дрожат руки. Он что-то не помнил случаев, когда предмет перевода вызывал в нем столь сильные эмоции.
– Действуя от имени народа, «Семья Мартина Суареса» захватила в заложники… – начал Гэн.
Месснер знаком остановил его.
– «Семья Мартина Суареса»?
Командир кивнул.
– А разве вы не «Истинная власть»? – Месснер понизил голос.
– Вы же сами сказали, что мы разумные люди, – не на шутку возмутился командир Альфредо. – Вы что, думаете, «Истинная власть» стала бы вести с вами переговоры? Думаете, они бы позволили женщинам уйти? Я знаю этих типов. Они всех бесполезных заложников расстреливают. А мы кого-нибудь расстреляли? Мы стараемся помочь людям, неужели непонятно? – Он сделал шаг к Месснеру – тот мгновенно понял, что дело плохо, – но между ними тут же встал Гэн.
– Мы стараемся помочь людям, – перевел Гэн медленно и отчетливо. Вторая часть предложения – «неужели непонятно?» – к делу не относилась, и он ее проигнорировал.
Месснер извинился за свою ошибку. Невинную, в общем-то, ошибочку. Это, оказывается, не «Истинная власть». Ему пришлось напрячься, чтобы сдержать улыбку.
– Когда же вы освободите первую группу?
Командир Альфредо больше не собирался с ним разговаривать. Он лишь что-то проворчал себе под нос. Даже молчаливый командир Эктор сплюнул на швейцарский ковер. Ишмаэль вернулся с двумя кухонными полотенцами, полными кубиков льда, малой толикой кухонного запаса. Командир Бенхамин выбил у него из рук один из кульков, и прозрачные кубики раскатились по ковру. Те, кто лежал поближе, тут же начали подбирать их и запихивать в рот. Ишмаэль, испугавшись, тут же с торопливым кивком сунул второй кулек вице-президенту. Рубен кивнул в ответ, решив больше не привлекать к себе излишнего внимания – повод еще раз врезать ему прикладом террористы найдут без труда. Он приложил лед к голове и вскрикнул от боли и одновременно от глубокого – глубочайшего! – удовольствия.
Командир Бенхамин прочистил горло и собрался с мыслями.
– Мы разделим их прямо сейчас, – заявил он. И обратился к своим бойцам: – Внимание! Приготовиться! – Парни вдоль стены подтянулись, выпрямили ноги, подхватили с пола ружья. – Всем на ноги! – скомандовал Бенхамин.
– Прошу внимания! – сказал Гэн по-японски. – Сейчас вам надо встать! – Хотя террористы и возражали против любых разговоров среди заложников, для Гэна они делали исключение. Он повторил предложение на всех языках, которые смог вспомнить. Даже на сербскохорватском и китайском, которых здесь никто не понимал, просто ради удовольствия поговорить свободно и чтобы никто тебя не затыкал. Команда «Встать!», собственно, не требует перевода. В определенных ситуациях люди уподобляются стаду овец. Когда один встает, другие следуют его примеру.
Все стояли одеревенелые и неуклюжие. Некоторые пытались добраться до своих башмаков, другие попросту о них забыли. Кто-то переминался с ноги на ногу, пытаясь размять затекшие конечности. Заложников охватило волнение. Если совсем недавно казалось, что они ничего не желают сильнее, чем встать, то теперь, стоя, они чувствовали себя неуютно. Совершенная ими перемена положения в пространстве уже представлялась неблагоприятной, людям мерещилось, что вставание увеличивает их шансы быть убитыми.
– Женщины, отойдите вправо, мужчины – влево!
Гэн снова проговорил предложение на всех известных ему языках, не очень представляя себе, какие страны тут представлены и кто именно нуждается в его переводе. Он невольно подражал успокоительно-монотонной интонации, с какой произносятся объявления на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.
Но мужчины и женщины не хотели так быстро расставаться. Они цеплялись друг за друга, обхватывали за шеи. Пары, которые давно забыли, как это делается, пары, которые, может быть, даже не делали этого на публике, пылко обнимались. Теперь казалось, что этот прием просто слишком затянулся. Музыка отзвучала, танцы закончились, а парочки все стоят, притиснувшись друг к дружке, и ждут чего-то. Лишь между Роксаной Косс и ее аккомпаниатором происходило что-то не то. В его объятиях она выглядела совсем маленькой, настоящим ребенком. Казалось, она была бы рада высвободиться из его рук, но при более пристальном взгляде становилось ясно, что это Роксана Косс держит аккомпаниатора, а не он ее. Аккомпаниатор повис на певице, и страдальческая гримаса на ее лице свидетельствовала о том, что такая тяжесть для сопрано чрезмерна. Господин Хосокава, догадавшись о ее трудностях (его обнимать было некому – госпожа Хосокава пребывала в полной безопасности в Токио), обхватил аккомпаниатора и перекинул этого гораздо более высокого, чем он сам, человека через плечо, как пальто. Ноша заставила господина Хосокаву пошатнуться, но он был тысячекратно вознагражден облегчением, разлившимся по лицу Роксаны Косс.
– Спасибо, – сказала она.
– Спасибо, – повторил он.
– Вы за ним присмотрите?
В этот момент аккомпаниатор поднял голову и попытался потверже встать на ноги.
– Спасибо, – еще раз повторил господин Хосокава с нежностью.
Другие одинокие мужчины, в основном официанты, которые сами жаждали освободить певицу от этого умирающего иностранишки, ринулись на помощь господину Хосокаве и вместе с ним оттащили мокрого от пота аккомпаниатора в левую часть комнаты. Его светлая голова моталась из стороны в сторону так, словно у скандинава была перебита шея. Господин Хосокава обернулся, чтобы посмотреть на Роксану Косс, и его сердце сжалось при мысли о том, что она останется в одиночестве. Ему хотелось поймать ее ответный взгляд, но она смотрела на аккомпаниатора, висевшего на плече господина Хосокавы. Теперь, глядя на него издали, она наконец осознала, насколько ему плохо.
А господин Хосокава, наблюдая все эти пылкие прощальные поцелуи, вдруг вспомнил, что у него в мыслях не было везти сюда жену. Он даже не сообщил ей, что она тоже приглашена и что речь идет о праздновании дня его рождения. Просто сказал, что уезжает по делам. В семье было негласное правило: во время командировок мужа госпожа Хосокава оставалась дома, с дочерями. Они никогда не путешествовали вместе. Теперь он смог убедиться, насколько мудрым было такое решение. Он уберег свою жену от массы неприятностей, а может быть, и от кое-чего похуже. Он ее спас. Но все же не мог не мучиться вопросом: а каково было бы им стоять тут вместе? Как сильно опечалились бы они, услышав приказ разойтись по разным углам комнаты?
Эдит и Симон Тибо молча смотрели друг на друга – казалось, целую вечность, но на самом деле не дольше минуты. Наконец она его поцеловала, и он сказал:
– Скорей бы ты оказалась снаружи.
Он мог сказать что угодно, слова сейчас не имели значения. Он думал о тех двадцати годах брака, когда он любил ее, совсем ее не зная. Теперь он должен понести за это наказание, за все потерянные годы. Дорогая моя Эдит. Она сняла с себя тонкий шелковый шарфик. А он ведь и забыл попросить об этом. Шарфик был прелестного голубого цвета – цвета обеденных сервизов королей, цвета грудного оперения птичек, порхающих в этих забытых богом джунглях. Эдит скомкала шарф в крохотный шарик и втиснула в сцепленные руки мужа.
– Не делай глупостей, – сказала она, и, поскольку это было последнее, о чем она его попросила, он с готовностью поклялся, что не будет.
В целом разлучение заложников прошло вполне цивилизованно. Никого не пришлось оттеснять от своей половины оружейным стволом. Когда стало ясно, что время истекло, мужчины и женщины просто разошлись в разные стороны, как будто того требовал исполняемый ими сложный танец, и очень скоро партнеры снова воссоединятся в новом круге для исполнения других па.
Месснер достал из бумажника пачку своих визитных карточек и раздал их командирам, дал одну Гэну и одну – предусмотрительно – вице-президенту. Остальные он оставил на кофейном столике.
– Здесь номер моего сотового, – сказал он. – Не рабочий, личный. Захотите поговорить со мной – звоните. Специально для этого дома правительство распорядилось держать линию свободной.
Каждый взглянул на свою карточку, несколько озадаченный. Как будто Месснер приглашал их на ланч, как будто не понимал всей серьезности положения.
– Может, вам что-нибудь понадобится, – уточнил Месснер. – Может, вы захотите поговорить с кем-нибудь снаружи.
Гэн слегка поклонился. Ему хотелось поклониться Месснеру в пояс, поблагодарить за то, что он пришел в этот дом, рискуя жизнью, но он решил, что его никто не поймет. В это время к столику подошел господин Хосокава, взял одну карточку, пожал Месснеру руку и склонился в глубоком поклоне.
Командиры Бенхамин, Альфредо и Эктор отправились к группе мужчин у стены, отделили рабочих, официантов, поваров и другую прислугу и велели им встать вместе с женщинами. Раз уж их заветным желанием было совершить революцию и освободить трудовой народ, они не хотели держать его представителей в заложниках. Затем они спросили, есть ли среди мужчин больные, и этот вопрос Гэн повторил несколько раз. Казалось бы, тут каждый должен был объявить, что у него слабое сердце, но удивительное дело – в толпе заложников воцарилось молчание. Вперед выступили лишь несколько дряхлых стариков, да один красивый итальянец предъявил медицинский идентификационный браслет, после чего был немедленно возвращен в объятия супруги. Лишь один человек солгал и не был разоблачен – доктор Гомес объяснил, что у него давно не работают почки и он уже опоздал с диализом. Жена со стыдом отвернулась от него. Самый больной среди мужчин, аккомпаниатор, не смог даже сам подать голос, и его посадили в кресло в таком месте, где, как все надеялись, о нем точно не забудут. Священникам тоже позволили уйти. Монсеньор Роллан трогательно перекрестил заложников и перешел в правую часть помещения. А вот отец Аргуэдас, которого не ждали никакие неотложные дела, попросил разрешения остаться.
– Остаться? – переспросил командир Альфредо.
– Вам же понадобится священник, – ответил тот. Командир слегка улыбнулся, впервые за все время.
– Право, вам лучше уйти.
– Но если люди останутся здесь до воскресенья, кто-то должен будет отслужить мессу.
– Мы сами за себя помолимся.
– Прошу прощения, сеньор, – объявил священник, потупив глаза. – Но я остаюсь.
На том и порешили. Монсеньор Роллан мог лишь беспомощно наблюдать за этой сценой. Он уже стоял рядом с женщинами, и приключившийся с монсеньором позор наполнял его сердце звериной яростью. Он бы задушил молодого священника собственными руками, но поздно – монсеньора уже спасли.
Вице-президента вполне могли бы отпустить как нуждающегося в медицинской помощи, но он даже не стал об этом просить. Вместо освобождения ему, сотрясаемому лихорадкой и непрерывно прикладывающему к лицу лед, было велено подойти к воротам и сделать для прессы объявление об освобождении части заложников. Рубен Иглесиас даже толком не успел попрощаться с женой. Эта достойная женщина всю себя посвятила карьере мужа, но даже словом не обмолвилась, глядя на то, как супруг пускает дело ее жизни под откос. Дочерям, Имельде и Розе, вице-президент тоже не смог уделить ни минуты, а ведь они так хорошо себя вели, весь день спокойно пролежали на полу, играя в какую-то сложную игру на пальцах. Он ничего не сказал Эсмеральде – не смог найти слова, чтобы выразить свою благодарность. Он очень беспокоился за нее. Если его убьют, не откажут ли ей от дома? Он надеялся, что не откажут. У нее такая красивая осанка, и она так терпеливо возится с детьми. Она научила их рисовать зверей на маленьких камушках, а потом складывать из этих камушков сложные картины. Наверху этих камушков накопилось великое множество. Его жена вцепилась в сына с такой силой, что тот заплакал. Она очень боялась, что малыша у нее отнимут и оставят вместе с мужчинами, но Рубен погладил ее по руке и успокоил. «Не станут его причислять к мужчинам», – сказал он. Поцеловав Марко в макушку, в шелковые, пахнущие детством волосы, он направился к двери.
Президент Масуда вряд ли справился бы с такой работой. Он ни слова не мог сказать без бумажки. Президент был человек неглупый, но раскованности ему не хватало. К тому же Масуда отличался вспыльчивым и тщеславным характером и вряд ли стал бы по команде ложиться, вставать, бегать к двери и обратно. Он наверняка брякнул бы прессе что-то не то, бандиты пристрелили бы его за такую инициативу, а затем прикончили и остальных заложников. Впервые за все время террористической атаки вице-президент подумал о том, что даже лучше, что Масуда остался дома смотреть свою мыльную оперу, потому что он, Рубен, прямотой и покорностью смог спасти жизнь своей жене, своим детям, красавице-гувернантке и знаменитой Роксане Косс. Что ни говори, сейчас вице-президент был на своем месте. Месснер вышел из дверей и встал рядом с ним на крыльце. День выдался пасмурный, зато воздух был свеж и чист. Люди на другом конце аллеи опустили оружие, и в дверях показались женщины, их вечерние туалеты сверкали в лучах предвечернего солнца. Если бы не полиция и фоторепортеры, случайный прохожий мог бы подумать, что дамы поголовно разругались на приеме со своими спутниками и, разобидевшись, уходят домой. Все они плакали, косметика расплылась, волосы свисали перепутанными прядями, женщины сжимали в кулаках подолы своих длинных юбок. Большинство несли свои туфли в руках или вообще оставили туфли в доме, чулки рвались на сланцевых плитках дорожки, но женщины этого не замечали. Они словно покидали тонущее судно или спасались из горящего здания. Чем больше они удалялись от дома, тем сильнее плакали. За ними следовали немногочисленные мужчины – старики и слуги, беспомощные перед лицом ужаса, в котором, разумеется, не были виноваты.
Глава третья
Необходимое уточнение: освобождены были все женщины, кроме одной.
Она оказалась где-то посередине шеренги выходящих. Как и другие женщины, она смотрела не вперед, а назад, в гостиную, на пол, где провела, кажется, не одну ночь, а несколько лет. Она смотрела на стайку мужчин у дальней стены. Никого из них она не знала. Никого, кроме японского джентльмена, ради которого, собственно, и был затеян этот прием. По сути, она не знала и его, но он так любезно помог ей с аккомпаниатором, что Роксана Косс специально нашла его взглядом и одарила улыбкой. Мужчины переминались с ноги на ногу, вид у них был печальный и беспокойный. Господин Хосокава учтиво улыбнулся ей в ответ и склонил голову. За исключением господина Хосокавы, никто из мужчин в тот момент не думал о Роксане Косс. Они забыли и о ней, и о ее невероятном пении. Все они глядели на своих жен, выходящих на дневной свет, и думали о том, что, возможно, не увидят их уже никогда. Мужчинам трудно было дышать от переполнявшей их любви. Вот покинули дом Эдит Тибо, жена вице-президента, прекрасная Эсмеральда.
Роксана Косс уже почти достигла выхода, впереди нее было всего человек пять, как вдруг командир Эктор выступил вперед и взял ее за руку. Особой агрессии в его жесте не было. Быть может, он просто хотел ее проводить или переместить в другое место шеренги?
– Espera, – сказал он, указывая на стену, и Роксане Косс пришлось встать поодаль от остальных, рядом с большим полотном Матисса, изображающим груши и персики в вазе. В стране имелись всего две работы Матисса, и эта была позаимствована из музея специально ради приема. Но обескураженная Роксана Косс в тот момент о живописи не думала и смотрела только на переводчика.
– Подождите, – перевел Гэн на английский, стараясь, чтобы это прозвучало как можно милосерднее. В конце концов, «подождите» не значило, что она вообще никогда отсюда не выйдет. Это означало лишь, что ее выход откладывается.
Роксана Косс обдумывала услышанное. Она все еще сомневалась в значении сказанного ей, даже после перевода. Да, ей приходилось ждать в детстве. Приходилось ждать в консерватории, в очереди на прослушивание. Однако в последние годы ее уже никто не требовал ждать. Наоборот, это ее все ждали. А в этой дурацкой стране, на этом дне рождения, в окружении вооруженных головорезов – заставлять ее чего-то ждать посреди такого безумия было уже просто издевательством. Роксана Косс выдернула у командира свою руку так резко, что с носа у него соскользнули очки. Она больше не желала терпеть его прикосновений к своей коже.
– Знаете что, – заявила певица, – хорошенького понемножку!
Гэн открыл было рот для перевода, но передумал. К тому же Роксана Косс продолжала говорить:
– Я приехала сюда, чтобы работать, то есть чтобы петь на приеме, и я свою работу выполнила. Мне велели спать на полу вместе со всеми этими людьми, которых вы по каким-то причинам решили задержать, и я легла на пол. Но теперь с меня довольно!
Она указала пальцем на кресло, где сгорбился аккомпаниатор.
– Посмотрите, – сказала она, – он болен, и я должна быть рядом с ним.
Впрочем, это трудно было назвать убедительным аргументом. Голова у аккомпаниатора упала на грудь, руки безвольно свесились вдоль туловища, как флаги в безветренный день – он больше походил на мертвого, чем на больного. Когда Роксана Косс говорила, он даже не поднял головы. Шеренга женщин остановилась. Даже те, кто уже вышел на улицу, остановились посмотреть, что происходит, пусть они и не понимали, что говорит певица. В эту минуту всеобщей растерянности, в неизбежной паузе, предшествующей переводу, Роксана Косс и вознамерилась покинуть дом. Она решительно устремилась к открытой, ожидавшей ее двери. Командир Эктор бросился вслед за ней и, не сумев поймать руку, крепко ухватил за волосы. Да, такие волосы делают женщину легкой добычей – все равно что связка длинных шелковистых веревок на голове.
Затем одно за другим произошли три события: во-первых, Роксана Косс, лирическое сопрано, издала высокий пронзительный звук, в котором смешались удивление и такая боль, будто, потянув ее за волосы, командир сломал певице шею; во-вторых, все гости, за исключением аккомпаниатора, сделали шаг вперед, показывая, что готовы взбунтоваться; и, в-третьих, все террористы, от четырнадцатилетних до сорокалетних, тут же схватились за оружие и передернули затворы, и от этого металлического клекота все застыли, словно в стоп-кадре. Комната замерла в ожидании, время остановило свой бег – и тут Роксана Косс, не озаботившись даже тем, чтобы расправить платье или пригладить волосы, вернулась на свое прежнее место рядом с картиной, которая, честно говоря, была не лучшим произведением мастера.
После этого командиры начали вполголоса совещаться между собой, и даже рядовые боевики, мальчишки-бандиты, принялись тянуть шеи, чтобы лучше расслышать. Голоса командиров сливались, но можно было уловить слова «женщина», «никогда», «договор». Затем кто-то растерянно произнес: «Она же певица!» Из-за того что командиры склонились друг к другу, разобрать, кто именно это сказал, было невозможно. Может быть, все вместе.
Чтобы захватить человека в заложники, можно придумать повод и похуже. Заложник ценен тем, что его можно обменять – на деньги, или свободу, или на другого, нужного тебе человека. Человек может заменить деньги, если изыскать способ его удержания. Так почему бы не захватить человека в заложники за его драгоценный голос? Не получив то, за чем они пришли, террористы решили взять взамен кое-что другое, то, о чем они и понятия не имели до того самого момента, как оказались на четвереньках в узких туннелях вентиляционной системы. Они решили взять то, что составляло смысл жизни господина Хосокавы.
Роксана стояла у стены на фоне рассыпающихся по холсту ярких фруктов и плакала от досады и разочарования. Командиры спорили все громче, остальные женщины и слуги потихоньку выбирались из дома. Мужчины молча взирали на происходящее, юные террористы держали оружие наготове. Аккомпаниатор, который, казалось, спал в своем кресле, внезапно вскочил на ноги и тоже вышел наружу, поддерживаемый с обеих сторон кухонным персоналом, даже не поняв, что его солистка осталась в плену.
– Так-то лучше, – сказал командир Бенхамин, пройдясь по комнате, которую еще недавно усеивали тела заложников. – Теперь хоть можно дышать.
С улицы доносились крики и рукоплескания, которыми встречали освобожденных. С другой стороны садовой стены засверкали фотовспышки. В суматохе в дом вновь вошел аккомпаниатор – запереть вход никто не удосужился. Он распахнул дверь с такой силой, что та впечаталась в стену, оставив на деревянной обшивке вмятину от ручки. Аккомпаниатора вполне могли пристрелить, но, к счастью, узнали.
– Роксаны Косс там нет! – сказал он по-шведски. Голос его звучал глухо, согласные застревали во рту. – Ее там нет!
Его речь была столь невнятной, что даже Гэн не смог сразу распознать язык. Шведский он изучал в основном в студенчестве, по фильмам Бергмана, сравнивая субтитры со звучащими с экрана словами, так что беседовать по-шведски он мог лишь на самые мрачные темы.
– Она здесь, – сказал Гэн.
Казалось, возмущение ненадолго вернуло аккомпаниатору здоровье. Землистый оттенок его кожи сменился ярким румянцем.
– Всех женщин освободили! – Он размахивал руками, словно пытался распугать ворон на кукурузном поле, на синеющих губах запенилась слюна. Гэн добросовестно перевел его слова на испанский.
– Кристоф, я здесь, – сказала Роксана, помахав своему спутнику рукой, словно прием продолжался и они просто ненадолго потеряли друг дружку.
– Лучше возьмите меня, – простонал аккомпаниатор, и колени его опасно затряслись, грозя снова подогнуться. Это прозвучало восхитительно-рыцарственно, однако все присутствующие прекрасно понимали, что он не нужен никому, а нужна именно Роксана.
– Выбросьте его вон! – приказал командир Альфредо.
Двое парней выступили вперед, но аккомпаниатор, которого, как всем казалось, и охранять-то было не нужно – так жестоко трепал его таинственный недуг, – опрометью ринулся вглубь комнаты и тяжело опустился на пол у ног Роксаны Косс. Один из мальчишек прицелился в крупную белокурую голову.
– Случайно ее не пристрели! – предупредил командир Альфредо.
– Что он говорит? – возопила Роксана Косс.
С некоторой заминкой Гэн перевел.
«Случайно». Вот как это бывает в подобных передрягах. Никакого злого умысла, просто пуля попала чуточку не туда. Задержав дыхание, Роксана Косс мысленно прокляла всех собравшихся в комнате. Погибнуть от руки террориста-недоучки, не умеющего толком прицелиться, – вот уж не так она планировала завершить свой жизненный путь! Дыхание аккомпаниатора снова стало неестественно быстрым и слабым. Он закрыл глаза и прижался головой к ее ноге. Этот душевный порыв полностью истощил силы аккомпаниатора. Секунду спустя он уснул.
– Ради бога! – сказал командир Бенхамин, сделав тем самым одну из серьезнейших ошибок за время всего мероприятия, которое с самого начала было не чем иным, как чередой серьезных ошибок. – Оставьте его там, где он есть!
Как только командир произнес эти слова, аккомпаниатор рухнул лицом вниз, и его начало тошнить чем-то желтоватым и пенистым. Роксана снова попыталась распрямить его скрюченные конечности, на этот раз без чьей-либо посторонней помощи.
– Вынесите его хотя бы на свежий воздух! – воскликнула она со злостью. – Разве не видите, что ему плохо? – Все прекрасно видели, что аккомпаниатору очень, очень, просто ужасно плохо. Кожа его покрылась холодным потом, а цветом стала напоминать протухшую рыбу.
Гэн перевел просьбу, однако она осталась без внимания.
– Оперная певица вместо президента, – сказал командир Бенхамин. – Думается мне, ни хрена приличного мы на нее не обменяем.
– Вместе с пианистом она стоит больше, – попробовал возразить командир Альфредо.
– Да он и гроша ломаного не стоит.
– Оставим ее, – спокойно сказал командир Эктор, и на этом оперный вопрос был закрыт. Эктор говорил мало, но именно его бойцы боялись больше всех. Даже другие командиры проявляли осторожность в его присутствии.
Все заложники, включая Гэна, находились в это время на другой стороне комнаты. Отец Аргуэдас тихо произнес молитву, а затем направился на помощь Роксане Косс. Командир Бенхамин приказал ему вернуться, но тот только улыбнулся в ответ и кивнул головой, словно командир просто неудачно пошутил и его слова нельзя расценивать как грех. Священник только дивился тому, как колотится его сердце и подгибаются ноги. Не от страха быть убитым, нет, он не верил, что его убьют, а даже если и убьют, что ж, пусть будет так. Страшно было от цветочного запаха, от теплого золотистого свечения ее волос. С четырнадцати лет – столько было отцу Аргуэдасу, когда он отдал свое сердце Богу и отрешился от житейских забот, – подобные вещи его не волновали. Откуда же – среди всего этого ужаса и хаоса, среди смертельной опасности, нависшей над головами стольких людей, – возникло это дикое головокружение и ощущение невероятной удачи? Ему просто невообразимо повезло! Повезло, что его выделила среди других Анна Лойя, кузина жены вице-президента, что она обратилась к своей кузине со столь необычной просьбой, что эта просьба была милостиво удовлетворена и ему позволили стоять у дальней стены комнаты и впервые в жизни слушать живую оперу, и не просто оперу, а оперу в исполнении Роксаны Косс, которая была, по всеобщему мнению, величайшим сопрано нашего времени. Одно лишь то, что она приехала в эту страну, что в течение целых суток ей суждено было находиться в том же городе, что и он, уже можно было расценить как великое чудо. Узнав об этом, отец Аргуэдас долго не мог уснуть на своей койке в подвале дома приходского священника. И вот ему позволено ее видеть, и вот волею случая (который, разумеется, может стать предвестием ужасных событий, но тем не менее является, как и всякий случай, выражением воли Божьей) он может помочь ей в ее хлопотном деле по приведению в должный порядок нескладных членов ее аккомпаниатора. Он может вдыхать исходящий от нее аромат крохотных колокольчиков и видеть ее гладкую белую шею в вырезе фисташкового платья. Может заметить несколько заколок, которые она оставила в волосах, чтобы не лезли в глаза. Что это, если не дар небес? Отец Аргуэдас верил, что такой голос может иметь только божественное происхождение, и значит, ему дано приблизиться к воплощению божественной любви. А волнение в его груди и дрожь в руках – вполне естественны. Как же его сердце может не наполниться любовью, когда он оказался так близко к Богу?
Она улыбнулась ему. Ее улыбка была ласковой, но сдержанной, сообразно с обстоятельствами.
– Вы можете мне сказать, почему они меня задержали? – спросила она шепотом.
Стоило ей заговорить, как священника охватило разочарование. Нет, не в ней, ни в коем случае, но в самом себе. Английский! Ему давно твердили, что надо учить английский язык. Как там говорят туристы? «Have a nice way»[3]? Но, может быть, в данном случае это не совсем уместный ответ? Может, это вообще что-то оскорбительное? Или просьба, но о чем? Как пройти туда-то? Где купить пленку для фотоаппарата? Или даже «не найдется ли мелочи»? Он произнес про себя слова молитвы и грустно выговорил одно-единственное слово, в котором был уверен:
– English.
– А-а. – Сочувственно кивнув, она вновь вернулась к своим хлопотам.
Когда вдвоем они разместили аккомпаниатора поудобнее, отец Аргуэдас вынул носовой платок и стер бледную пену с его губ. Никакими особыми познаниями в медицине священник не обладал, но ему куда как часто случалось навещать больных и подавать причастие, которое оказывалось для них последним. И личный опыт подсказывал отцу Аргуэдасу, что этот человек, который еще недавно так чудесно играл на фортепиано, скорей нуждается в последнем причастии, чем в молитвах о выздоровлении.
– Он католик? – спросил он Роксану Косс, касаясь груди аккомпаниатора.
Она понятия не имела о том, в каких отношениях этот человек находится с Богом, и еще того меньше, какой церковью эти отношения регулируются. Она пожала плечами – ну, этот-то жест священник поймет.
– Catlica?[4] – спросил он снова, скорей ради собственного любопытства, и вежливо указал на нее.
– Я? – переспросила она, касаясь своей груди. – Да. – Она кивнула: – Si, catlica[5]. – Всего два простых слова, но она была очень горда, что произнесла их по-испански.
Он улыбнулся. Что касается аккомпаниатора, тут было два главных вопроса: умирает ли он и католик ли он. Когда дело касается загробного упокоения души, действовать надлежит осмотрительно. Если он по ошибке прочитает католические молитвы над иудеем, то в случае его выздоровления отца Аргуэдаса обвинят, что он воспользовался бессознательным состоянием политического заложника. Он похлопал Роксану Косс по руке. Ладошка как у ребенка! Такая белая и мягкая, округлая. На пальце красовался темно-зеленый камень размером с перепелиное яйцо, в ободке из кршечных сияющих бриллиантов. Обычно он, видя женщину с такими украшениями, думал, что лучше бы она пожертвовала его на нужды бедных, но сейчас вдруг представил, какое же это наслаждение – взять такое кольцо и нежно, аккуратно надеть его на палец Роксане Косс. Совершенно неуместная фантазия – отец Аргуэдас почувствовал, как по лбу его заструился холодный пот. А он, как назло, остался без носового платка! Чтобы отвлечься, он отправился к командирам.
– Этот человек… – начал отец Аргуэдас, понизив голос. – Похоже, что он умирает.
– Ничего он не умирает, – возразил командир Альфредо. – Он пытается вытащить отсюда певицу. Притворяется.
– Не думаю. Пульс, цвет кожи… – Он посмотрел через плечо, на рояль, на огромные букеты лилий и роз, приготовленные специально для приема, на аккомпаниатора, лежащего на ковре огромным бесформенным кулем. – Такое не разыграешь.
– Он сам решил здесь остаться. Мы выставили его вон, а он вернулся. Умирающие так не поступают.
Командир Альфредо отвернулся. Потер изувеченную руку. Уж десять лет, как нет этих пальцев, а они все болят.
– Возвращайтесь на свое место, – сказал командир Бенхамин священнику. После того как половина людей ушла, его охватило обманчивое облегчение, как будто решилась половина его проблем. Он прекрасно понимал, что заблуждается, но все равно хотел, чтобы его хоть ненадолго оставили в покое и дали насладиться этим чувством. Комната казалась теперь почти пустой.
– Мне необходимо взять с кухни немного масла для соборования…
– Никаких кухонь, – замотал головой командир Бенхамин и специально, чтобы оскорбить священника, зажег сигарету. Больше всего он жалел, что оба они – и священник и аккомпаниатор – не убрались из дома тогда, когда им было велено это сделать. Нельзя разрешать людям по собственной инициативе оставаться в заложниках. Опыта оскорбления духовных лиц у командира не было, и сигарета потребовалась ему для храбрости. Он потушил спичку и бросил ее на ковер. Хотел было выпустить дым прямо в лицо священнику, но не смог.
– Хорошо, обойдусь без масла, – сказал отец Аргуэдас.
– Никаких соборований! – повысил голос командир Альфредо. – Он не умирает!
– Я спрашивал вас только о масле, – вежливо возразил священник. – О соборовании я вас не спрашивал.
Уже всем командирам хотелось заткнуть ему рот, врезать ему как следует по физиономии, позвать кого-нибудь из боевиков, чтобы тот, приставив автоматное дуло к его спине, загнал его обратно в шеренгу мужчин, но никто из них не мог решиться на подобное. Такова была власть церкви, а может быть, и власть оперной певицы, склонившейся сейчас над человеком, которого они считали ее любовником. Между тем отец Аргуэдас вернулся к Роксане Косс. Она расстегнула верхние пуговицы рубашки аккомпаниатора и прильнула ухом к его груди. Ее волосы так живописно разметались по плечам, что аккомпаниатор наверняка пришел бы в восхищение, будь он в сознании, но пробудить его певица не могла. Не смог этого сделать и священник. Отец Аргуэдас опустился рядом с ним на колени и начал соборование. Возможно, обряд выглядел бы торжественнее, будь он в облачении, будь у него масло, а вокруг свечи, но простая молитва в некотором смысле легче находит пути к Богу. Он надеялся, что аккомпаниатор все же католик. Он надеялся, что его душа поспешит в раскрытые объятия Христа.
– Бог, Отец милосердия, смертью и воскресением Сына Своего примиривший мир с Собою и ниспославший Святого Духа для отпущения грехов, посредством Церкви Своей пусть дарует тебе прощение и мир. – Отец Аргуэдас почувствовал прилив нежности к этому человеку, почти осязаемые узы любви. Ведь он играл для нее! Он день за днем слышал ее голос, находился под его волшебным воздействием. Священник от всего сердца прошептал в мертвенно-белое ухо: – И я отпускаю тебе грехи. – И правда, он прощал аккомпаниатора за все, что тот совершил в своей жизни. – Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
– Соборование? – спросила Роксана Косс, сжав холодную и влажную руку, которая так долго и без устали трудилась для нее. Она не знала испанского, но католические обряды узнаваемы везде. Разрешительная молитва – плохой знак.