Дипломатическая кухня Ходаков Александр
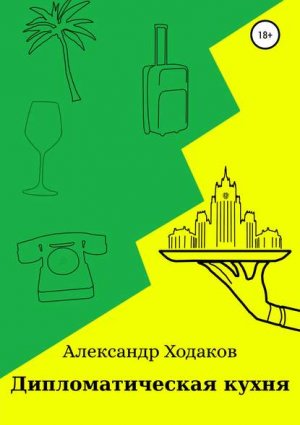
Я готов отстаивать точку зрения о том,
что неправильно считать известную профессию древнейшей.
Древнейшей профессией была дипломатия,
поскольку сначала нужно договориться.
С.В. Лавров, министр иностранных дел России1
Мои языки
Мне было лет шесть, когда мать решила, что я должен учить иностранный язык. Выбрала она немецкий. Почему именно его, выяснить мне так никогда и не удалось. Еще свежа была память о войне, и немецкий был отнюдь не популярен – когда в школе наш класс разделили на группы английского и немецкого, в немецкую группу загоняли из-под палки. Как бы то ни было, с шести лет меня стали учить немецкому дома. О моих первых учительницах у меня воспоминаний не осталось. Да и результатов выдающихся они отнюдь не добились. Тем не менее, одна из них научила меня читать и писать. Вот только алфавит она для этой цели выбрала готический. На нем и читать-то тяжело, а письмо на готике вдвойне тяжелее, поскольку начертание букв с печатными часто не совпадает. Кроме того, для готики характерны резкие линии – рукописный текст больше всего напоминает забор. И хотя в школе я освоил и кириллицу, и латиницу, влияние готики осталось заметным, особенно когда почерк устоялся.
Немки менялись, а особых успехов в языке у меня не было. Пока матери не порекомендовали Альму Константиновну. Она была из немцев Поволжья, и, хотя говорила на хох-дойч, выговор у нее был несколько своеобразный, очень мелодичный. Она и по-русски не говорила, а пела. Альма Константиновна взялась за меня всерьез. К концу школы у меня уже был вполне приличный уровень владения языком. Иными словами, я читал, понимал, писал – вот только говорить свободно не умел. Как и советская школа, Альма не могла научить меня разговорному языку, при том, что сама она говорила свободно. Методиками она пользовалась советскими – других-то не было. Но именно Альма сыграла в моей судьбе огромную роль, когда я впервые оказался перед серьезным выбором.
В школе меня записали в группу английского языка. Мать хотела, чтобы к окончанию школы я знал два языка, что могло дать какие-то преимущества в будущем. Английский в школе давался мне легко. Слова я запоминал моментально, а если надо было делать пересказ текста, текст даже не читал, полагался на удачу. Авось, не вызовут. Если не везло, предлагал учительнице сделку – я сейчас прочту текст один только раз и тут же его перескажу. Почему-то чаще всего она на это покупалась. В общем, по английскому у меня была стабильная пятерка. Но, как большинство советских школьников, свободно говорить на нем я также не умел.
По договоренности с директором выпускной экзамен я сдал и по английскому, и по немецкому. В аттестате зрелости у меня значились два языка, и по обоим стояла пятерка.
Точки бифуркации. Выбор профессии
У О. Генри есть новелла «Дороги, которые мы выбираем». Перед ее героем открываются три дороги. Писатель дает ему три попытки, но конец всегда один – герой оказывается застреленным из пистолета маркиза де Бопертюи. В реальной жизни, однако, выбор, сделанный на развилке дорог – в точке бифуркации, определяет всю дальнейшую жизнь, оставляя за бортом другие возможные варианты. Вернуться назад и все переиграть уже не выходит. Бывает и так, что выбор за вас делает кто-то другой. Со мной это случалось не раз.
Точек бифуркации в своей жизни я насчитал пятнадцать. Столько раз я оказывался перед выбором или был поставлен перед фактом, резко менявшим течение моей жизни. Не знаю, много это или мало. В любом случае, прямым мой жизненный путь не был.
Так, ближе к окончанию школы, классе в восьмом, я начал задумываться над выбором профессии. Было ясно, что я гуманитарий, поскольку интереса к естественным наукам у меня не было, как не было и успехов в них. Алгебра и геометрия были и остались для меня кошмаром. Правда, анатомию и биологию я учил с удовольствием и всерьез интересовался медициной. Может быть, я стал бы хорошим врачом, только вот был я чудовищно брезглив и представить себя в анатомическом театре просто не мог. Я склонялся к тому, чтобы пойти по стопам матери и поступать на журналистику. Или на филологию. Я зачитывался «Словом о словах» Успенского, читал книги по германистике. Стихи, как большинство подростков, тоже пописывал (думаю, были они довольно слабыми). Но публикаций у меня не было, а без них шанс попасть на журналистику был нулевым. Набрать достаточно публикаций за остававшиеся два года было нереально.
Именно здесь на первый план вышла Альма, которая за годы моей учебы сдружилась с матерью. Она заявила, что идти мне надо в МГИМО. Матери эта идея немедленно понравилась, но она сомневалась – в те годы и представить себе нельзя было попасть в МГИМО без блата. Альма встала в величественную позу – при ее корпуленции это удавалось легко – и заявила, что все можно решить.
Она действительно все решила. Блат в те годы процветал, но способы получения вознаграждения за оказание услуг отличались от распространенных ныне. Все было скромнее, участники комбинаций по «поступлению кого надо» старались все же соблюдать приличия. Схема была простой, отработанной до деталей, сбои случались очень редко. Должно было крупно не повезти, чтобы схема не сработала. Преподаватели института – через надежных знакомых – набирали группы школьников, выступая в качестве репетиторов. Официально эта деятельность была, разумеется, запрещена. Репетиторы брали за занятия деньги (обычно рублей десять за урок, то есть это было не дешево) и отрабатывали их, действительно занимаясь с абитуриентами соответствующими предметами: историей, географией, языками, натаскивали так, чтобы от зубов отлетало. Поскольку достать экзаменационные билеты заранее было невозможно, опирались на прошлогодние. Да и несложно было опытным преподавателям спрогнозировать вопросы. Однако на вступительном экзамене натасканному абитуриенту нужно было попасть к «своему» преподавателю. За репетиторство боролось несколько кланов. Попадешь к чужому – пролет, а дальше: «…а для тебя, родная, есть почта полевая».
В МГИМО тогда было три факультета. Факультет международных отношений (МО) – в чистом виде общеполитическое образование. Его закончили многие выдающиеся дипломаты, например, Лавров и Чуркин. Факультет международных экономических отношений (МЭО) – там был курс высшей математики, значит, это не для меня. Я до сих пор не понимаю, как я выпускной-то по алгебре в школе сдал. Факультет журналистики (МЖ) – нет публикаций. Но тут в год моего поступления неожиданно открылся новый факультет – международного права (МП). И я решил стать юристом.
Целый год меня натаскивали по русскому и литературе, истории и географии. Натаскали хорошо. Пошел я сдавать документы в приемную комиссию. И чуть не получил от ворот поворот. Для поступления в МГИМО надо было иметь два года комсомольского стажа. У меня был всего год и четыре месяца. Я и в пионеры вступил позже всех в классе. Так и подмывает написать, что уже тогда я был на инстинктивном уровне диссидентом, но врать не буду – просто принимали в пионеры по торжественным случаям, а я, как назло, в назначенные дни болел. Поэтому и в комсомол я вступил поздно. Мне сказали – стажа нет, документы не примем. Полевая почта вдруг стала пугающе близкой. Пришлось Альме пустить в ход свои связи: за меня заступились, сыграли свою роль и два языка в аттестате, да на счастье была у меня еще похвальная грамота от райкома комсомола за участие в игре «Зарница». Приняли у меня документы, экзамены я сдал на все пятерки. Проходной балл в тот год для школьников был 20 из 20. (Абитуриенты МГИМО делились на две категории: поступающие сразу после школы и так называемые производственники, имеющие не меньше двух лет стажа работы или отслужившие в армии, – для них проходной балл был ниже).
Есть и еще одна пикантная деталь. Моя мать категорически не хотела, чтобы я попал в армию, и, пока я учился в школе, добилась моего медицинского освидетельствования на предмет наличия у меня бронхиальной астмы. Меня обследовали в Боткинской больнице и нашли-таки то ли астму, то ли астматический бронхит – в общем, белый билет (т.е. кто не знает, освобождение от прохождения военной службы) был мне обеспечен.
Когда мы решили, что я пойду в МГИМО, тут-то и обнаружилась засада! В МГИМО брали только тех, у кого было железное здоровье, подтвержденное справкой формы 286 (что само по себе разумно, работать-то приходилось в разных, часто совсем не благоприятных климатических условиях). С белым билетом мне МГИМО не светило. Пришлось срочно отрабатывать назад – я пошел в военкомат и сказал, что хочу в армию, а злые врачи меня комиссовали. Военком страшно удивился. Тогда в армию вовсе не стремились попасть, наоборот – пытались откосить. Но раз сам пришел, меня опять отправили в Боткинскую и через две недели выдали заключение, что я для армии годен. Рисковал я при этом изрядно – не поступив, я попадал под ближайший призыв.
Поступив в МГИМО, я прошел первую точку бифуркации.
Сюрприз – новые языки
После поступления полагалось месяц отработать в стройотряде. А потом состоялось первое собрание студентов, на котором нам сообщили о распределении по языковым группам. В МГИМО было обязательным изучать два иностранных языка. Первый язык преподавался более интенсивно, занятия – каждый день, второй – обычно три или даже два раза в неделю. Второй язык начинали изучать со второго курса и на четвертом сдавали по нему выпускной экзамен, результат которого шел в диплом. Однако на моем курсе решили поэкспериментировать. Второй язык мы начали учить с первого курса и окончательный экзамен сдавали на пятом, перед самой защитой диплома. Тянуть два языка с самого начала для многих было слишком тяжело. Но для меня эксперимент оказался удачным – годы спустя я еще вполне свободно говорю на втором языке.
Сюрприз был в том, что не мы решали, какой язык изучать. Это решало руководство института. Я наивно ожидал, что уж один-то из двух числящихся за мной языков мне и дадут для изучения. Когда с подиума начали объявлять комбинации языков, я не особенно напрягся. Первая группа: английский-польский. (Пять или шесть фамилий). Вторая группа: арабский-французский. Список фамилий. Отчетливо слышен стон в зале. Арабский – явно кому-то не подарок. Третья группа: французский-испанский. Слышу свою фамилию. Не может быть! Я ослышался?! Но больше мою фамилию не называют. Иду проверять – все правильно, третья группа. Спасибо, конечно, что не арабский или японский, но два языка с нуля – не многовато? Иду в деканат, спрашиваю, нельзя ли поменять, чтобы хоть один из языков был либо английским, либо немецким. Мне доходчиво объясняют: или я пойду учить что велено, или я свободен, так как на мое место желающих – навалом (недобравших один балл могли зачислить кандидатом в студенты; если кого-то отчисляли, на его место принимали кандидата). В результате я выучил оба языка, доведя знание французского почти до уровня родного.
Школили нас в институте беспощадно. Послаблений в принципе не делали. Однако некоторым дали все же поменять язык – по всем остальным предметам они успевали, а с языком дело было швах. Но таких было крайне мало. Мне лично очень помогла годичная стажировка в Алжирском университете. Там мой французский стал по-настоящему разговорным. Однако при этом я приобрел характерный акцент выходцев из Алжира, которых во Франции называли «pied noir», то есть «черноногими». Акцент очень узнаваемый – на французское произношение накладывается арабская интонация. Хотя мои преподаватели французского из меня этот акцент старательно выбивали, еще годы спустя он вдруг вылезал, и меня спрашивали, не жил ли я в Северной Африке.
Испанский нам преподавала добрейшая и забавнейшая донья Хуанита. Она была вообще-то не испанкой, а баской из Бильбао и по-испански говорила, забавно пришепетывая. Ее вывезли из Испании вместе с другими детьми республиканцев году в 1936-м, и всю свою сознательную жизнь она прожила в СССР. При этом говорить по-русски без акцента так и не научилась. По-русски у нее получалось еще смешнее, чем по-испански. Она не выговаривала звуки «ш» и «ч», не могла произнести две согласных в начале слова, а сочетание «бж» было для нее просто непреодолимым. До сих пор помню, как мой одногруппник Леха был вызван к доске переводить с русского на испанский.
– Леса, писыте. Этот город…
Леша пишет «esta cuidad» и ждет продолжения.
– Ээ, хоросо…эээ…эсносается…
– Что? – Леша вытаращивает глаза.
– Эсносается… неуверенно говорит Хуанита, начиная подозревать неладное.
– Как? – Леша с блеском изображает крайнее изумление.
– Цитайте сами! – Хуанита запускает в Лешу учебником.
А фраза была: «этот город хорошо снабжается продуктами сельского хозяйства». Для учебника испанского прямо лучше не придумаешь.
Таким образом, в дипломе об окончании института у меня значились французский и испанский языки. Попав на работу в МИД СССР, первые пять лет я отработал в Африке, во франкоязычном Габоне. Испанский я поддерживал, общаясь с дипломатами из Латинской Америки. А английский и немецкий постепенно, но неотвратимо, уходили в глухой пассив.
Псков. Я землекоп
Сдав экзамены за первый курс, я оказался в ситуации, когда никаких планов на лето нет и делать нечего. В таком же положении оказался мой приятель Серега по кличке Киф, с той разницей, что он только что сдал вступительные экзамены в МГИМО. Мы болтались во дворе его дома, не зная, куда себя деть. Все остальные приятели поразъехались на каникулы, и во дворе было пусто.
– Поехали в Псков, – предложил вдруг Киф.
– Почему в Псков? – опешил я. – Что там делать?
– Там Витька, мой одноклассник. Он в МАРХИ учится, у них в Пскове практика в археологическом отряде.
Студентов-архитекторов из МАРХИ на лето посылали на археологические раскопки – это им засчитывалось в качестве практики. Мы не знали, дадут ли нам поучаствовать в раскопках, но поездка в Псков в любом случае была приключением и избавляла от скуки.
Идея овладела массами. Родители, к моему удивлению, даже не попытались нас удерживать, выделили нам сколько-то денег, и на следующий день мы уже ехали на поезде в Псков.
Для Витьки наш приезд был полной неожиданностью. Однако вопрос о том, куда нас девать, разрешился просто. Студенты-архитекторы жили в общежитии местного педагогического института. Нас подселили в комнату, где уже жили Витька и другой студент-архитектор Леня. Хотя многие уехали на каникулы, общежитие было заполнено иногородними абитуриентами. Поэтому комнаты хотя бы на двоих нам не досталось.
Жили мы вчетвером, в общем-то, бесконфликтно. Пока Киф не купил в местной бакалее какой-то исключительно вонючий сыр. И хотя он уверял, что сам чувствует только «легкий запах дыни», мы его поставили перед выбором – или он убирает сыр, или убирается вон вместе с сыром. Тогда Киф вывесил сыр в авоське за окном. Но это не решило проблему – на запах стали сбегаться местные бродячие собаки и выть под окном. Пришлось Кифу недоеденный сыр выбросить.
Чтобы легализовать наше пребывание в общежитии, нас оформили землекопами в археологическую экспедицию. Положили зарплату – 1 р. 10 коп. в день. Хорошо, мы с собой деньги взяли. Они, однако, имеют неприятное свойство неожиданно заканчиваться, что и произошло всего через неделю. Пришлось идти на почту, звонить родителям и просить прислать еще – на рубль десять в день нам было не прожить. При этом на почте мы совершили хулиганский поступок – на виду у всего честного народа отвинтили табличку «Здесь выдаются почтовые переводы» и унесли с собой. Действовали мы спокойно и уверенно, и никто на нас внимания не обратил. На следующий день принесли табличку обратно и привинтили на место. И опять никто нас не просил, что мы, собственно, с ней делаем. Замечу, что фильм «Старики-разбойники» тогда еще не сняли.
Настоящую кражу я совершил в местной столовой. Вдруг страшно захотелось сладкого. Денег же было впритык, на пирожное никак не хватало. Я взял пирожное и, пока очередь двигалась к кассе, сожрал его в один присест. Потом испытывал угрызения совести.
Работать землекопами на археологическом раскопе оказалось легко. Плохо было, когда шел дождь, – норму надо было давать при любой погоде. Зато норма была неутомительной: землекоп должен быть снять слой в десять сантиметров грунта на площади в один квадратный метр. Только не копать, втыкая лопату в землю – таким-то способом можно было норму в десять раз перевыполнить, но при этом все возможные находки было бы нельзя датировать. Поэтому снимать грунт надо было буквально по сантиметру, держа лопату горизонтально, и о любом найденном предмете немедленно сообщать руководителю экспедиции.
В основном находились черепки от битой глиняной посуды. Они за находку не считались. Вот когда я нашел какой-то железный шкворень, меня долго хвалили. К сожалению, выдающихся открытий мы не совершили. Поздно приехали. Слои грунта, относящиеся к векам, когда Псков переживал свой расцвет, раскопали до нас. Нам достался XIV век, а за ним уже становился виден «материк», как археологи называют землю без культурного слоя.
После работы мы обычно компанией гуляли по Пскову, архитекторы делали этюды… Во время одной из прогулок мы попали в забавную ситуацию. На Кифе и мне были стройотрядовские куртки – среди студентов это был в те годы писк моды, и все старались их раздобыть, особенно те, кто в стройотрядах сроду не был. На таких куртках на спине был логотип института, у нас – МГИМО. Когда нас спрашивали, что это за заведение, мы обычно, желая избежать расспросов, шифровались. Отвечали, что это Московский государственный институт мелиорации и орошения. К нам тут же теряли интерес. Однако, когда мы переправлялись на катере на другой берег реки Великой, один из пассажиров, подвыпивший мужичок лет 40, получив обычный ответ на вопрос об институте, расцвел от удовольствия и попытался вступить с нами в профессиональный разговор о мелиорации. Понятное дело, беседу поддержать на сколько-нибудь достойном уровне мы не могли. Мычали что-то невнятное. К счастью, мужичок в основном говорил сам, а переправа длилась недолго.
Вечерами в общежитии устраивались танцы. Леня, как человек более степенный, на танцы не ходил, а мы отплясывали в холле общежития с энтузиазмом. На звуки магнитофона сбегались абитуриенты, тайком протаскивали вино, и веселье продолжалось за полночь. Все это не нравилось коменданту общежития, который регулярно пытался это безобразие если не пресечь, то хотя бы ввести в рамки. В один прекрасный день он решил, что корень зла – это Киф и я, и нам было предложено немедленно выметаться из общежития.
А мы и так уже собирались уезжать. Деньги в очередной раз кончились, оставалось только на обратный билет в плацкарте, да и на раскопе стало неинтересно. Нужно было только ночь продержаться. Гостеприимство оказали абитуриенты – нас тайком провели в их комнаты, а наутро мы отправились на вокзал и к вечеру были дома.
Как откосить от физкультуры
Хотя меня и признали годным к армии, здоровье у меня было не богатырское. В те годы я легко простужался, особенно зимой. Ходить на физкультуру мне совсем не хотелось, особенно бегать лыжные кроссы. Но физкультура была обязательной.
Идея, как «откосить» от физкультуры, родилась у моего товарища по группе Лехи. Он был еще менее спортивен, типа «руки-ноги подвинти». Кстати, Леха вовсе не хотел в МГИМО учиться, его принудил поступать отец, крупный чиновник МИД. Леха же хотел рисовать. На всех занятиях, кроме языка, где группа была маленькой и всех было видно, Леха рисовал. И умел это делать хорошо. Рисунки его были в основном сюрреалистическими, в духе Сальвадора Дали. По окончании института его распределили в МИД, но продержался он там недолго. Вскоре после возвращения из первой командировки Леху вышибли из МИДа за пьянство. Целенаправленно ли он добивался таким образом увольнения, я не знаю. Как бы то ни было, Леха стал вольным художником.
Так вот, каким-то образом Леха прознал, что физкультурной кафедре требуется художник-оформитель для изготовления наглядных пособий и реляций о спортивных успехах. Леха умел рисовать, но не любил делать надписи художественным шрифтом, а я как раз это делать умел. Мы и предложили свои услуги физкультурной кафедре, за что нас освободили от занятий по этому предмету. Плакаты и прочие пособия мы изготавливали быстро и качественно. Нами были довольны. А на старших курсах физкультуры в программе уже не было.
Комсомольский патруль
Хотя нужда в освобождении от физкультуры отпала, нашу художественно-оформительскую деятельность пришлось продолжить, но в новой ипостаси. На нас обратил внимание комитет комсомола. Тогда стремились каждому студенту дать какое-нибудь комсомольское или партийное (были среди нас и члены партии) поручение. Это называлось общественной работой, уклоняться от нее было невместным. За пассивное отношение к общественной работе песочили на комсомольских собраниях. Обычно, правда, этим и ограничивались – выговор означал конец карьеры: в Минсельхоз, может, и взяли бы, а уж в МИД никак.
Зам. секретаря комитета комсомола Толя Торкунов (ныне ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов) предложил Лехе и мне организовать комсомольский патруль. Тогда как раз решили развернуть кампанию по борьбе с опозданиями и прогулами. На нас возложили задачу наглядно оформлять результаты этой борьбы в виде плакатов комсомольского патруля. Хуже было то, что нам пришлось участвовать в отлове опоздавших и прогульщиков, тогда как мы сами принадлежали к этой категории.
В числе прочих комсомольских активистов нас как-то раз вывезли на загородную комсомольскую учебу. Эта учеба, вылившаяся в грандиозную пьянку и танцы-шманцы-обжиманцы, укрепила мое отвращение ко всей этой профанации и показухе, называвшейся комсомольской работой.
Тем не менее, сколько-то выпусков комсомольского патруля мы оформили. Венцом Лехиных творений стала картина «Апофеоз сессии». Идею Леха позаимствовал у Верещагина. На картине была груда черепов, из которых выползала змея в виде двойки. Только грамотей Леха сначала написал «Афипиос», и надпись пришлось переделывать.
Благодаря патрулю я познакомился со своей первой женой. Мы ее поймали за опоздание. Девушка оказалась упорная, молчала как партизан, ни курса, ни фамилии не назвала. Отпустили так. Но я заинтересовался, нашел ее, выяснил, что зовут ее Любой, и начал ухаживать.
Катя
Военная кафедра готовила из нас офицеров-переводчиков. Заниматься военным переводом было гораздо интересней, чем тактикой и гражданской обороной, которыми нас мучали на младших курсах. Да и изучению языка это только помогало. Случались, однако, на занятиях всякие курьезы.
– Товарищ старший лейтенант, а вошь – это самец блохи, да?
Товарищ старший лейтенант хохочет.
Наш преподаватель военного перевода был очень смешлив. На этот раз он хохотал так, что чуть не упал со стула. Хотя ошибиться было можно: вошь по-французски «pou», а блоха «puce», похоже на мужской и женский род.
Про блоху спросила учившаяся с нами Катя – венгерка из Закарпатья. Ее отец был там председателем колхоза-миллионера. По-русски она говорила свободно, поскольку ходила в русскую школу, но все же русский не был для нее родным. Один раз старший лейтенант со стула все-таки упал. Еще в начале курса у нас было занятие, посвященное экипировке. Надо пояснить, что во французской военной терминологии часто используется словосочетание «de combat», что буквально значит «боевой». Французы цепляют это определение чуть не к каждому объекту или предмету. У них танк – «char de combat», военная форма – «uniforme de combat». Старший лейтенант объяснил, что на русский эти слова переводить не надо. Когда Катя «veste de combat» перевела как «боевая куртка» старший лейтенант посмеялся и терпеливо повторил, что не надо это переводить. Но когда Катя «pantalon de combat» перевела как «боевые панталоны», наш старлей в самом деле рухнул от хохота со стула. Мы, конечно, тоже поучаствовали в этом веселье. А Катя обиделась.
Как-то раз один из сокурсников в разговоре назвал Катю бякой. Катя этого слова не знала и решила, что ее назвали другим, неприличным словом на ту же букву. Она страшно оскорбилась и помчалась жаловаться в деканат и секретарю комсомольского бюро. Этого сокурсника у нас недолюбливали, и комсомольская организация с большим удовольствием приступила к разбирательству. Дело чуть не дошло до его отчисления из института. В конце концов, с этой ситуацией разобрались, но страху он, я думаю, натерпелся изрядно.
Вообще же Катя была девушкой очень доброй, на курсе ее любили. По окончании института она какое-то время работала переводчицей в «Интуристе», потом познакомилась там с венгром и уехала с ним на историческую родину. След Кати потерялся.
Кафе «Крымское»
Первые два года наш факультет учился в здании у Крымского моста. О нем упоминается в студенческом гимне, который написал будущий министр Лавров. Напротив, через мост, располагался довольно большой сквер, а в конце его стояло кафе «Крымское». Так себе было кафе, если честно. Однако все лучше студенческой столовой. Поэтому, когда мы бывали при деньгах, отправлялись туда поесть. Однажды такой поход чуть не закончился плохо.
Но сначала легенда. Рассказывали, что однажды в кафе собралась погулять компания наших студентов. Не зеленых вчерашних абитуриентов, но и не умудренных опытом старшекурсников, а потому рано возомнивших о себе студиозов. Компания подвыпила и вела себя несколько шумно. И надо же такому случиться, чтобы с ними в кафе оказался ректор МГИМО, зашедший туда перекусить. Ректор тогда находился где-то на уровне небожителя, и в лицо его из студентов мало кто знал. Далее у легенды есть два варианта: по первому ректор попросил студентов вести себя потише, по второму просто поинтересовался, откуда эти молодые люди. На что получил ответ: «Тихо, папаша, мы дипломаты, люди особого склада ума». Ректор скандалить не стал, но лица запомнил. Студиозов быстро вычислили, и были к ним применены репрессии – какие конкретно, точно не известно. Вроде до отчисления дело не дошло, но выговор вполне могли навесить.
Мы отправились в кафе то ли втроем, то ли вчетвером и не погулять, а просто перекусить. На нашу беду, в меню оказалось вино «Ахмета» – прекрасное полусухое белое вино. Под закуску мы быстро оприходовали одну бутылку и сразу взяли еще одну. На этом деньги кончились. А желание продолжить банкет, напротив, выросло.
Мы расплатились, но на лекцию не пошли, а встали у входа в институт и начали просить денег в долг. Очень скоро настреляли сумму, которой должно было хватить еще на пару бутылок. Вернувшись в кафе, мы и их оприходовали.
Лекцию-то прогулять было просто, но следующей парой был французский. Нас в группе было всего шесть человек, прогул не заметить невозможно. И мы дружно явились на французский. Бедная наша француженка Галина Михайловна! Она нас не выдала и даже словом не попрекнула, а ведь ей пришлось два академических часа дышать нашим выхлопом.
Таким образом, загул нам сошел с рук. Только потом пришлось некоторое время расплачиваться с долгами.
Шашлычная «Риони»
После второго курса нас выселили в Калошин переулок, рядом с театром Вахтангова. Туда же отправился факультет журналистики.
В здании, где мы доучивались до выпуска, раньше была школа. Типовое школьное здание было плохо приспособлено для размещения института, но выбора не было. Новый комплекс МГИМО на проспекте Вернадского еще только строился.
Не могу теперь вспомнить, была ли в нашем здании столовая. Кажется, не было. Но как-то мы перебивались, а когда были при деньгах, отправлялись в шашлычную. Шашлычные вообще были важной частью нашей студенческой жизни. На рестораны у многих из нас денег просто не было, да и попасть в хороший ресторан без блата или мзды швейцару было почти невозможно. Всего раз за все эти годы мне удалось попасть с приятелями в знаменитый ресторан «Арагви». Помню до сих пор даже не шашлык – он был в меру хорош, а декор и ауру, ощущение некой избранности. Но за это надо было дорого платить. А в демократичную шашлычную можно было идти и с нашими деньгами. Лучшей из них считалась шашлычная у Никитских ворот. Там паслись студенты консерватории, это была их территория. Потом шашлычная переехала на Красную Пресню, а в постсоветское время из нее сделали ночной клуб «16 тонн».
«Риони» занимала у нас второе место после шашлычной у Никитских ворот. Их коронным блюдом был шашлык по-карски, на ребрышках. А к нему в меню всегда было красное грузинское, типа «Мукузани» или «Саперави», а если очень повезет, то и «Киндзмараули». «Риони» была на полпути к станции метро «Смоленская». Ее больше нет, на ее месте, когда я в последний раз проходил по Арбату, располагался ювелирный магазин.
Пить вино в перерыве между занятиями мы воздерживались. Времена были еще суровые, можно было и накануне выпуска из института вылететь. Однако как-то раз, уже на пятом курсе, не удержались. Редкий случай – в шашлычную пошли всей группой, хотя особенно дружны между собой мы не были. И распили под шашлык пару бутылок красного вина. При этом время не рассчитали и на лекцию пришли с опозданием. Оказавшийся врединой преподаватель погнал нас в деканат за разрешением явиться на лекцию. Пришлось идти. Мы понимали, что выхлоп наличествует и при разговоре с начальником курса старались держаться от него подальше. Однако нашему студенту из Монголии показалось, что начальник курса сказал нам что-то обидное, он начал бурно протестовать, вплотную приблизившись к обидчику. Мы его от начальника курса оттащили, но тот явно запашок унюхал. Тем не менее, решил не подавать виду. Мы же все были уже накануне выпуска, а выгонять целую группу, да еще студентов с высокими оценками, было явно не с руки.
Много имен и фамилий я за давностью лет забыл, а как звали монгольского студента, помню – Энхсайхан Жаргалсайханы. Коротко – Энхэ. Он сделал блестящую карьеру в Монголии, был постпредом при ООН, послом в Австрии. Много лет спустя, уже в постсоветское время, мы с ним как-то встретились, кажется, в Нью-Йорке.
Фокусы памяти
С преподавателями нам повезло. Историю государства и права нам читали профессора Грацианский и Шавров, римское право – несравненный Кабатов. Юридических дисциплин было много: государственное, гражданское, уголовное право, гражданский процесс, причем все это отдельно для социалистических и капиталистических стран, международное публичное и частное право. На каждой сессии приходилось сдавать пять или шесть экзаменов, а были еще предметы, по которым сдавались только зачеты. Само собой, в программе были и диалектический и исторический материализм, научный коммунизм, история КПСС. Сколько сил и времени потратило мое поколение на всю эту чушь…
Иногда приходилось сдавать предмет, по которому учебника не было. У нас были такие спецкурсы. Например, гражданский процесс капиталистических стран. И вот, бывало, есть вопрос в билетах, а ответа никто не знает, так как конспектировать лекции все поленились. Посему царит всеобщая паника – а что, если я этот билет вытащу? И однажды я-таки его вытащил!
Все, в глазах темно, ни одного ответа на три вопроса не знаю. Сижу, грибочки и узоры на листочке рисую. А преподаватель был вредный, ходил, смотрел, чтобы не списывали. Засек, что я просто так сижу, и говорит: «Я вижу, вы готовы?» А что мне терять? Вышел к экзаменационному столу, и тут у меня как будто магнитофон в голове включился. Говорю: «Первый вопрос – аффидевит». И слышу себя как бы со стороны – я даю определение этому, будь он неладен, аффидевиту. А преподаватель кивает: «Хорошо, давайте второй вопрос». И понеслось. На все ответил, на третий вопрос немного заврался, но простили. Выхожу, народ спрашивает: «Что было?» – «Аффидевит», – говорю. С сочувствием: «Что, два?» – «Нет, – говорю, – пять». – «Ну, ты гад! А говорил, не знаешь про аффидевит!» Но я правда не знал!
Память у меня была хорошая и своеобразная. Видимо, я ее еще с детства натренировал, занимаясь немецким. Языки вообще давались мне легко, слова я запоминал с лету. С другими предметами было иначе – все шло через зрительные образы. Прочитав учебник, я внутренней памятью видел страницы; даже не закрывая глаз, мог себе представить текст. И с него я считывал. Это срабатывало не на сто процентов, но достаточно часто. Такая память называется эйдетической, обычно это бывает у детей и с возрастом утрачивается. Хотя не у всех, взрослых эйдетиков довольно много.
Кстати, эйдетическая память помогает быстрому чтению. Когда я уже вырос до должности директора Правового департамента МИДа, мне приходилось ежедневно прочитывать по нескольку сот страниц разных документов разной степени сложности. Если бы я не научился читать быстро, то ночевал бы на работе.
Как я был трактористом
После второго курса нас послали на «картошку». Поколению, выросшему при советской власти, не надо объяснять, что такое «картошка». У тех, кто родился в ХХI веке, это слово ассоциируется исключительно с корнеплодом. А для нас «картошка» означала принудительный выезд на сельхозработы осенью, на три, а то и четыре недели, обычно в мерзкую погоду, с возвращением как минимум в соплях и с кашлем. Каждую осень тысячи студентов, преподавателей, сотрудников различных институтов и организаций отправлялись «помогать труженикам села убирать урожай». Почему им надо было помогать, становилось ясно по приезде. В большинстве сел и деревень просто не было людей. Без нашего подневольного труда урожай – когда его удавалось вырастить – убирать было некому. Но «картошка» имела еще и идеологическую составляющую, рассматривалась как мероприятие для воспитания в коммунистическом духе.
В нашем институте дисциплина не была пустым звуком. Фактически она была вполне сродни армейской: от формы одежды – не моги прийти без галстука! – до контроля за посещаемостью и чуть ли не за личной жизнью. Задавала тон военная кафедра. Ее офицеры командовали отрядами на «картошке». Конечно, полковники и подполковники на «картошку» не ездили. А вот младшие чины эту лямку тянули. Молодые офицеры особо не зверствовали, к студенческим выходкам относились с пониманием, но обеспечивать дисциплину были обязаны. И в случае серьезного происшествия могли ответить погонами за недогляд.
Вот такое-то происшествие я чуть не устроил. В тот день нас с однокурсником Леней послали «на силос». Силос – измельченные стебли и листья кукурузы – закладывался в длинную яму и утрамбовывался трактором. К моменту нашего прихода на место яма уже превратилась в гору, по верху которой ездил довольно потрепанный трактор. За рычагами сидел местный дядя Вася. Мы время от времени подгребали рассыпавшийся силос к горе. А дядя Вася тем временем оставлял трактор на холостом ходу, спускался с бурта к напарнику, и они принимали на грудь.
Тут мне в голову пришла гениальная идея – поучиться водить трактор. Дядя Вася идею воспринял не сразу. Пришлось его некоторое время уламывать, но потом он позволил себя уговорить, и мы поехали.
Сначала я катался по бурту то вперед, то назад, но довольно скоро такая езда мне наскучила, и я захотел большего. Я выжал сцепление, потянул за рычаг, затем его отпустил и понял, что бросил рычаг слишком рано – трактор начал угрожающе крениться на бок. Дядя Вася вмиг протрезвел, рванул рычаг, и мы задним ходом взлетели обратно на бурт. Из кабины он меня вытолкнул, сопроводив обильными матюками. Я скатился к подножию бурта и попал в объятия командира отряда капитана Мареева. Выражение его лица я описать не берусь. Когда он смог говорить, он только выдавил из себя что-то про трибунал, в который я его чуть не отправил, а еще что-то вроде «вон к черту из отряда, чтоб вас всех растудыть вашу мамашу…». Посмотрел внимательно на меня и на Леню, развернулся и ушел.
А на следующий день к командиру отряда вызвали Леню! Я тут же предложил идти вместе – это же я нарушитель, я гонял трактор и чуть не свалился. Но Леня сказал, что пойдет один – может, не за это вызывают, чего сразу сознаваться. Когда он вернулся, выяснилось, что вызывали как раз за это и угрожали выгнать из отряда. Но Леня меня не сдал. А по поводу выгоняния сказал, что рассосется, им же невыгодно шум поднимать. Так оно и получилось.
С Леней Скотниковым мы потом не раз пересекались по жизни. Одно время он даже был моим начальником. Потом я его сменщиком. Но это уже совсем другая история.
Отбор на стажировку
На стажировку в Алжирском университете я попал случайно, но всякая случайность, как известно, – часть какой-то закономерности. Я и знать не знал, что в конце третьего курса проходит отбор на стажировку за границей. Ходили смутные слухи о том, что дети каких-то бонз ездили в Сорбонну и Оксфорд, но нам это явно не светило. И вдруг меня вызывают к заведующему практикой. Я удивился – практика была на пятом курсе, а я только переходил на четвертый. Меня огорошили с порога: «Вы рассматриваетесь на стажировку в Алжир». Помню, что растерялся и мямлил. Заведующий мне пояснил, что у меня пятерка по французскому и пятерки по всем профильным предметам и поэтому моя кандидатура проходная. Кстати сказать, я стал круглым отличником в первую очередь по материальным причинам – это был единственный шанс получать повышенную стипендию (56 руб.). Обычная стипендия мне не полагалась – ее давали тем, у кого душевой доход в семье был меньше 90 руб., а у нас как раз столько и набиралось.
Вот здесь вступает в дело элемент случайности. Как бы, к слову, ненавязчиво, завпрактикой интересуется, не родственник ли я известному ученому-химику Ю.В.Ходакову. «Родственник», конечно, фигура речи. В советской (и позже российской) бюрократии не было принято вопросы такого рода выяснять в лоб. Получив подтверждение, что я его сын (хотя на самом деле пасынок), завпрактикой изобразил приятное изумление и сообщил мне, что его жена – учительница химии в школе. И надо же такому случиться, что ей для работы позарез нужна книга моего отца. Ее же ни в продаже нет, ни в библиотеке надолго не дают. Несмотря на мою тогдашнюю наивность, намек я понял и сказал, что спрошу у отца, может у него есть лишний экземпляр. Хотя отчим ненавидел такие подходы и некоторое время фыркал и хлопал руками по бокам, выражая свое «фе», под давлением матери книга тут же нашлась. Вручив ее завпрактикой, я узнал, что вопрос о моей стажировке практически решен.
С дальнейшим оформлением нас, однако, мурыжили еще долго. Тем временем я познакомился со вторым стажером, тоже из МГИМО. А с третьим участником этой авантюры, студентом МГУ, мы встретились позже, когда нас, наконец, пригласили на собеседование в Международный отдел ЦК КПСС. Беседовал с нами такой типичный партийный бюрократ – не то чтобы совсем замшелый, но вот держиморда и все. Перед беседой нас под расписку ознакомили с «Правилами поведения советских граждан за границей», за несоблюдение которых можно было поплатиться карьерой. (Как бы сейчас хотелось их перечитать – там был набор потрясающих перлов.) Разговор проходил в режиме монолога. Цековский чиновник нас всячески стращал и договорился до того, что за границей все студенты становятся прогульщиками, ударяются во всякий разврат, пьянствуют, и ничего хорошего из их стажировок не получается. Поэтому незачем нас туда посылать. Мы с Вовой Крохой, напарником из МГИМО, слушали всю эту ахинею спокойно, не пытаясь возражать. А зачем? Наши возражения ничего бы не изменили. Наш же коллега из МГУ прямо из штанов выпрыгивал, пытаясь доказать партийному начальнику, что мы не такие, мы честные, да ни в жизнь, мы учиться едем – в общем, жалко блеял. Чиновник в конце концов сменил гнев на милость, благословил нас на стажировку, и мы удалились. И тут наш третий выдал: «Ну вас в МГИМО и готовят! Он же нашу стажировку гробил, а вы сидите и молчите спокойно, ну у вас и выдержка!» Мы, конечно, загордились, но виду не подали.
Пока суть да дело, мать через знакомых разыскала студентов и аспирантов, побывавших в Алжире, вытрясла всю имевшуюся у них информацию, сделала выводы и запаковала в мой чемодан много чего с моей точки зрения ненужного. Мои возражения она решительно отмела. И слава Богу! Насколько она была права, я обнаружил, только оказавшись на месте.
Алжир. С прибытием
Из-за всей дубовой бюрократии вылетели мы в Алжир только в октябре 1972 года, когда учебный год уже начался. За билеты платили алжирцы, и поэтому мы полетели рейсом «Эр-Альжери», а не родным «Аэрофлотом», и не на каком-нибудь ТУ, а на самой настоящей «Каравелле».
Долетели только часам к двум ночи. Темно, ничего не видно. Спускаюсь по трапу, и в ноздри ударяет непривычный, сильный запах – похоже на цветочный, но с какой-то горьковатой примесью. Этот запах сопровождал нас в Алжире повсюду. Не сразу, но я вычислил его компоненты – цветущие олеандры и печенье на бараньем жире. Вкус печенья тоже оказался… специфический.
Нас встречал представитель консульского отдела посольства, звали его Миша Лебедев, и я его знал по институту. Все обещало пройти гладко, пока на таможне нас не попросили открыть багаж. Тут-то и выяснилось, что наш третий (получивший вскорости подпольную кличку Кутенкин – очень он напоминал бестолкового щенка) загрузил в свой чемодан блоков 20 болгарских сигарет БТ. Он узнал, что в Алжире сигареты дорогие, и решил сэкономить. Про таможню он не подумал. Алжирцы – это в два-то часа ночи – проявили принципиальность. Чуть ли не в контрабанде обвинили, начали с Кутенкина требовать пошлину. Причем сумма оказалась совершенно неподъемной, а у того, как и у нас, вообще никаких денег не было. Ну, консульские работники на то и поставлены, чтобы спасать недоумков вроде Кутенкина. Миша с таможенником удалились в какой-то кабинет, и вскоре все разрешилось. Не помню, оставили ли Кутенкину его сигареты, но с пошлиной отстали.
В результате около четырех утра мы оказались в квартире, как нам объяснили, одного из сотрудников, находившегося в отпуске. Вы-де тут пару дней перекантуетесь, а посольство пока прояснит отношения с университетом. Иными словами, к нашему приезду никто готов не был! Минобразования, по линии которого оформлялась стажировка, не скоординировало нашу отправку в Алжир. Спасибо, хоть о прилете сообщили. Но зарезервировать места в общежитии никто не догадался. И этот прокол очень осложнял нам жизнь на все время стажировки.
Миша сунул каждому по сотне динар, сказав, что отдадим, когда получим подъемные в посольстве, и пожелал нам спокойной ночи. Мы как стояли, так и упали. Сил не было ни на что.
Поход за едой. Бистро с
brochettes
.
Harissa
Проснулись мы поздно, так как в квартире было темно – все ставни были закрыты. Даже не помню, пришло ли нам в голову умыться – нас гораздо больше занимал вопрос о том, чтобы раздобыть какое-никакое пропитание. В самолете кормили скудно, да и прошло уже больше половины дня с тех пор, когда мы ели. Мы распахнули ставни на кухне… и обомлели. Прямо напротив окна стояло апельсиновое дерево, усыпанное плодами. Убедившись, что холодильник пуст, мы решили, что хозяин дома не обеднеет, если мы сорвем по паре апельсинов. Эх, посмотреть бы со стороны на наши рожи… Апельсины оказались горькими, как хина. Сладкие – культурные апельсины, а это дичок, съедобный только на вид. Оставшись, таким образом, по-прежнему голодными, мы решились выйти на улицу.
Там я в первый раз в жизни испытал культурный шок. Описать это ощущение невозможно – все вокруг было чуждым для всех органов чувств. Вид арабских лавок и лавочников в непривычных одеждах, чаны с какими-то разносолами, терпкие запахи, крики на арабском… Попытка задать одному из лавочников вопрос на французском показала, что с общением у нас будут проблемы. Он-то меня вроде понял, но я из его ответа не понял ничего. А ведь я язык знал лучше, чем мои компаньоны.
Но надо было любым способом решить главную задачу – раздобыть еды. Пройдя еще немного, мы учуяли запах жареного мяса и увидели бамбуковую занавеску, за которой явно был вход в харчевню. За занавеской обнаружился мангал, а на нем жарились маленькие шашлычки. Ткнув в них пальцем, мы узнали название – брошет (brochette). Нашего знания языка все же хватило, чтобы заказать каждому по дюжине. Накрывая на стол, хозяин поставил блюдце с красным соусом. «О, кетчуп!» – проявил интеллект Кутенкин. Тут хозяин и шашлычки принес. Кутенкин схватил шампур, обвалял мясо в соусе и с блаженным выражением засунул пол-шампура в рот. Блаженство, однако, было недолгим – мясо он выплюнул, рот раззявил, из глаз полились слезы; сказать ничего не может, только сипит и на рот пальцем показывает. Мы сообразили крикнуть хозяину: «Пива, срочно!» Выпив две бутылки из горлышка, Кутенкин немного оклемался и начал выражать свое отношение к соусу. Исключительно нецензурно.
Пожив какое-то время в Алжире, мы ко вкусу соуса harissa (харисса, или арисса) привыкли вполне. Готовится он из смеси красного перца и горчицы. Я его настолько оценил, что до сих пор кладу чуть ли не во все блюда, порой неумеренно.
Переезд в общежитие
Оформлением в университет посольство занималось крайне неспешно. Неделю мы проболтались в чужой квартире. Район, где она находилась, был довольно приличным, мы гуляли по окрестностям, понемногу обживаясь. Даже в кино сходили – западными фильмами мы тогда избалованы не были, поэтому с удовольствием посмотрели какой-то старый вестерн.
Молодежь в партере, где мы сидели, показалась нам очень простецкой – и одеты кое-как и ведут себя, как в колхозном клубе. Потом мы узнали, что здесь «чистая» публика сидит на балконе, откуда лучше видно, а внизу места дешевле, для публики попроще.
И вот за нами приехали. Из-за нашего позднего прибытия мест в общежитии Бен-Акнун, рядом с которым находился юридический факультет, не оказалось. Нас повезли в общежитие Эль-Харраш на другом конце города. Доставив нас туда, сотрудник посольства буркнул «разбирайтесь тут» и исчез.
Воскресенье. Почему нас нельзя было привезти в рабочий день? Стоим у закрытой двери коменданта общежития. Никого вокруг, даже спросить некого.
Наконец появляется хоть кто-то – мимо, не спеша, идет парень явно старше нас. Удивленно спрашивает (по-французски, угадав иностранцев):
– Вы кто такие и что тут делаете?
– Да вот, мы советские студенты, нас определили в это общежитие. Мы приехали, а никого нет…
– Так ведь воскресенье! Советские? Из Москвы?
– Из Москвы…
– Я – сириец! Зовут Фаузи. По-вашему – Виктор. Я вам помогу, пошли за мной!
И нам помогли. Фаузи собрал нескольких соотечественников, нас накормили, напоили чаем, распределили на ночь по комнатам, где нашлись свободные кровати. Наутро отвели к коменданту и помогли с оформлением. С тех пор я твердо запомнил, что сирийцы нам друзья.
Общежитие в Эль-Харраше оказалось огромным. Корпуса обозначались буквами латинского алфавита – нас поселили в недавно отстроенный корпус N. В нем жили в основном студенты-иностранцы. Нам с Вовой дали комнату на двоих на последнем, четвертом этаже. Кутенкин сначала роскошествовал один в комнате на двоих, потом к нему подселили алжирца Рашида. Уживались они друг с другом с трудом. Рашид жаловался на Кутенкина – шляется где-то до ночи, приходит – будит, затевает в полночь чай пить, чайником гремит, а просьб вести себя потише просто не понимает. Похоже, Кутенкин не прикидывался, а действительно не понимал, французский он так и не выучил – слишком низок был начальный уровень.
Алжирские приятели
Среди приятелей у нас были студенты разных национальностей. Удивительно, что алжирцев среди них было мало. Дружил с нами алжирец Буалем. Он родился в горной Кабилии и был не арабом, а кабилом. Глаза у Буалема были серые, а волосы темно-русые, как у меня. Мне он говорил, что в Кабилии я бы сошел за своего. Зазывал нас в свою комнату и пел под гитару песни запрещенного в Алжире Энрико Масьяса. Я эти песни до сих пор люблю. Пел Буалем с большим чувством, только, сдается мне, временами фальшивил. Кроме песен мы услышали от него немало историй о вражде между арабами и кабилами. Рассказывал он эти истории, понизив голос, и только нам двоим, в отсутствие посторонних. Впрочем, в общежитии никакой вражды не наблюдалось.
Не было тогда и религиозного фанатизма. По-моему, даже мечети в общежитии своей не было. Йеменцы и примкнувшие к ним малийцы время от времени устраивали на лужайке коллективные моления. Студенты из стран Северной Африки над ними добродушно посмеивались.
Теснее всех мы общались с палестинцами – Советский Союз для них был надеждой и опорой, и это отношение переносилось на нас. Хотя иногда они начинали нас доставать претензиями: «Почему СССР не дает арабским странам МИГи последней модели?» Причем говорилось это с нескрываемой и очень искренней обидой. Мы в дискуссию не вступали, как-то отшучивались. Хотя иногда подмывало сказать, что не в моделях МИГов дело, а в умении воевать. Но нам бы этого не простили.
Самым колоритным из палестинцев был Хоттаб. Ему было лет 25, но из-за окладистой черной бороды выглядел он старше. Был он невысоким и грузным (растолстел, лежа в госпитале после ранения, – его случайно подстрелили свои же во время перехода границы после боевой вылазки). Французский Хоттаба был, честно говоря, рудиментарным. Но это не мешало ему быть блестящим, артистичным рассказчиком. Слова в его рассказах лишь создавали канву. Брал Хоттаб непревзойденной мимикой – он не просто рассказывал, он создавал образы, жил ими. Он мог говорить, о чем в голову взбредет: о фильмах, книгах, случаях из жизни… Привирал при этом изрядно, но «какое же слово говорится, не прилгнувши». Когда он бывал у нас, послушать его рассказы приходили из других комнат, народу набивалось столько, что некоторым приходилось стоять.
Как-то раз я над ним не очень хорошо подшутил. Он жил в корпусе напротив нашего, его окно было видно от нас. Увидев, что он дома, я быстро перебежал двор и поднялся на его этаж. Открыл дверь, не постучав, и увидел Хоттаба, стоящего у окна и выливающего на улицу спитую заварку из чайника. Думаю, эта нехорошая привычка и сейчас бытует в алжирских общежитиях. «Айлюль аль-Ассуад!»2 – заорал я. Хоттаб уронил чайник, задрал вверх руки и жалобно, тонким голосом что-то прокричал по-арабски. «Хоттаб, это я», – сказал я нормальным голосом по-французски. Много чего сказал мне Хоттаб, и по-французски, и по-арабски, однако перевести те слова, которые я не понял, отказался. А потом долго меня заклинал так больше не делать. «Убить могут ненароком», – было главным аргументом. Думаю, на самом деле он и в этой ситуации играл, но проверять, убьют или нет, не хотелось.
Надин
Второй наш друг-палестинец был помоложе – примерно моего возраста. Небольшого роста, с типичной восточной внешностью, смешливый, добродушный. По-французски говорил лучше других, поэтому был нашим основным собеседником и ценным источником информации. Особенно вначале, когда мы еще плохо ориентировались в местных обычаях и привычках. Его имя было Абдурахман, то есть «раб [Аллаха] всемилостивого». Меня самого, кстати, часто называли арабским вариантом моего имени – Искандер.
У Абдурахмана был друг Хасан – сириец, преподаватель Политехнического института, постарше нас, но еще довольно молодой. Он жил не в общежитии, а снимал квартиру неподалеку. Мы с Абдурахманом повадились ходить к нему в гости. Он нас поил чаем во внутреннем дворике, а иногда нам перепадало и более существенное угощение, что было очень ценно, учитывая наше полуголодное существование. Общение с Хасаном, однако, было делом утомительным – он не говорил по-французски, и Абдурахману приходилось работать переводчиком. Есть у меня подозрение, что переводчик он был так себе – что не мог передать, просто опускал, все время хихикал, но все же беседа худо-бедно поддерживалась.
И вот сидим мы, пьем чай и степенно беседуем. Вдруг боковым зрением я замечаю, что на балконе второго этажа, выходящем во дворик, кто-то есть. Поднимаю глаза… о, Боже! Там стоит и делает вид, что нас не видит, девушка невероятной, нереальной, неземной красоты. Темные волосы, карие глаза, как у газели, матовая кожа, точеный носик, фигура – на токарном станке делали. Сердце остановилось. Coup de foudre3. Все, я влюбился. Сразу и бесповоротно. А девушка, покрутившись на балконе и постреляв глазами (ну классика жанра), исчезла за дверью.
Как-то все чаще стали мы бывать у Хасана. А девушка исправно появлялась на балконе, но – в соответствии с местными понятиями – нас как бы не замечала. Однажды я к Хасану не пошел. Абдурахман, вернувшись от него, передал мне конверт, сказав, что там письмо для меня. Там было письмо от нее, на французском. Смешное девчачье письмо, наивное, с предложением подружиться. Ей было всего 16 лет, звали ее Насира, а «в миру» – Надин.
И вот тут-то я заметался. С одной стороны, Надин божественно красива (я при этом как-то забыл сделать поправку на мою близорукость; очки я тогда не носил, а Надин вблизи на самом деле не видел), с другой стороны, ей всего 16 лет – какие между нами могут быть отношения, в местные понятия они не вписываются (а что дальше? жениться? а потом?). Короче, чувствовал я себя как тот еж у Стругацких, которому одновременно хотелось идти на четыре стороны.
И тут ко мне пришел Хасан. Естественно, с Абдурахманом-переводчиком. Немного поговорив для приличия о том, о сем, Хасан рубанул: «Искандер, тебе не надо больше ко мне ходить. Насира в тебя влюбилась, у тебя будет только два пути: или на ней жениться, или тебя два ее брата зарежут ночью в переулке. Не надо тебе на ней жениться, слушай меня, я знаю. И на письмо ее не отвечай. Она поплачет и забудет». Абдурахман, пока все это переводил, ни разу не хихикнул. Было не до шуток.
Совету Хасана я, понятное дело, последовал. Тем более, что в Москве меня ждали… Больше мою красавицу я не видел. Но иногда я вижу ее внутренним зрением: на балконе, освещенную солнцем… и мне становится грустно.
Морда не русская
Зимой в общежитии было холодно. Очень холодно – здания не отапливались совсем. Больше всех страдали малийцы и йеменцы, вообще непривычные к холоду. Нам бы тоже было несладко, если бы не предусмотрительность моей мамы. Несмотря на мои вопли: «Зачем? Это же в Африке!» – она сунула мне в чемодан обогреватель. Обычный, советский, с открытой спиралью, жрущий электричество, как свинья – помои. Но за электроэнергию мы не платили, и обогреватель работал почти круглосуточно. К нам приходили погреться из других комнат. Однажды у обогревателя сгорел контакт внутри патрона, и стало нам грустно. Но мы же были советские люди! Мы быстро догадались вложить внутрь патрона монету в 1 копейку, завалявшуюся у кого-то из нас в кармане, и продолжали жить в тепле и неге. А еще у нас была электроплитка. Плитка была не у нас одних, на плитках готовили еду – кто на что был способен. Их использовали и для обогрева, но грели они гораздо слабее, чем наш фирменный калорифер.
Хотя мы и жили в относительном тепле, в феврале я простудился. Из-за этого я не смог поехать на автобусную экскурсию по Сахаре, о чем очень жалел. Но у меня был явный бронхит, и проходить сам по себе он не собирался. К счастью, кто-то подал мне идею обратиться к советским врачам, работавшим в госпитале в Эль-Харраше. Что я и сделал. Только когда я к ним пришел, наши врачи долго отказывались верить, что я свой. Все твердили, что не похож – и морда, дескать, не русская, и патлы до плеч, и одет не так (ну как я был одет… как все студенты), и поздоровался, приложив руку к сердцу, как местный (долго я потом избавлялся от этой привычки)… Наконец, после допроса – где в Москве живешь, какая там станция метро и т.п. – поверили и дали с собой лекарство. Задаром. Через неделю я был здоров. Слава советским медикам.
Однако не только в Алжире отказывались признавать во мне русского. Однажды, будучи в Берлине, отправился я в большой универсальный магазин в поисках нового плаща. Меряю плащи, продавец-немец суетится вокруг, советы дает. Наконец, нашелся нужный мне фасон и размер. Собираюсь идти в кассу. И здесь продавец, извинившись, спрашивает, откуда я. «Акцент у Вас, – говорит, – какой-то чудной». – «Русский я вообще-то, – отвечаю, – наверное, и акцент русский». – «Э нет, – говорит продавец, – уж русский-то акцент мы знаем… А живете Вы где?» – «В Голландии». – «А, это у Вас голландский акцент, как же я сразу не понял!»
Много позже я и мой голландский приятель Рон ван Дартел (впоследствии посол Нидерландов в России) одновременно оказались в Москве, каждый по своим делам. Договорились встретиться, прогуляться по городу и где-нибудь выпить-закусить. Для начала пошли в Столешников. По дороге я рассказывал Рону, как мы студентами ходили в кафе «Белый Аист», находившееся в этом переулке. Однако кафе на месте не оказалось. И здания, где оно находилось, тоже. Пойдя дальше в направлении Тверской, я понял, что родного города не узнаю. На вопросы Рона по поводу окружавших нас архитектурных красот я чаще всего отвечал: «Не знаю…» В конце концов Рон ехидно спросил: «А ты уверен, что родился в Москве?» Я уже ни в чем не был уверен и предложил пойти пить пиво. На Большой Дмитровке мы обнаружили вполне симпатичную пивную. Сели за столик, продолжая разговаривать между собой. Я хотел уточнить, какое пиво есть в наличии, и начал уже задавать вопрос, когда понял, что забыл слово по-русски. Спрашиваю, помогая себе жестом: «Из-под крана пиво есть?» Официант: «Вы имеете в виду разливное?» Я: «Ну да! Как я мог забыть!» Официант: «Не огорчайтесь, Вы очень хорошо говорите по-русски». Увидев мое выражение лица, Рон потребовал перевода. Потом долго хохотал и еще не раз мне напоминал о моем позоре.
Как мы в Алжире выпивали
Со спиртным в Алжире было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что оно не было под запретом, как в соседней Ливии. Плохо, потому что крепкие напитки стоили немыслимых денег (с другой стороны, это и хорошо), а выбор некрепких – вина и пива – был довольно ограниченным. Да и они были для нас недешевы. Поэтому выпивали мы редко. В основном позволяли себе попить пива, а вино покупали дешевое, не в бутылках, а в бумажных пакетах. Качество его было, прямо скажем, не блестящим.
В общежитии магазинов не было, да если бы и были, спиртное продавать им наверняка бы не разрешили. Зато была кантина (столовая), где за пару динар можно было пообедать. Тарелок в кантине не держали. Выдавали подносы с углублениями, куда на раздаче клали еду. Как в фильмах об американских тюрьмах. Меню не отличалось разнообразием: кускус с овощной подливкой, вареная чечевица, макароны, артишок, который надо было самому чистить, кусочек рыбы или вареного мяса. О чечевице я до Алжира только слышал, но на вкус она мне вполне понравилась, как и кускус. Да и голод не тетка. Однако со временем все приелось, и мы стали себе позволять сходить в кафе в городе, поесть жареного мяса и выпить пива. Увы, обходилось это раз в пять дороже, чем еда в кантине. Поэтому баловали мы себя не часто.
Однажды консьерж Буалем принес мне уведомление с таможни – на мое имя пришла посылка, надо ее получить. Я удивился, поскольку никакой посылки не ждал, но на таможню поехал. Помыкался, пока нашел нужный кабинет – как и везде, порядка никакого, предъявил квитанцию, таможенник нашел посылку. Все правильно, на мое имя.
– Что у тебя там?
– Не знаю…
– Тогда открывай.
В посылке оказалась буханка черного хлеба и бутылка водки – мать решила меня порадовать. К водке таможенник и прицепился.
– Это водка? Надо платить пошлину (называет какую-то чудовищную сумму).
– Вы что! Я бедный студент! У меня нет таких денег!
– Студент, а водку пьешь! Как так?
– Но я же русский! Это национальный напиток. И скоро праздник – Первое мая, мне на праздник прислали (на ходу сочинил).
– Ну ладно, – вдруг смягчился таможенник. – Забирай. Но много не пей.
Надо ли говорить, что водку мы с Вовой выпили в тот же вечер. До 1 мая она не дожила. Да и хлеб не задержался. Интересно, что за три недели, пока посылка неспешно ехала до Алжира, хлебу ничего не сделалось. Съели мы его с превеликим удовольствием.
Идея отметить 1 мая, однако, не умерла. Кутенкин с нами праздновать не стал, отбыл к каким-то знакомым, которыми он обзавелся, и в качестве третьего к нам примкнул наш приятель-югослав. Звали его Душан, но он требовал, чтобы его называли Бифти. Прикинув потребности, мы закупили вина, белого и красного, в целом девять литровых пакетов. И вечером сели пить. Закуска была довольно скудной: местный сыр, который почему-то всегда, независимо от сорта, отдавал мылом, говяжья колбаса, которая была настолько постной, что на вкус напоминала картон, да апельсины с мандаринами. Цитрусовые были очень дешевыми, ведро мандаринов стоило столько же, сколько килограмм картошки. Ели мы их первое время от пуза. После возвращения домой я на них год смотреть не мог.
Девять пакетов мы позорно не осилили. Выпили восемь. После чего нас разобрало петь. Мы с Вовой задушевно исполнили «Вот кто-то с горочки спустился», потом «Катюшу». Бифти пытался подпевать. Потом начал требовать спеть хором что-нибудь, что мы все знаем. Единственным возможным вариантом оказался «Интернационал». Его и исполнили, мы по-русски, Бифти по-словенски. Еще и окно распахнули, чтобы всем лучше слышно было.
А «Интернационал» (как и компартия) в Алжире был запрещен! И за его исполнение можно было нехило огрести. К счастью, никто в общежитии не понял, что мы там пели. Только спросили: «Это вы вчера так орали?»
Поглядевшись наутро в зеркало, мы себя не сразу узнали. Я пошел зелеными пятнами, а Вова – какими-то фиолетовыми. И мы зареклись пить местное вино в таких количествах.
Переводчик «Зенита». Тренер Зонин
И тут в дверь постучали… А я только встал, по обыкновению проспав первую пару (да уже и вторую тоже с учетом пути). Ввалился какой-то посольский (позднее я узнал, что это был культурный атташе)4 и без предисловий заявил, что меня привлекают к работе в качестве переводчика футбольной команды «Зенит», приехавшей в Алжир на дружеский турнир. Оп-па! Полчаса бешеной гонки на машине – он, оказывается, всегда так ездил – и я уже среди футболистов. Наверное, такие же чувства испытывал пес Шарик, оказавшись у профессора Преображенского. Вот свезло, так свезло! Пятизвездочный отель в курортном местечке Сиди-Феррюш, одеяла из верблюжьей шерсти, ванна с пеной, ресторан с роскошнейшим буфетом – ешь-не-хочу. Что еще нужно бедному мерзлому студенту для полного счастья?
Однако полного счастья не бывает – должна же быть ложка дегтя. В этом случае их было две: стояла отвратительная погода, и тренер команды Зонин был, с моей точки зрения, абсолютным бурбоном.
В феврале в Алжире трудно ожидать хорошей погоды, но нам совсем уж не повезло. Все время лило, и на тренировках, и на играх. Мокрыми были все: игроки, зрители, которых было позорно мало, тренер и я, потому что мне приходилось быть при тренере. Незабываемая картина: бросившийся за мячом вратарь едет по площадке на пузе, а из трусов у него бьют два фонтана воды.
Зонин школил игроков и весьма в этом преуспевал. В ресторане мы сидели за отдельным столом «для руководства», причем Зонин сидел спиной к залу. Официант вез на тележке бутылки с вином и пивом. Мелькнула рука одного из игроков – движение было моментальным – и бутылка пива исчезла под его столом. «А ну, поставь на место», – сказал Зонин, не повышая голоса. Бутылка вернулась на место. Зеркал на стене перед нами не было. Как он увидел попытку нарушения режима?
Ко мне он приставал с глупостями по поводу длины моих волос и вообще демонстрировал характер. Дисциплину он действительно поддерживать умел. Что не помогло «Зениту» показать сколько-нибудь приличный результат. Участвовали в турнире четыре команды – две алжирских, румынская и наша. Выиграл «Зенит», по-моему, всего одну игру. Ну, не суть. Когда поболеть за команду приехал советник по культуре посольства, Зонин меня неожиданно похвалил за перевод, но не преминул наябедничать, что у меня-де прическа, недостойная советского студента. Советник, правда, пробурчал что-то неразборчивое.
Я никак не думал, что меня еще будут выдергивать, как редиску с грядки, и снова требовать подвизаться в роли толмача. Я вполне осознавал, что до высот профессионального перевода мне еще очень далеко. Одно дело – перевод для тренера футболистов, там много не надо, практически бытовой уровень. Другое дело – перевод на серьезном уровне. Куда уж нам…
Переводчик Габриловича
Вскоре в дверь снова постучали. Уже знакомый культурный атташе хмуро пояснил, что штатный переводчик посольства вчера напился холодного пива и потерял голос, а надо обеспечить перевод на встрече со зрителями известного сценариста Евгения Габриловича. Я было начал робко возражать, мол, вы что, не мой это уровень, не справлюсь я, опозорюсь перед публикой… Мне было велено надеть приличные штаны – и вперед! Со штанами, однако, возникла трудность. От кускуса и чечевицы в столовой общежития я заметно раздобрел, и брюки не желали застегиваться. Кое-как я с ними справился, но остаток дня они мне отравили.
Дальше по известному сценарию – полчаса гонки, и я на месте. А на месте – в «Синематеке», типа киноклубе, где должны были показывать фильм Габриловича «Монолог» (он тогда только вышел). Перед этим Габрилович будет выступать перед зрителями. А о чем он собирается говорить, скорее всего, он и сам не знает.
Стою я на сцене рядом с Габриловичем, на меня смотрят из зала человек сто (так мне казалось, хотя, наверное, меньше), в первом ряду сидит советник по культуре с актрисой Чуриковой5. Ноги ватные, пот течет по спине. В общем, «щас умру». Габрилович как заговорил – и говорит, и говорит… Тут я сообразил взмолиться: «Стойте, – говорю, – дайте же перевести, я столько не запомню». Как-то перевел. Даже вроде ничего не забыл. А Габриловича снова понесло – я быстро приспособился ему в бок локтем тыкать, мол, стойте, переводить буду. У него речь образная – метафоры, шутки всякие. Я перетолмачиваю, зал реагирует – смеются, где надо, слушают внимательно. Минут 40 он говорил, а я уже на полном автомате переводил. Закончил он, надо со сцены уходить, а у меня ноги подкашиваются, не могу идти, ослабел. Под руки меня увели. Сел в первом ряду, стал фильм «Монолог» смотреть. Ничего из фильма не запомнил. Только Марину Неелову.
Но это было еще не все! С подачи советника по культуре, которому мой перевод понравился, на следующий день меня доставили в посольство переводить Габриловича на встрече с дипломатическим корпусом. Теперь не могу вспомнить, трусил я или нет. Наверное, трусил. Перед дипкорпусом опозориться было куда страшнее, чем перед публикой в «Синематеке». И вот опять стою я рядом с Габриловичем, и опять его несет волна вдохновения и он говорит красиво, а я перевожу, и все идет хорошо… И вдруг Габрилович выдает текст, цитируя кого-то из великих: «Искусство бывает горячим, бывает холодным, но не бывает теплого искусства – это помои»6. Дойдя до слова «помои» я впал в ступор. Стою, молчу. Вспомнить не могу. На заборах везде написано «ordures», то есть мусор, или помои, один черт. Вывернулся в конце концов, когда на меня уже зашипели, сказав, «это – ничто». До сих пор переживаю этот позорный момент. Однако все обошлось. Габрилович сказал советнику, что переводчик очень квалифицированный, но переводит как-то немного формально, как-то слишком дипломатично. М-да… Слава Богу, больше ко мне до конца стажировки с переводами не вязались.
Бумердес
В 45 км к востоку от столицы Алжира расположен город Бумердес. В те годы Бумердес считался «русским городом». Щедротами советского правительства в нем был организован для обучения местных специалистов «Африканский центр нефтехимии и текстиля», где работало несколько сотен советских преподавателей. Так что услышать на улице русскую речь можно было едва ли не чаще, чем арабскую или французскую.
В какой-то компании мне встретился студент из Бумердеса, который очень хвалил этот город и предложил мне приехать в гости. Переночуешь-де у нас в общежитии, сходим на концерт – должна была выступать знаменитая арабская певица.
На поездку за пределы столицы мне вообще-то надо было получать разрешение у начальства университета. Но я решил съездить так. Всего же на один-два дня. Как ехать, мне объяснили – всего-то надо было сесть на поезд и выйти в Бумердесе. Там меня обещали встретить.
На вокзале я узнал, что билеты на поезд есть трех классов. Первый был не по карману, да и второй показался дороговат. Ехать вроде недалеко, и я взял билет третьего класса. Когда подошел поезд, я глазам не поверил. Я думал, такие поезда бывают только в фильмах о Диком Западе. Паровоз с высоченной трубой, из которой валил черный дым, обшарпанные вагоны. Правда, застекленные, но из-за грязи стекла были почти непрозрачными. А пассажиры! В мой вагон третьего класса набились какие-то феллахи7 с козами. И от феллахов, и от коз невыносимо воняло.
Поезд останавливался у каждого куста. Я боялся проехать и все время спрашивал: «Бумердес?» Наконец, мне сказали: «Бумердес» – и я кинулся к выходу. Пока ехали, стемнело. На платформе я стоял один. Светил одинокий фонарь. Из темноты раздался голос: «Искандер?» Слава Аллаху! Встречают, не обманули.
Бумердес оказался вполне современным и симпатичным городком. Действительно, на улицах разгуливали русские, целыми семьями с детьми. У певицы голос был потрясающий, но под конец я устал. Три часа арабской музыки – это много.
На следующий день я возвращался на поезде в Алжир. За мной увязался увязались мой знакомый и несколько его приятелей. Увидев, что я собираюсь покупать билет, они сказали, что поедут зайцами, а если придут контролеры, будут показывать им мой билет. Мне эта идея не понравилась, но протестовать было бессмысленно – они в своей стране. И контролеры пришли. Мои компаньоны начали играть с ними в кошки-мышки. Видимо, алгоритм был отточен практикой – контролерам так и не удалось поймать их за руку, в нужный момент билет оказывался у того, кого проверяли. Контролеры плюнули и ушли.
А я вернулся в общежитие, обогащенный опытом езды в третьем классе.
На стажировку в посольство
В университет мы записались вольнослушателями, поэтому экзамены сдавать могли по желанию, то есть могли вовсе не сдавать. Поскольку я на лекции ходил весьма нерегулярно, то просто побоялся завалиться на экзаменах и ничего сдавать не стал. Вова поступил так же, но он больше опасался за свой уровень французского (по иронии судьбы, впоследствии он стал синхронным переводчиком именно с этого языка). Честно говоря, я даже не столько боялся экзаменов, сколько поленился. Да и если бы я получил степень бакалавра, чем бы она мне помогла – рассуждал я в оправдание своей лени. Как же я потом об этом пожалел! Но кто же мог тогда знать, как оно все обернется…
Когда наступило время экзаменов, в университете нам стало делать нечего. Можно было бы и уехать из Алжира. Однако наш приятель Миша посоветовал нам попроситься на стажировку в посольство. Сам Миша как раз собирался в отпуск, я мог бы занять его место в консульском отделе, Вове бы нашлось место в экономическом. Дополнительных денег мы бы не получили, но набраться какого-никакого опыта работы было совсем не лишним. К тому же Миша предложил на это время переселиться в его квартиру недалеко от посольства. А нам уже осточертело жить в общежитии, тем более что летом в квартале Эль-Харраш изрядно пованивало.
И мы начали работать в посольстве. Спасибо, Миша! За два месяца я приобрел бесценный опыт, который не раз мне пригодился. Многочисленные инструкции, порядок оформления разных документов и главное – общение с людьми, которые приходили в консотдел со своими проблемами. Колония в Алжире была большая, и проблем было немало.
Консул, Иосиф Евгеньевич Колесников, дело свое знал. Уже в летах, он был очень подвижным и, с моей точки зрения, несколько излишне хлопотливым. Работали в консотделе жены дипломатов, молодые толковые женщины, которые мне терпеливо объясняли тонкости делопроизводства.
Несмотря на свой опыт, один раз на моей памяти консул чудовищно прокололся. Нам объявили, что с инспекцией приезжает заместитель начальника консульского управления. В те годы это был уровень почти небожителя. Все сотрудники получили указание навести идеальный порядок на рабочих местах. Указание было принято к исполнению, к визиту мы были готовы. Но высокого гостя забыли встретить в аэропорту! Он приехал на такси. На консула было жалко смотреть, он осунулся и почернел лицом. Ждали грандиозного разноса, но гость оказался человеком вменяемым и репрессий за разгильдяйство не последовало.
Похищение детей
Отдельная категория посетителей консотдела – так называемые совгражданки. Это советские женщины, вышедшие замуж за алжирцев (чаще всего студентов, учившихся в СССР) и постоянно проживающие в Алжире. Консульские сотрудники их не любили. Ведь чуть что – те бегом в консотдел: «Помогите!» Ну а как должен консул разруливать, к примеру, семейный конфликт в алжирской семье? Для многих из них жизнь складывалась совсем не так, как они ожидали. Адаптироваться к местной культуре, вписаться в среду, стать своими для многочисленной родни удавалось не всем. И жалели этих женщин, и помогали, чем могли, а они жаловались начальству. Но были и вышедшие замуж более чем удачно.
Настало время заканчивать стажировку и уезжать. Однако на пути нашего отъезда оказалось неожиданное препятствие. После нашего прибытия университет оформил нам временные виды на жительство, на 3 месяца. Их надо было поменять на постоянный документ. Когда мы пришли в полицейский комиссариат Эль-Харраша, в выдаче вида на жительство нам отказали, а равным образом отказали и в продлении временного вида. Жалоба университетскому начальству не помогла. Нам объяснили, что у комиссара Эль-Харраша помутился рассудок, и он не продлевает документы иностранным студентам. Вообще никому.
– А как нам дальше жить? – спросили мы.
– А так и живите, – ответили нам.






